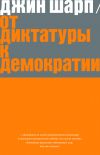Текст книги "Историки железного века"

Автор книги: Александр Гордон
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 29 страниц)
И если на официальных заседаниях сектора Поршнев «выпадал», то рискую предположить, что в основе случившегося разобщения была отнюдь не «невоспитанность», а, наряду с обостренной неприятием в научных дискуссиях раздражительностью, завышенная требовательность, которой далеко не все сотрудники сектора соответствовали. Не стану упрощать. Манфред и Далин отнюдь не утратили творческого потенциала, и их лучшие работы были еще впереди.
Развело этих ученых по большому счету различное отношение к историописанию. Под благовидным для начальства предлогом подготовки к 175-летию Французской революции Поршнев замыслил трехтомник по истории Нового времени (общим объемом в 150 а.л.). Проект разрабатывал (и неоднократно перерабатывал) Адо. Проспект[573]573
Проспект коллективного труда «Великая французская буржуазная революция XVIII века» в трех томах. М., 1962.
[Закрыть] был разослан по вузам Союза, вызвав многочисленные отклики (наиболее содержательные от В.С. Алексеева-Попова). Несколько лет шли заседания редакционной коллегии, выявившие не только идейно-теоретические противоречия между Поршневым, с одной стороны, Манфредом и Далиным – с другой (главным образом в оценке якобинской диктатуры), но и различный научный подход.
Коротко, Поршнев стоял за проблемность, его оппоненты – за классический нарратив. Замысел Б.Ф. как обычно был грандиозным. Он предлагал раскрыть предпосылки Революции не от конца Старого порядка (по Токвилю и советскому канону), а от начала XVIII в.: «По-настоящему кануном революции был весь XVIII век. Он ее готовил»[574]574
Протокол заседания редколлегии 31 июля 1962 г. Материалы находятся в архиве «Французского ежегодника», и я пользовался ими с любезного согласия главного редактора А.В. Чудинова. О перипетиях полемики см. в моей книге: Великая французская революция в советской историографии. М., 2009. С. 216–226.
[Закрыть]. Думаю, Б.Ф. виделась «реанимация» отвергнутой «корпорацией медиевистов» и развитие концепции XVII в. как эпохи несостоявшейся буржуазной революции в контексте толкования всего всемирно-исторического процесса как «восходящей кривой великих революционных конфликтов»[575]575
Поршнев Б.Ф. Роль социальных революций в смене формаций // Проблемы социально-экономических формаций. М., 1975. С. 35.
[Закрыть]. Манфред изначально выступал за «хронологическую последовательность» изложения, а не «по проблемам». Поршнев искал компромисс: «Весь вопрос в том, чтобы найти меру хронологизации», «наша задача – не летопись»[576]576
Протокол заседания редколлегии 15 мая 1962 г.
[Закрыть].
Однако новаторского, в меру задуманному Б.Ф. и одновременно соответствовавшего возможностям рабочего коллектива (в основе из сотрудников сектора), приученного именно к хронологически-страноведческому нарративу, компромисса найти так и не удалось. Издание трехтомника было отменено.
Фиаско коллективного проекта стороны расценили по-разному. Адо, разрабатывавший замысел Поршнева, был очень расстроен[577]577
Бовыкин Д.Ю. Анатолий Васильевич Адо: образ и память // Памяти профессора А.В. Адо. М., 2003. С. 50.
[Закрыть]. А Манфред говорил мне, что в таком виде, как было задумано (Поршневым) и представлено (Адо), издание стало ненужным. Его мнение, что история Революции оказалась подмененной всемирной историей, разделяли и другие коллеги.
Так или иначе Б.Ф. и среди специалистов по новой истории оказывался «вне корпорации». И его возраставшая в 60-х годах популярность в научной среде была, можно сказать, «внекорпоративной». Честно скажу, моему восприятию положения дел в секторе ближе оценки Туполевой. При том могу объяснить свое расхождение с Оболенской различием академического статуса.
Мы одновременно с ней в 1961 г. поступили в аспирантуру. Она, после долгих жизненных испытаний, в очную, я в заочную, «без отрыва от производства», которым оставалась ФБОН. С.В. рассматривала отношения Поршнева с окружением «изнутри» корпорации, на этот раз новистов. Я оставался человеком «сторонним». И откровенно сказать, мне было легко в отношениях с Б.Ф.
То ли таинственное родство душ, то ли элементарное взаимопонимание, но я неизменно чувствовал себя свободно, невзирая на стандартную иерархию и чисто ситуационные обстоятельства. Так было, начиная с самого экзамена при поступлении в аспирантуру. Хотя в научные руководители мне предназначался Манфред, экзаменовал именно Поршнев. Мы даже поспорили с ним относительно ленинских оценок якобинцев. Я говорил, что эти оценки были по преимуществу положительными до Октября и стали более критическими после 1917 г., Поршнев не соглашался. Эпизод запомнился по контрасту с тем, как меня «засыпали» на госэкзамене в университете: непривычной была обстановка, когда экзаменующие выясняют не объем памяти, а способность мыслить и готовы уважать мнение экзаменуемого.
Отчитываюсь в секторе о работе над диссертацией. Выступают рецензенты. Ф.А. Хейфец, упрекая в недооценке предшественников, называет меня «Иваном, не помнящим родства». Я охотно подтверждаю ее правоту, уточняя, что не признаю «родства» по отношению к знаменитому «кирпичу» 1941 г. по истории Французской революции, на которой ссылалась Фанни Ароновна и в котором ее перу принадлежали соответствующие главы этого коллективного издания[578]578
Французская буржуазная революция. 1789–1794. М.; Л., 1941.
[Закрыть]. Далее я, однако, свидетельствую о высоком уважении к первому поколению советских историков, напоминая, что моим учителем был Захер, один из лучших среди них. Поршнева заметно позабавил весь эпизод, а признание мной, что я и есть «непомнящий Иван», вызвало у него восклицание типа «вот дает».
Следующее, окончательное обсуждение диссертации. Б.Ф. уже не заведует сектором и не является его сотрудником, но пришел поучаствовать. Выслушав мое историографическое введение, делает раздраженным тоном упрек: «У Вас получается, как у Гегеля. Абсолютная идея блуждала, блуждала, пока не попала к нему в голову». Я заверил Поршнева, что так и думаю: «А как же иначе, ведь моя задача здесь обосновать то, что достигнуто мной». Б.Ф. только руками развел. После обсуждения Манфред, ставший руководителем сектора, и Далин возмущались: «Зачем он пришел? Чтобы раскритиковать нашу работу?». Потом обратились с некоторым недоумением ко мне: «Но к Вам он почему-то хорошо относится».
Наверное, описанное было с моей стороны проявлением того специфического «монологизма», в котором самого Поршнева упрекали даже расположенные к нему коллеги[579]579
«Включаясь в острые современные дискуссии… автор защищает с присущим ему научным темпераментом и решительностью лишь одну из имеющихся… точек зрения» (Момджян Х.Н., Токарев С.А., Анцыферова Л.И. Предисловие // Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории… 1974. С. 10–11).
[Закрыть]. А вот чем мне, в отличие от коллеги (которая тоже описала это «мероприятие»), запомнился юбилейный банкет Б.Ф. (60 лет) в ресторане «Прага». Приведу запись, опубликованную в 2005 г. (до появления воспоминаний Оболенской), с некоторым сокращением.
«Собравшиеся дружно провозглашают здравицы, и особенно это удается Э.А. Желубовской, Л.И. Зубоку, М.М. Карлинеру.
Я чувствую себя крайне неловко из-за своего стороннего положения (как “заочник” я не был членом сектора). Приглашение на банкет меня озадачило: вроде как от меня что-то ожидается, а состязаться в хвалебных речах не научен. Мою неловкость обостряет Манфред. Предоставляя мне как председательствующий слово, он по своему обыкновению добавляет пафоса. Оказывается, я представитель французской культуры и должен… сказать нечто с присущей этой культуре галантным остроумием». Я и сказал: «Мы тут слышали много тостов. Одни были хорошие, другие – разные. А вот вино неизменно было хорошим. Выпьем за то, чтобы у юбиляра за его столом всегда водилось хорошее вино».
Поршнев захохотал и, обернувшись к Альберту Захаровичу, сказал: «Поздравляю Вас с таким учеником». «Что, что он сказал?» – заинтересовался тот, а за ним и другие, явно меня не слушавшие. «Он сказал, что истина в вине», – с ходу сформулировал юбиляр[580]580
См.: Гордон А.В. Б.Ф. Поршнев. С. 45.
[Закрыть].
В секторе говорили, что банкет с таким широким представительством сектора в целом (за столом собралось человек 30), был задуман Б.Ф. из-за честолюбия и желания позитивного отклика на свою деятельность. Сотрудники, что называется, «откликнулись» да так, что мне при чувстве благодарности (именно Поршнев взял меня в аспирантуру) и неизменном уважении к нему становилось неприятно. Нельзя сказать, что Поршнев был равнодушен к лести, но тут, видимо, случился «перебор», и мой «cтерильный» тост он одобрил.
Запомнившимся от юбилейного банкета стало слово Поршнева об учениках. «У меня два ученика, – провозгласил он, – Адо и Кучеренко. Я им передал две свои темы – крестьянских восстаний и социалистических идей». Об Адо Б.Ф. говорил с явным удовольствием, даже гордостью: хорошо работает, последовательно разрабатывает тему крестьянских восстаний. Геннадием Семеновичем был недоволен: робок, давно мог завершить работу о Мелье публикацией книги[581]581
Следует заметить, что в 1964 г. Г.С. представил кандидатскую диссертацию «Судьбы “Завещания” Жана Мелье в XVIII веке». А спустя три года одноименную монографию с предисловием Поршнева. Подробнее о преемственности между Поршневым и Кучеренко см.: Гладышев А.В. Три советских историка французского коммунизма: Волгин, Поршнев, Кучеренко // ФЕ. 2007. С. 199–212.
[Закрыть]. Получился бы приоритет для советской историографии. Принцип приоритетности, оставшийся, очевидно, от «космополитчины», неоднократно упоминался в его речах, что уже воспринималось в пору Оттепели анахронизмом.
Думаю, многое в поведении, да и психике Поршнева объясняет стиль научных дискуссий, сложившийся при сталинщине и заимствовавший ритуал партийных чисток. Они начинались прямо с идеологических обвинений, быстро переходили в использование ярлыков. Обвиняемый подвергался воспитательной проработке со стороны коллектива, добивавшегося его «полного разоружения перед партией». Требовалось покаяние в своих «ошибках», к которым относилось отступление от «генеральной линии» партии, а в данном случае – от «мейнстрима» в виде коллективного мнения коллег и господствующей в «корпорации» позиции.
В пору Большого террора к обычным средствам «научной» борьбы добавилось обращение «в инстанции» в форме прямых доносов в партийные, государственные и карательные органы. В послевоенные годы это стало называться «обращением по пяти адресам»: тогдашняя персональная оргтехника ученых, пишущие машинки, допускала размножение в пяти экземплярах. При таких средствах борьбы сложной была и позиция оппонентов Поршнева. В случае вмешательства идеологического аппарата – что нередко случалось в тогдашних дискуссиях – их легко можно было обвинить в покушении на классовый подход, методологическую основу советской науки.
Е.В. Гутнова, историограф из лагеря его противников и автор очень информативных мемуаров, вспоминала: «Было очень трудно выступать против трактовок Поршнева. Тем не менее наши медиевисты отважились на это, поскольку согласиться с этой концепцией означало, по сути дела, вообще отказаться от серьезных научных исследований, вернуться от изучения общегражданской истории к изучению истории классовой борьбы, как это уже практиковалось в двадцатые годы (курсив мой. – А.Г.)»[582]582
Гутнова Е.В. Пережитое. М., 2001. С. 266–267.
[Закрыть].
Интересное как ретроспективная самооценка одной из сторон, это мнение страдает бьющим в глаза преувеличением. Столкнулись две научные позиции, и обе стороны в условиях идеологического режима, усугубившегося «космополитчиной», максимально использовали аргументы из арсенала политической борьбы. Господствовала характерная для советских научных дискуссий с 30-х годов беспощадность[583]583
Смену тона дискуссий между советскими историками с разъяснительного на разоблачительный следует датировать, как я попытался установить, началом 30-х годов (см.: Гордон А.В. Власть и революция: Советская историография Великой французской революции. 1918–1941. Саратов, 2005. Гл. 2).
[Закрыть]: «И столько мучительной злости / Таит в себе каждый намек, /Как будто вколачивал гвозди /Некрасова здесь молоток» (О.Э. Мандельштам). Даже «более умеренные», по оценке Гутновой, оппоненты Поршнева, требовали его «полного разоружения»[584]584
Гутнова Е.В. Указ. соч. С. 267.
[Закрыть].
Чтобы понять всю остроту полемики, инициированной Поршневым, следует вспомнить общий контекст событий рубежа 40– 50-х годов, того, что происходило в стране, в исторической науке, в той же медиевистике. Конечно, справедливо замечание, что Поршнев выступал «возмутителем спокойствия» и что это плодотворно в творческом отношении[585]585
«Если это опубликовать, они вас разорвут…» Беседа с И.Н. Осиновским / Публ. А.А. Митрофанова // ФЕ. 2010. С. 381.
[Закрыть]. Но ни общество, ни профессиональное сообщество на финише сталинского правления отнюдь не было спокойно.
В медиевистике шла борьба, где главной мишенью стали ее лидеры: академик Е.А. Косминский (1886–1959), руководитель сектора истории Средних веков Института истории и одноименной кафедры на истфаке МГУ, а также профессор А.И. Неусыхин (1898–1969) и в Ленинграде заведующий кафедрой истории Средних веков Университета О.Л. Вайнштейн (1894–1980). У двух последних дополнительным фактором явился обострившийся с «космополитчиной» этнический признак.
Происходила смена поколений, которая из-за специфики бытия советской науки тех лет становилась борьбой не только за научную карьеру, но и за само существование. И, по слову А.Я. Гуревича, «то была битва, в которой историки новой, послевоенной формации победили “стариков” – старые кадры, интеллигенцию совершенно другого покроя»[586]586
«Быть дольше в стороне мне казалось невозможным…» (последнее интервью А.Я. Гуревича, 11 июня 2006 года). Опубл.: НЛО. 2006, № 81. – Режим доступа: http://magazines.russ.ru/ nlo/2006/81/int10.html
[Закрыть]. Поршнев был на стороне Косминского, опубликовав рецензию на его книгу, за которую тоже подвергся обличению. А против, заодно со случайными людьми, выступали некоторые выдающиеся историки, включая В.В. Бирюковича и С.Д. Сказкина, заместившего в результате Косминского в руководстве кафедрой МГУ и сектора в Институте истории.
Обстоятельно обозревшие конфликт в корпорации медиевистов тюменские историки Сергей Витальевич и Татьяна Николаевна Кондратьевы во многом правы. «Почти каждому хотелось стать классиком»[587]587
Кондратьев С.В., Кондратьева Т.Н. Указ. соч. С. 50.
[Закрыть], что в реалиях научной жизни советского времени означало представить свою позицию предельно ортодоксальной, а при возникавших разногласиях – единственно ортодоксальной. О том же писала Гутнова: «Ситуация отразила стремление советских историков разных направлений к монополизму, к абсолютизации своих взглядов на историю, к недопущению разномыслия (курсив мой. – А.Г.)»[588]588
Гутнова Е.В. Указ. соч. С. 267.
[Закрыть]. Причиной были не только научные амбиции, но и элементарные, особенно в 30–50-х годах, требования самосохранения, ведь различие мнений не допускалось идеологическим режимом науки.
Похоже, Поршнев «азартней» (вспомним оценку Манфреда) доказывал свою ортодоксальность. Но в том ли дело, что утвердившееся в советской медиевистике направление обеспечивало больший «сюжетный» (тематический) и особенно «дискурсный» плюрализм, чем допускал поршневский «монизм»[589]589
Объясняя негативное отношение к поршневским обобщениям, современные авторы пишут, что коллеги «не желали принимать его слишком последовательный… монизм. Историки, думается, все-таки хотели бы права на разнообразие исследовательских сюжетов, если уж подходу суждено было оставаться одному – марксистскому» (Кондратьев С.В., Кондратьева Т.Н. Указ. соч. С. 203).
[Закрыть]? В ряду предлагаемых объяснений полезно задержаться на тех образующих конфликта, что соотносятся с метаморфозами усвоения марксизма в советской науке. В дискуссии по теории феодализма столкнулись две формы этого усвоения – экономоцентризм и классовый детерминизм. Экономоцентризм выкристаллизовался еще в дореволюционной историографии, где представал «экономическим материализмом», в 20-е годы он был потеснен классовым детерминизмом, но возродился с необходимыми формационными «добавками» после разгрома «школы Покровского».
Для исследователя социальных движений экономоцентризм, принимавший форму техноэкономического детерминизма, объяснения всего исторического процесса сдвигами в производстве, представлял несомненную удавку. Под предлогом установления «объективных закономерностей» – а объективной, в конечном счете, представлялась лишь динамика роста «производительных сил» – вопрос об историческом субъекте, о людях как «творцах истории» (Маркс) отходил на задний план. Возникала перспектива «обесчеловечивания» истории[590]590
См.: Поршнев Б.Ф. Социальная психология и история. С. 8.
[Закрыть]. От этого как «от противного» и отталкивался Поршнев, используя другую из допустимых официальным учением возможностей и полемически доказывая, что сама экономика, конкретно феодального общества, является «насквозь классовой»[591]591
Цит. по: Кондратьев С.В., Кондратьева Т.Н. Указ. соч. С. 228–229.
[Закрыть].
Оппонентам его попытки выстроить «диахроническое» единство исторического процесса представлялись чрезмерной схематизацией, а подчеркивание универсальной роли классовой борьбы – «социологизированием», тем более, что сам Поршнев отнюдь не боялся напоминать о методологическом опыте ранней советской историографии (без нормативных ярлыков). Он открыто допускал возможность полноценного изложения всемирной истории по схеме преподавания, принятой до 1934–1935 гг., как «восхождение от одной эпохи социальной революции к следующей», чтобы «всемирная история выглядела бы как восходящая кривая этих великих революционных конфликтов»[592]592
Поршнев Б.Ф. Роль социальных революций в смене формаций // Проблемы социально-экономических формаций: историко-типологические исследования. М., 1975. С. 35.
[Закрыть].
Гутнова в историографической оценке корпоративного конфликта угадала главное. Поршнев в этой схватке предстал историком из раннего периода советского историознания[593]593
О том же сказал А.Я. Гуревич: Поршнев был «человеком другого поколения». См.: «Быть дольше в стороне мне казалось невозможным…». См. также: Чеканцева З.А. Рецепция творчества Б.Ф.Поршнева во Франции и Советском Союзе // ФЕ. 2007. С. 23). Интересно замечание Т.Н. Кондратьевой, что большое влияние на Поршнева в бытность работы в Публичной библиотеке им. В.И.Ленина оказал ее директор, профессиональный революционер и видный историк, занимавшийся методологическими проблемами, В.И. Невский (Quaestio rossica. 2017. Vol. 5. N 2. P. 854). Разделивший судьбу многих профессиональных революционеров и историков-марксистов первого поколения Невский был расстрелян 26 мая 1937 г. (через несколько месяцев после Фридлянда).
[Закрыть], из того направления, что было заклеймено ярлыком «школы Покровского», выданным научному сообществу партруководством. Начиная с 30-х годов было сказано немало о слабостях раннего советского историознания. Но следует ли ограничиваться слабыми сторонами?
Догматика классового подхода представала тогда (мы видели в первых главах) в самом откровенном виде, но, наряду с ней, был полет творческого воображения, пренебрежение дисциплинарными перегородками, широта и смелость обобщений. На смену пришла вышколенность в буквальном и переносном смысле. Приспосабливаясь к выстроенному в течение 30-х годов и закрепленному «Кратким курсом» канону, историки замыкались в узко корпоративных рамках, прячась за фактографию и цитатничество, ища при этом и отчасти находя – воспоминания Гутновой и в этом отношении красноречивы – различные лазейки для творческой мысли.
Поршнев пренебрегал сложившимися правилами игры историков с идеологическим режимом, ставя под угрозу описанный способ уклонения от засилья догматики. Коллегам претило и стремление Поршнева, скорее подсознательное, выйти за пределы того дисциплинарного канона, который ученые выстроили сами в порядке немало самозащиты и даже самосохранения.
Стоит, однако, дать ретроспективную оценку такой корпоративной самозащите. Выдающийся медиевист следующего поколения Арон Яковлевич Гуревич (1924–2006) не симпатизировал Поршневу в столкновении с «корпорацией». Но по мере становления как творческой личности он сам, что продемонстрировано в тонком историографическом очерке П.Ю. Уварова, оказывался уже «не очень свой» для нее. По поводу вышедшей на излете Оттепели книги «Проблемы генезиса феодализма» он мог услышать: «Советские медиевисты так долго добивались того, чтобы к ним относились как к идеологически выдержанной и правильно мыслящей когорте ученых, и вот Гуревич своей книгой все это разрушил, и мы опять оказались перед сложными проблемами, преследованиями, гонениями»[594]594
Уваров П.Ю. Между «ежами» и «лисами»: Заметки об историках. М.: НЛО, 2015. С. 103.
[Закрыть].
И сам Павел Юрьевич, вступивший в научную жизнь в начале 80-х, слышал от коллег-медиевистов те же слова. Но он член этой самой корпорации и склонен проявлять великодушие: не за себя боролись – за «престиж корпорации». Само собой, то была пресловутая партийность («культура партийности», утверждение которой мне довелось живописать[595]595
Гордон А.В. Великая французская революция в советской историографии. М.: Наука, 2009. Гл. 2.
[Закрыть]) в ее, так сказать, приходском или, ближе к изучаемой эпохе, цеховом варианте. Но сколько в отношении «из рядов выходящего» коллеги было заботы о корпорации и сколько о себе в корпорации?
Скорее соглашусь с Уваровым в другом – важнейшим слагаемым корпоративной солидарности, или «корпоративной этики» оставался страх. И хотя, как он – опять же справедливо – уточняет, реальностью новой идеологической кампании был переход не к Террору, а к «застою», даже старина Неусыхин боялся ареста! Арестованный в начале 30-х, ошельмованный в конце 40-х и умирая в конце 70-х, академик Лев Владимирович Черепнин (1905–1977) в предсмертном забытьи повторял: «Я не виноват». Тем более все это было актуально в конце сталинского правления.
В какой степени повальное чувство страха было присуще Поршневу? Мне трудно судить о 1949-м. Возможно, он считал, что начавшаяся кампания «борьбы с космополитизмом» его не касается. Когда коллега спросил Б.Ф. о причинах идеологического погрома, в который вылилась «космополитчина», тот философски ответил: «Готовить нужно народ к новой войне. Она близится»[596]596
Из дневников Сергея Сергеевича Дмитриева / Публикация Р.Г. Эймонтовой // Отечественная история. 1993. № 3. С. 147.
[Закрыть].
Что же им двигало? Может быть азарт, «упоение в бою», о котором писал поэт и которое было присуще Поршневу с его темпераментом бойца (Е.Б. Поршнева на этот счет очень красноречива) в высшей степени? Может быть, наконец, надежда получить санкцию партийных инстанций, которая ему как беспартийному была особенно нужна?
Как «беспартийный большевик» Поршнев был озабочен утверждением партийности своей позиции. А присуждение Сталинской премии, легко предположить, явилось для него, говоря современным языком, «драйвером» в навязывании своей концепции. Впрочем, как и «драйвером» для тех оппонентов, кто посчитал себя обиженными.
Поршнев отлично знал, что идеологические расхождения могут обратиться в уголовную статью. Виктор Петрович Данилов рассказывал мне в 90-х годах: когда на рубеже 60–70-х (при разгроме методологического сектора М.Я. Гефтера) «обсуждали» Л.В. Данилову, Поршнев заявил: «Раньше таких расстреливали, а теперь мы будем воспитывать». Во время дискуссий об абсолютизме нечто подобное он услышал из уст самого, пожалуй, принципиального своего оппонента Бирюковича.
Владимир Владимирович Бирюкович (1893–1954), однокашник Я.М. Захера (см. гл. 3), занялся народными восстаниями периода Фронды параллельно с Поршневым и даже, по утверждению ленинградских историков В.И. Райцеса и О.Л. Вайнштейна (а к их мнению присоединилась в своей диссертации «Исторические взгляды В.В. Бирюковича» О.И. Зезегова, историк из Сыктывкара), несколько раньше. Он и докторскую диссертацию защитил годом раньше Поршнева, причем непосредственно по теме французского абсолютизма.
Ему, как говорится, были и карты в руки. Да вот что примечательно. Разногласия между двумя историками обнаружились десятилетием раньше возникшей дискуссии. И велись достаточно корректно по сути, хотя Поршнев в качестве официального оппонента (в статусе профессора) упрекнул диссертанта в том, что тот «идет не в ногу» с коллективом исследователей абсолютизма, считающих последний властью дворянства. Положительную оценку диссертации Поршнев тем не менее дал[597]597
Cм. ИМ. 1939. № 5–6. С. 279.
[Закрыть].
И вот спустя 10 лет Бирюкович переводит дискуссию не просто в идеологическую область – этот перевод и так стараниями обеих сторон состоялся – а в морально-политические претензии к личности оппонента[598]598
Такой перевод дискуссии на личность Поршнева, знаменитый прием ad hominem – знаменательно – применил и другой не менее профессионально подготовленный оппонент Поршнева Сказкин.
[Закрыть], к тому, что тот проявляет неуважение к Партии в образе парторганизации Института: «Я давно живу на свете и слышал, как выступали враги народа против нашей партии, как выступали троцкисты, зиновьевцы. Они так же смешивали с грязью, обливали грязью партийную организацию, партийные решения, но даже некоторые из них были скромнее, чем профессор Поршнев». С.Л. Утченко, попеняв за эту угрозу, заявил, что Поршнева пригласили на партсобрание Института не на «экзекуцию», а для «воспитания»[599]599
Кондратьев С.В., Кондратьева Т.Н. Указ. соч. С. 222.
[Закрыть].
Не сомневаюсь, что этот пассаж тоже был выстраданным для Бирюковича. Видимо, ему досталось в 20-х от «троцкистов-зиновьевцев» и ему долго (стал членом ВКП(б) в 1939) приходилось доказывать свою лояльность в статусе «беспартийного большевика». Что сказать? Запущенный в очередной раз механизм идеологического погрома, в очередной раз актуализовал известную со времен якобинского террора позицию «Умри сегодня, чтобы я дожил до завтра».
Как эта позиция реализовывалась в поведении самого Поршнева? Кучеренко высказывал предположение, что, афишируя свою верность марксизму-ленинизму в одних вопросах, Б.Ф. создавал нечто вроде завесы для своих не слишком ортодоксальных положений в других[600]600
Разговор был, понятно, давний, передаю суть. Еще при жизни Поршнева доводилось нам с Геннадием Семеновичем обсуждать между собой азартность Б.Ф. в отстаивании «нашей марксистской позиции».
[Закрыть]. Пассаж на тему «воспитательной экзекуции» Поршневу во всяком случае крепко врезался в память, и он воспроизвел эту скрытую угрозу идеологических баталий, когда ему случилось оказаться в большинстве.
О 60-х вспоминает Оболенская: Б.Ф. «предупредил меня, что повсюду, в том числе и в нашем Институте, есть люди, сотрудничающие с “органами”, советовал быть внимательной к некоторым персонажам у нас, назвал два имени, которые я называть не хочу, тем более, что и тогда, и теперь эти имена вызывают недоверие и усмешку». С.В. назвала мне эти фамилии ближайших помощников Поршнева. И я с ней согласился, скорее в данном случае можно говорить о мнительности Б.Ф. Но ведь и последняя была реакцией на вполне реальные условия. Ведь и Манфред предупреждал Оболенскую о той же опасности. «Все, все они были ушиблены – репрессиями или угрозами репрессий», – заключает дочь Валериана Валериановича Оболенского, крупного советского и партийного деятеля, расстрелянного в 1938 г., и сама подвергшаяся репрессиям.
Даже если репрессии обозначали себя только угрозами и даже если последние не затрагивали ни жизнь, ни возможность заниматься наукой, эффект был поражающий. В начале 70-х к Манфреду приехала кузина из Франции. Приехала неожиданно, и А.З. не успел, как положено, предупредить кого надо и тоже, как было положено, кого-нибудь пригласить. Во время общения искушенный в советских порядках профессор выглянул в окно и после отъезда сестрицы пожаловался жене: «притащила хвост». Обернулась сия оплошность временным исключением Манфреда из рядов «выездных»[601]601
«Время заставляло думать о революции…» (беседа Д.Ю. Бовыкина с вдовой Манфреда Надеждой Васильевной Кузнецовой) // ФЕ. 2006. С. 10.
[Закрыть].
Екатерина Борисовна в своих проникновенных воспоминаниях утверждает, что в жестоком столкновении с коллегами-медиевистами, закончившемся изгнанием с истфака МГУ и из Института истории, отца «в первый раз… убили как историка»[602]602
Поршнева Е.Б. Реальность воображения. С. 543.
[Закрыть].
Разумеется, пресловутые оргвыводы сделали свое гнусное дело, но отнюдь не перекрыли Поршневу путь к историческим исследованиям. И об итогах его первой битвы за «свою» историю можно сказать по-другому. В творческой судьбе Поршнева было покончено с закрепленным корпоративной этикой стандартом специалиста по одной стране, одной теме, одному виду источников. Более того, в полемике конца 40-х – начала 50-х годов можно видеть, помимо прочего, стремление Поршнева к междисциплинарности, попытку преодолеть разрыв между историками и философами, историками и политэкономами.
Характеризуя дискуссию об основном экономическом законе феодализма, он отметил: «Историки сплошь и рядом не подозревают, насколько отличаются фундамент и метод науки политической экономии… от способа работы и мышления в исторической науке. Если по отношению к капитализму они связаны почтением к “Капиталу” Маркса, хоть и знают его, в лучшем случае, в изложении Каутского[603]603
Речь идет о книге К. Каутского «Экономическое учение Карла Маркса», впервые опубликованной в 1886 г. и многократно издававшейся в русском переводе (последний раз в 1956 г.)
[Закрыть] … то в отношении докапиталистических способов производства они резво предаются кустарничеству, уверенные, что это их дело, что их-то тут и не хватало». В результате «гора импровизаций в науке, чуждой им как доколумбова Америка – европейцам».
Доставалось от Поршнева и политэкономам: «Плачевное зрелище представляют и главы по докапиталистическим способам производства в учебниках по политической экономии, как и немногие сочинения экономистов на эту тему от Г. Рейхардта до К. Островитянова. Да, политическая экономия – наука обобщающая, абстрактно-аналитическая, но как быть, если тебе нечего обобщать и анализировать, не от чего абстрагироваться? Исторические знания тут отсутствуют, либо мизерны и фрагментарны… Поэтому историки отбрасывают с непочтительным смехом эти сочинения экономистов»[604]604
ОР РГБ. Ф.684. Картон 19. Ед. хр. 7. Л. 6.
[Закрыть].
Не добившись признания свой позиции со стороны коллег, Поршнев тем не менее преуспел в научной самореализации. Результатом стало опубликование в 1964 г. монографии «Феодализм и народные массы», куда в переработанном виде вошло все написанное о феодализме в конце 40-х – начале 50-х годов. Учтя обвинение, что он лишает экономический базис определяющей роли в развитии общества, Поршнев обстоятельно подвел под классовую борьбу экономический фундамент, включив в монографию «Очерк политической экономии феодализма»[605]605
Опубликованный ранее (1956) отдельной книгой «Очерк» приобрел широкую известность в СССР и был переведен на китайский (1958), чешский (1959), румынский (1967) языки. Готовился даже японский перевод, сохранился автограф предисловия (ОР РГБ. Ф.684. Картон 19. Ед. хр. 7. Л. 1).
[Закрыть].
Сама монография была защищена в марте 1966 г. как докторская диссертация по философии. Академики Ф.В. Константинов, Т.И. Ойзерман, другие специалисты по истмату высоко оценивали вклад историка в теорию формаций; и их поддержка и связи в центральном партийном аппарате имели немаловажное значение для Поршнева, как в дискуссии среди медиевистов, так и позднее, когда он подвергся жесткой критике антропологов, зоологов и представителей других естественных наук.
В столкновении Поршнева с корпорацией медиевистов были не только методологические или психологические компоненты. Поршневу претила фактография, уход в нарратив, в описание источников, особенно, может быть, характерное для этой отрасли тогдашнего советского историознания. И, напротив, поршневская страсть к теоретизированию, к широким обобщениям, игра исторического воображения откровенно раздражали коллег. «Поршнев… был человеком смелой мысли, – признавал Гуревич, – но мысли, которую… приходилось определять как crazy[606]606
Безумная, бредовая.
[Закрыть] … Он выдумывал совершенные фантомы»[607]607
Гуревич А.Я. «Быть дольше в стороне мне казалось невозможным».
[Закрыть].
Одним из таких «фантомов» в глазах части коллег-медиевистов была народная Фронда французского «смутного времени» первой половины XVII века. Медиевисты до сих пор размышляют над редким случаем серьезного международного влияния советской исторической науки, столь очевидного, что та пора получила во французской историографии определение «le temps porchnevien». К счастью, не все готовы присоединиться к мнению, что этот эффект был «сродни славе ярмарочного монстра»[608]608
Копосов Н.Е. Советская историография, марксизм и тоталитаризм // Одиссей. Человек в истории. 1992. М., 1994. С. 65.
[Закрыть].
П.Ю. Уваров популярность монографии Поршнева[609]609
Porchnev B.F. Les soulèvements populaires en France de 1623 à 1648 /éd. par R. Mandrou. Paris, 1963.
[Закрыть] во Франции объясняет буквально в двух словах: «соблазнительная простота концепции, железная логика, подкрепленная обильным цитированием источников»[610]610
Уваров П.Ю. Между «ежами» и «лисами». С. 117.
[Закрыть]. Такая историографическая концепция, надо сказать, тоже впечатляет «соблазнительной простотой».
Cпециалист по народным восстаниям в XVII века Ив-Мари Берсе более красноречив. Он обращает внимание на два порока французских исследований этой темы и этой поры: парижецентризм и политократизм. Иными словами, исследования Фронды во Франции сосредотачивались на борьбе в столице за высшую власть в государстве. И потребовалось, действительно, немало воображения, чтобы, как это сделал Поршнев, показать общенациональное значение локализованных жакерий.
Однако, полагает Берсе, в конечном итоге Поршневу не хватило все же воображения. Вот уж забавный речевой контрданс с Гуревичем! В чем это, по мнению французского историка, выразилось?
В склонности Поршнева приписывать участникам восстаний мотивы и роли «в соответствии с той исторической драматургией, которая представлялась ему плодотворной и жизнеподобной», распределить «героев и статистов, предводителей и жертв» и «для каждого заранее начертить определенную линию поведения»[611]611
Берсе И.-М. Размышления о том, как пишется история // ФЕ. 2007. С. 29–35.
[Закрыть].
В сущности, то был общий порок советской исторической науки. И не только советской. Берсе напоминает, что до полноценного утверждения исторической антропологии в форме (ограниченной) «истории ментальностей» оставалось еще десятилетие и для работы с феноменом массового сознания Средних веков и раннего Нового времени не было научного инструментария.
Похоже, Поршнев понимал эту слабость своего подхода, и его поворот к исторической психологии выглядит вполне логичным. Культура не только финансировалась, но и изучалась в ту пору по «остаточному принципу», а сфера сознания – и индивидуального, и общественного – была задавлена «теорией отражения», доведенной до самых вульгарных пределов в духе популярных в те же времена частушек.
Поэтому обращение к исторической психологии выглядело многообещающим и было встречено в профессиональном сообществе с энтузиазмом. Вышел ряд новаторских исследований на тему массовых настроений в различных странах и различные исторические эпохи. При этом методологически концепция Поршнева по ее первой публикации[612]612
Поршнев Б.Ф. Социальная психология и история. М., 1966.
[Закрыть] не казалась плодотворной, и отказ Гуревича, который тоже в это время «выходил» к субъектности и в котором Поршнев искал союзника, понятен.
А вот объяснение этого расхождения заслуживает анализа. Гуревича не удовлетворила в книге Поршнева, которую тот представил ему на рецензию, неопределенность источниковой базы[613]613
«У него была одна глава, где была ссылка на исторический источник, и этот источник был – Полное собрание сочинений В.И. Ульянова. Ульянов был большой политический тактик, в гениальности, в умении поворачивать индивидов, партии и массы ему никто не может отказать… Была глава… где было собрано много материала о том, как надо себя вести в русле меняющихся условий, в ситуации Февральской революции и т. д.». «Но где же исторический источник? Что мы с вами, Борис Федорович, как медиевисты можем извлечь из этих разговоров? – заявил Гуревич Поршневу”» (Гуревич А.Я. «Быть дольше в стороне мне казалось невозможным»). Вот именно – КАК МЕДИЕВИСТЫ!
[Закрыть]. Однако в отношении исторических феноменов массового сознания и массовой культуры и база Гуревича не выглядит обнадеживающей. Арон Яковлевич разделял в известной мере традиционное, «корпоративное» понимание источника, отождествляющее его с документом, письменным актом, принадлежность и дату которого можно фиксировать. Это исключало возможность источниковедческого подхода к фольклору или ритуалу.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.