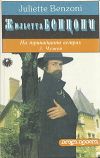Текст книги "Тень отца"

Автор книги: Александр Мелихов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 30 страниц)
Подо мною сидела старушка, ужасно напоминавшая мою маму, только мама никогда не говорила так крикливо, тем более о здоровье – на вопросы лишь отмахивалась: «У стариков всегда что-нибудь болит!..» Правда, эта бабуля рассказывала всему вагону о своих болячках с необыкновенным оптимизмом: на все у нее имелись свои припарки. Однако прочий поношенный люд слушал ее с мрачным недоверием, делая вид, что разгадывает сканворд «6 соток».
В целом вагоне я разглядел только одного мальчишку, по соседству с собой, повесившего на локоть сумку с надписью «O’key». На его белой футболке тоже все было «O’key», и на бейсболке тоже. С разъяснением помельче: «motor enjoy». Пытаясь без помощи рук почесать внутренность носа, он беспрерывно им подергивал и крутил, с отсутствующим видом глядя в окно, где проползали не леса и не поля, а нескончаемые пустыри – лишь изредка взрываясь гремящими товарняками с курящимся щебнем. После третьего взрыва пацан отчаялся и запустил в нос свободную руку примерно по локоть.
Поезд резко тормознул, пацан так же резко вскинул руку и сбил с соседа очки, которые, несколько раз перевернувшись в воздухе, со снайперской точностью уселись мне верхом на плечо. Я снял их и передал хозяину, тот, так же не произнесши ни слова, насадил их на прежнее место. Я ценю людей, которые если и не выражают к тебе интереса, то хотя бы и не пытаются оттиснуть на тебе какой-то свой отпечаток, чем-то похвастать. Похоже, и на стенах писать стали поменьше «Ося и Киса были здесь»… В главном степногорском сортире посетителей встречало на полпальца врезанное в брус трехвершковое известие: «Здесь срали Вова и Гена из Сызрани» – это было все, что Вова и Гена донесли до казахстанских сопок от своих волжских плесов.
Но в наш прагматичный век люди уже не стремятся оставить по себе хоть какой-то след…
Подошвы ломило, я переминался с ноги на ногу, стараясь не прижиматься к ледяному горшку; потом невыносимо заболела щиколотка – все складывалось как нельзя лучше: боль в ногах заглушала боль в груди. Поддерживала и духота. Последним аккордом сделался ремонт платформы – выхода из первых четырех вагонов не было, а я ехал во втором (о ремонте знали все, кроме меня). Пришлось спрыгивать на ржавую щебенку – щиколотка отозвалась прямо-таки оглушительной болью, я даже припал на колено. Все шло как по-писаному, развязка приближалась. После городской сковородки и вагонной пароварки в лицо веяло теплой летней свежестью.
* * *
Оказалось, на кладбище ехало всего человек пять, остальные предпочли остаться в неласковом царстве живых.
Город мертвых еще недавно начинался с нулевого цикла – с бескрайнего болота, но – жизнь берет свое. И чужое: где некогда все было пусто, голо, теперь не такая уж и младая роща разрослась, заслонив от глаз путешествующих зрелище нагой регулярной смерти.
Главное было не опередить события: донести завершающий рвотный спазм до унитаза, финальный взрыв отчаяния – до норки. Моя жена, в просветлении возвращаясь с кладбища, всегда делится, как там стало красиво, – это же такая красота – поглощение человеческой жизни безмозглой органикой…
Она мгновенно растворила и наш маленький отряд. Зато фанерные объявления, там-сям понатыканные вдоль коренастой тропы, по которой я ковылял, говорили сплошь о посюстороннем: «Требуются разнорабочие», «Валка деревьев частями»… А самое лаконичное и загадочное было представлено в двух версиях – для чтения с земли и чтения с небес: «СКВАЖИНА» и

Это еще ничего, я видел при въезде в крематорий объявление «Доставка топлива».
Сколько человеку земли нужно? Моим любимым душам хватило серого бетонного квадрата полтора на полтора – небось не простынут, если ноги окажутся снаружи. Зато цветник был загляденье, на все цвета радуги – жена не хвастала, утверждая, что у нас лучшая клумба на всем кладбище, и я стараюсь скрыть невольную кривую ухмылку: то-то мертвые наслаждаются этими роскошествами…
Она и мой лакейский успех прежде всего отметила заменой тусклого прилавочного мрамора черным полированным. Мы едва даже не поссорились из-за того, что она хотела заменить и пучеглазые эмалевые овалы с фотографиями размытыми туманностями матовых точек, складывающихся в призрачные родные лица. Нет, я хотел видеть папу с мамой такими, как при жизни, – это по крайней мере больно.
Мне не нужно красоты – красота первый шаг к забвению. Они такими сейчас и смотрели на меня, какими я их помню. Мама в темном платье с отложным белым воротничком – представления умненькой провинциальной школьницы о красоте и приличиях. И взгляд ужасно «комсомольский». Папа же в белом свитере с расстегнутой молнией, вшитой мамиными руками в воротник, распадающийся на две маленькие волны, напоминающие рудиментарные крылышки. И выражение лица такое же – окрыленное.
Очки, вдохновенные седины (фотограф поймал перед стрижкой) – идеальный кинотипаж академика. Но он, и то сказать, не лаптем щи хлебал: в полнейшем одиночестве дорасти до главного интеллигента Каратауской области – это тоже не кот начхал. Вот она, красивая старость, недоступная нашему тщетно молодящемуся миру. И лично мне, Льву Янкелевичу Каценеленбогену. Они спокойны и уверены в правильности избранного пути – я скомкан и отброшен от всего, что могло бы хоть как-то укрепить мой дух, я не могу даже воззвать: мама, ваш сын прекрасно болен – ничего прекрасного в моих болях нет, только мелкое и жалкое. Тлен, тлен…
Мне кажется, я ничего не произносил вслух, но мамино лицо приближалось, приближалось, и сквозь комсомольское выражение беззаветной преданности все более явственно проступала мука. Внезапно я похолодел: по маминой щеке сползала слезинка. Я оцепенело следил за ней и лишь через несколько секунд заметил, что у меня отпала челюсть.
Захлопнув рот, я одичало вперился в выпуклое фото – да, это несомненно была капля. Трясущейся рукой я стер ее и лизнул – она была соленая. Рука вспотела, метнулось в голове: а, это дождь, сейчас закапает.
Однако в небе не было ни тучки, одна бледная наволочь. И я почувствовал, как мое лицо охватывает жар стыда: надо же, довел мать до слез!.. Прости, мамочка, прости, милая, лихорадочно забормотал я, не обращай внимания, ты же знаешь, мы любим поныть, что поделаешь, не получили вашей закалки, помнишь, ты говорила: не знаю, чего вам еще надо, мы мечтали, чтобы только нас перестали гонять, только забудьте про нас, и мы будем на вас работать день и ночь, да еще кланяться, говорила ты, а мы вот разучились ценить жизнь, нам мало, чтобы нас просто оставили в покое, нам еще надо какого-то рожна, которого нет и быть не может, дураки, одним словом, зажрались, а так-то все у нас лучше некуда, все сыты, здоровы…
Я захлебывался от нежности и жалости, и мамино лицо понемногу вновь вернулось на фотографию и обрело прежнее выражение беззаветной преданности. И тогда я пал на колени и, неловко дотянувшись через цветник, прижался к теплой эмали половиной потного лба и заплакал сладкими детскими слезами, со всхлипываниями, шмыганьем и всеми прочими делами. Я плакал так долго, что наконец сделалось совестно столь беспардонно нарушать покой мертвых. Я встал и, не глядя на маму, долго сморкался и отряхивал коленки, попутно обнаружив, что щиколотка совершенно прошла.
Наконец решился взглянуть. Она смотрела на меня с нежностью и легким юморком: ну что, мол, глупыш, наревелся? Пора и за уроки.
Оно и в самом деле было пора, спускались сумерки. А железная дорога любит отменять электрички, не хватало еще застрять на ночь в этих красивых местах. На прощание я смущенно взглянул на отца, но он, как обычно, ничего не заметил, витая в каких-то собственных эмпиреях.
Ну что, батько, слышишь ли ты, с ласковой усмешкой спросил я его на прощание, но он уже не ответил мне своим фирменным «чую, сынку, чую!».
* * *
На временной деревянной платформе веяло вечерней прохладой, и я надеялся, что в сгущающихся сумерках мои наверняка покрасневшие глаза будут незаметны. Меня уже не тревожило и не раздражало, что электрички было не видать и не слыхать, хотя по тетрадочному расписанию ей пора было показаться целых два раза. Паломничество к двуспальной могиле предков вновь вернуло мне безразличие, то есть мудрость. Но все-таки я постарался сесть лицом к той части вагона, где было поменьше публики.
Это были все те же бюджетники, к своим годам уже успевшие набраться мудрости, то есть терпения. Они безропотно предъявляли билеты классическому железнодорожнику в прилизанных стальных сединах и полузабытом кителе из какого-то фильма времен культа. Накаляющаяся заря набрасывала на лица легкий адский отблеск.
Контролер требовал билеты не у всех, к явным пенсионерам он не обращался – видимо, у них были какие-то льготы. У них… У нас! Только я, как всегда, узнаю это последним, я ведь рожден не для корысти, не для битв!
Чтобы не заставлять пожилого человека ждать (сам-то ведь я вечно молод), я принялся заранее шарить по карманам и после третьего шмона убедился, что билет пропал. Но я был мудр и спокоен, готов и далее переносить идиотизм земной жизни, и когда контролер добрался до меня, я сразу протянул ему тысячную купюру.
– Потерял билет. – Я изобразил извиняющуюся улыбку.
– Сейчас выпишу квитанцию. – Прислонившись бедром к спинке сиденья, контролер полез в свою полузабытую полевую сумку. У него были классические седые усы, такой же паровозный машинист когда-то сидел в одной камере с отцовским другом: вернулся с допроса с кровавым горохом вместо усов – выдрали.
– Квитанции кончились. – Он обратил ко мне подернутый легким адским пламенем облик честного служаки.
– Да ладно, давайте без квитанции. – Я был мудр и терпелив.
– Не положено. Пройдемте к бригадиру.
Я понял, что сопротивление бесполезно, и встал. Придерживаясь за спинки, мы побрели в направлении первого вагона под сдержанными взглядами бюджетников. Однако в тамбуре мой конвоир остановился и оборотился ко мне. Не без облегчения, хотя и с легким разочарованием я подумал, что он хочет взять в лапу без свидетелей, и уже сунул руку в карман, когда что-то заставило меня еще раз взглянуть ему в лицо, залитое адским пламенем «лайт».
Это был мой отец. В том самом окрыленном свитере и строгих очках главного интеллигента Каратауской равнины. Только выражение лица у него было никогда не виданное – сдержанно-скорбное и отстраненное. Или отстраняющее.
Я понимал, что мне надо ужаснуться или возликовать, но я оставался все таким же мудрым, то есть невозмутимым.
– Ты спросил меня, слышу ли я тебя, – суховато сказал он. – Да, слышу.
Открытая дверь на тормозную площадку наполняла тамбур громом и лязгом, однако я различал его слова без малейшего усилия.
– Тебе, конечно, известна эта утешительная пошлость: человек живет до тех пор, пока его помнят. Так знай: как всякая пошлость, она оказалась правдой. Но сегодня умерла моя последняя рабфаковская подружка, которая меня еще помнила, и теперь я должен окончательно исчезнуть. Потому что все остальные меня давно забыли.
– Что ты говоришь, – забормотал я, уже угадывая какую-то сквернейшую правду, – тебя помнят все твои ученики, из Кара-Тау звонят, жалуются, что институт захватили казахи, и все хором твердят, что без Якова Абрамовича и стесняться стало некого, о нас уж и не говорю, мы все тебя вспоминаем по десять раз на дню… – Я бы еще долго кудахтал, чтоб не дать ему ответить, но он прервал меня с легкой досадой, как слишком уж откровенно завравшегося брехуна:
– Вы все вспоминаете не меня, а тот фальшивый образ, который я создал, а вы приняли, потому что с ним вам было приятнее, чем с тем, кем я был на самом деле. Вам было приятно думать, что я скромный, всем довольный, мечтаю только, как бы послужить ближнему, такому же убогому, как я сам… А я мечтал быть великим человеком, участвовать в великих делах, которые бы помнили через двести лет. Но я старался скрыть это от себя, чтобы не чувствовать себя проигравшим, и вы тоже не хотели этого знать, вам было слишком больно понять, что человек, которого вы так любите, потерпел жизненное поражение. И вы предпочли верить в сочиненную мною детскую сказку о «гармонии с миром», верить, что я не нуждаюсь ни в чинах, ни в деньгах, ни в славе, ни в бессмертии… А ведь бессмертие может прийти только через славу. Бессмертие человека в его делах – эта пошлость тоже оказалась правдой. Чтобы себя успокоить, вы твердили друг другу, что я скромный, скромный, скромный, хотя в глубине души прекрасно знали, что скромных людей не бывает – бывают только сломленные. Бог не создал человека скромным, он создал его по своему образу и подобию. Но вы старались заглушить голос правды, вы предпочитали верить моим маскировочным делам и собственным лживым словам. Я не виню вас, так поступают все: когда человек страдает, его близкие прежде всего зажимают уши, чтобы не слышать его стонов. Вы тоже сумели не расслышать те стоны, которые я и сам подавлял изо всех сил, и теперь я должен умереть окончательно. Я провел все эти годы в аду, но сейчас меня изгоняют даже из ада.
– Как – из ада?.. Ты же мухи не обидел, вернее, только мух и… Ты же всем помогал?..
– Да, был маленьким человеком, удобным для других маленьких людей. За что и был наказан.
Прежде это было немыслимо, чтобы отец назвал кого-то маленьким, а сейчас он говорил о них даже без пренебрежения – с легкой скукой.
– А в аду что?.. Там действительно угли, сковородки?..
– Нет, эта пошлость не подтвердилась. Впрочем, наивность не бывает пошлой. Нет, никакой театральщины там нет – ни в одном из трех кругов. В них ужас нарастает по степени откровенности, с которой люди себя ведут. Третий круг самый страшный – в нем люди делают решительно все что хотят. Второй круг уже гораздо мягче – там люди только говорят друг другу все что думают. А первый круг, где обретаюсь я, – всего лишь скромный ад советской канцелярии. Сидишь и вспоминаешь свою жизнь. И все, что ты от себя прятал, на что закрывал глаза, – все предстает тебе в полной ясности. Это и есть страшный суд, можно сказать – самосуд. Вся утешительная ложь опадает, и начинаешь понимать с предельной ясностью, где ты струсил и изменил своей мечте, своему бессмертию. И не просто изменил по бессилию, но еще и оправдал свою измену. Только это и нельзя себе простить – возведение слабости в добродетель. Я все оттуда разглядел, а теперь должен исчезнуть. Умерла последняя, кто помнил меня настоящим. Ты ее не знаешь, мы расстались в тридцать втором году. Ее послали устраивать голодомор, а мне повезло, в палачи не попал.
У меня голова шла кругом – не только от его слов, но едва ли не еще больше от его тона: отец всегда разговаривал, как бы извиняясь, всегда стараясь что-то замять, загладить – все, мол, хорошо, не сердитесь, не расстраивайтесь, дело того не стоит, – а сейчас он говорил не то чтобы жестоко, но с какой-то легкой досадой, как будто зачитывал чей-то чужой надоевший текст. Поезд останавливался, бюджетники входили и выходили, проходя сквозь отца, и мне хотелось как-то оградить его, но я видел, что это ему нисколько не мешает, а изображать заботу не нужно, ибо он тоже видит меня насквозь.
– Но ты же всегда говорил, что был счастливым человеком, – в отчаянии воззвал я, – что тебя все любят, уважают, что у тебя чудесная жена, прекрасные дети!.. А Сталина, наоборот, все боялись, и дети у него никчемные…
– А что мне оставалось, как не твердить себе, что виноград зелен, зелен, зелен? Да, меня любили – как не любить того, для кого ты всякий хорош. И жена у меня – да, была чудесная. Ничего не требовала, любила меня просто за то, что я живу. А дети – дети тоже наше бессмертие, но какое бессмертие могли подарить вы – посмотри, ты и горбишься как официант: чего, мол, изволите-с? Один хотел покорять космос, а превратился в лакея, другой мечтал быть великим путешественником, а стал забулдыгой с романтическими потугами… Вы такой же тлен, как и я сам. Впрочем, в сравнении с твоими отпрысками вы еще ничего. Хоть потрепыхались своими рудиментарными крылышками. А твой сын пошел в лакеи прямо со студенческой скамьи, дочь посвятила жизнь собственной истеричности…
Он выговаривал эти ужасные вещи без малейшего ожесточения, а словно бы в двадцатый раз зачитывал всем известный протокол. В разбитое окно врывался ветер, но в его серебряных сединах не шевелился ни единый волосок.
– Ну да что теперь об этом, уже ничего не исправить, а времени мало. У меня к тебе просьба – первая и последняя, ты же помнишь, что я тебя никогда ни о чем не просил, о чем может просить тот, кто всегда всем доволен. Так вот, сейчас я прошу тебя: отомсти моему убийце.
– Как – убийце, ты же умер в своей постели?..
– В постели умерло мое тело. А дух мой умер намного раньше. Когда меня арестовали, я понял, что я никто и ничто. Если с наркомами и комкорами можно проделывать такие штуки, что они ползают на брюхе и целуют сапоги, чего же в таком случае стоит наша гордость, наши мечтания?.. Зажать дверью мошонку – и больше нет ни гордости, ни мечтаний. Мне-то лично посчастливилось – был еще тридцать шестой год. Меня только запугивали, не выпускали в сортир, шантажировали родителями – но кто в молодости думает о родителях?.. Так что я еще хорохорился, верил, что правда победит, где-то там разберутся. Я только в лагере послушал, посмотрел и понял: правды нет. Нигде нет. Мы букашки на проезжей части. И я, и мой следователь Волчек, и Сталин, и Гитлер, и наша Земля, и Солнечная система, и… Впрочем, там я еще не осмелился в этом себе признаться, вера в справедливость – это была последняя наша надежда, последнее, как ты выражаешься, воодушевляющее вранье. Мое самоослепление окончательно разрушилось, когда прозреть было уже не так страшно – когда уже после смерти Сталина мне отказали в реабилитации. Собственно, уже и не нужной. Но лишь тогда я осознал: все, что мы можем, – забиться в какую-нибудь выбоинку, чтобы колесо переехало не сегодня, а завтра. И я нашел эту выбоинку и пересидел не без приятности. За это и расплачиваюсь. И на прощание прошу тебя: отомсти моему убийце, его фамилия Волчек.
Вагон сильно мотало, я придерживался за трубу стоп-крана, а отец стоял спокойно, как на сцене.
– Ты же говорил вроде бы, что твоего следователя звали Бриллиант?
– Я не хотел называть его имя, думал, вдруг дойдет до его детей, внуков, им будет стыдно… Я же был скромный, снисходительный… А теперь я тебя прошу: найди его потомков и сотри память о нем. Расскажи им какую-нибудь ложь – не обязательно порочащую, лучше даже хвалебную. Ей легче поверят, люди хотят иметь красивую родословную. Расскажи им, что он был очень добрый, справедливый, отпускал на свободу невинных, что за это и был расстрелян в ежовском потоке. Они поверят – и он исчезнет.
– Хорошо, я постараюсь… А тебе это поможет?
– Нет, конечно. Но месть сладостна сама по себе.
Нет, такого отец сказать не мог! Но это был явно он – его лицо, залитое адским отблеском заката, его очки, пылавшие тем же закатным пламенем, словно две маленькие топки…
– Но ты же всегда говорил, что всем все простил, что ни на кого не держишь зла?..
– А что мне еще оставалось? Ты же сам разъяснял, в чем суть христианства: ляг, прежде чем повалят, полюби, прежде чем изнасилуют, – и будешь отдаваться только по любви. Как еще избавиться от мук неутоленной жажды мести?.. В аду я это хорошо прочувствовал.
– Я понял, я сделаю что смогу. Но чисто абстрактно: ведь твой Волчек и сам был букашкой – уж если мстить, то букашке побольше? Товарищу Сталину, я хочу сказать.
Отец лишь устало вздохнул – я его явно раздражал своей наивностью.
– Сталину отомстить невозможно. Память о нем стереть нельзя. Он не притворялся скромным, что считал нужным, то и делал. Конечно, как всякое чудовище, его будут стараться приукрасить – кому хочется жить в мире, где торжествуют чудовища! Но его дела станут говорить за себя сами. Поэтому Сталин бессмертен.
– Но тогда и Герострат бессмертен?
– И Герострат бессмертен.
– Понятно… А там, в аду, что – не дают никакого шанса на исправление? Раскаяние совсем ничего не стоит?
– Стоит только бескорыстное раскаяние. Мне давали шанс одуматься, по доброй воле пережить ад на земле, но так, чтобы я этого не знал. Не знал, что это испытание. Я пришел в себя на той же постели, откуда отлетел, рядом стояли вы все – очень радостные, веселые. Сказали мне, что кризис миновал, диагноз не подтвердился, что я могу вставать… И я действительно почувствовал, что совершенно здоров. И пошла наша обычная жизнь.
– И я там тоже был?
– Ну да, такой же, как сейчас, только помоложе. И не такой ошалелый.
– Тут ошалеешь… Прости, еще один вопрос: а маму ты там видишь?
– Нет. Простодушных держат отдельно, тех, кто не притворялся, не изменял своему предназначению, даже самому маленькому. Что с ними там делают, не знаю. Так вот, жизнь шла, по телевизору, в газетах снова начали развенчивать Сталина, говорить о восстановлении исторической памяти, и однажды ко мне пришли два очень приятных молодых человека из государственного архива. Они долго говорили, насколько ценен опыт таких людей, как я, что у них создан специальный фонд лагерных воспоминаний… Все было очень логично: мода на лагерную тему пройдет, публика насытится самыми громкими именами, а потом и слышать не захочет. Народной памяти страдания без подвига не нужны. Быть раздавленным – это в России не заслуга. Тебя за троцкизм посадили без вины, а меня за кражу посадили без вины – но я же об этом не кричу! Словом, публика уши заткнет, а фонд останется. Это будет источник и для историков, и для писателей. Пишите, мы это сохраним, убеждали они, и я наконец решился – вернее, так и не решился рассказать, в чем заключалась наша трагедия. А трагедия заключалась в том, что у нас отняли шанс на бессмертие. Но я не решился признаться в этом прежде всего самому себе. Мне было так страшно признать свой жизненный крах, что я постоянно старался показать: я остался несломленным, остался бодрым и счастливым. Хотя это и была сломленность – согласие довольствоваться малым. Согласие быть счастливым в качестве скромной букашки. Я снова хорохорился, мама перепечатывала, ты читал и восторгался – я так и не посмел взглянуть правде в глаза. И упустил свой последний шанс. Я воспроизвел свой молодой задор, хотя от него уже давно не осталось и следа. Я снова предпочел утешение правде, предпочел примириться с жизнью, вместо того чтобы восстать против смерти. Почитай, это поучительно.
Нет, отец не мог говорить такими чеканными фразами! Но отца уже и не было. Пожилой железнодорожник в устаревшем мундире извлек из своей кирзовой полевой сумки превосходящую ее размерами толстую канцелярскую папку и протянул мне. Папка была потрепанная и увесистая, точь-в-точь такая же, как папин эпохальный труд, в котором он неопровержимо доказал, что в мороз евреям холодно, а в жару жарко.
Народ уже набивался в тамбур перед конечной станцией, и контролер, наставительно погрозив мне пальцем: «В следующий раз обязательно оштрафую!» – без следа растворился в вокзальной сутолоке.
Но папка осталась, сомневаться в этом было невозможно. На ней так и значилось: «Папка для бумаг». Когда-то белая, теперь она пожелтела; уголки расслаивались, как у всех отцовских папок.
Я отошел к прилавочку неработающей кассы и развязал тесемки. Довольно пухлая отцовская исповедь была вложена в газету – явно постсоветскую, сплошь покрытую объявлениями. Зато бумага была типично отцовская – пожелтевшая, мохрящаяся, такой сейчас, наверно, уже и не сыскать. И напечатано было по-отцовски экономно – через один интервал. И экземпляр был явно не первый – первый, видимо, достался этому самому потустороннему фонду.
Я уже думал о потустороннем как о предмете самом обычном. Может быть, я просто сошел с ума, промелькнула равнодушная мысль, но я не придал ей никакого значения. Сошел так сошел. Значит, буду действовать в качестве сумасшедшего. Лишь бы бред не оказался еще страшнее реальности.
* * *
Но он оказался страшнее: в прихожей меня встретил поднявшийся из могилы мертвец в синем саване, с лицом из серой растрескавшейся земли. И я на кухне долго приводил дыхание в порядок, покуда моя молодящаяся супруга смывала кем-то присоветанное омолаживающее средство – бодягу. А потом торжествующе вышла ко мне с воспаленными, будто золотушными, щеками. Она борется одновременно со старостью и полнотой, хотя только полнота и разглаживает те морщинки, которые она тщательно глушит всевозможными шарлатанскими припарками. Однако я давно не насмешничаю по этому поводу: чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не вешалось. Жалко только, что она собственными же руками портит свой облик пышной русской бабы, именно благодаря пышности никак не тянущей на ее реальные «за пятьдесят».
Ужин меня ожидал исключительно здоровый – витаминный салат из одуванчиков, обезжиренное мясо, экологически девственный проросший рис и – для аппетита и с устатку – стопка безалкогольной водки. Я постарался изобразить хороший аппетит, чтобы поскорее получить возможность изобразить крепкий сон – чтоб супруга уже не стучалась в мою нору сама и не звала меня к телефону. Я не хотел, чтобы меня выдергивали из бодрящейся отцовской исповеди.
Я изо всех сил старался продемонстрировать в здоровом теле здоровый дух, но любящее женское сердце обмануть не удалось:
– Что случилось? Ты какой-то бледный.
Ее голос прозвучал с такой неподдельной тревогой, что мужество мое как кислотой смыло.
– Да ничего особенного – просто жизнь прошла впустую. – В конце признания даже голос надломился.
– Ну что ты такое говоришь! У тебя просто нехватка калия. Завтра же начнешь есть размоченную курагу!
– Понятно. И ко мне сразу вернется молодость.
– А что ты думаешь – депрессия бывает от неправильного питания.
Признать, что у меня есть еще и душа, тоскующая по упущенной высокой судьбе, ее не заставит даже мой труп, раскачивающийся на люстре. Иногда это приводит меня в бессильное бешенство, но сегодня преподанный отцом урок придал мне скромности: я точно так же не позволял себе расслышать тоску отца по отнятой высокой судьбе, я точно так же старался внушить ему: у тебя все хорошо, ты сыт, одет, уважаем, любим… Вот и лопаю: я тоже сыт, одет, уважаем, любим. Просто за то, что я живу. Как я могу сердиться на жену, если моя любимая мамочка тоже любила повторять: мне главное, чтоб вы были здоровенькие.
И когда я в свете настольной лампы, устрашающе ярком, словно лагерный прожектор, входил в блеклый, стиснутый, испещренный поправками и инкрустированный вклейками отцовский мир, я непрестанно твердил себе: не верь, не верь, все было в тысячу раз ужаснее…
Мне и в голову не приходило обижаться на отца за те страшные вещи, которые он мне наговорил. Не потому, что на правду не обижаются – если на что и обижаться, так именно на правду, теперь-то я из первых уст узнал, что правда – орудие ада на земле, – а потому, что мне было не до себя, мне хотелось снова и снова слушать и слушать отцовский голос.
И он зазвучал с первых же строк. Поздний голос милого скромного пенсионера, больше всего опасающегося кого-то задеть.
Как обычно, отец начинал с извинений за то, что смеет привлекать к себе внимание. Притом и сами извинения были подкреплены отсылкой к авторитету.
Жизнь обыкновенного человека тоже может вызвать интерес – если и не по отношению к личности, то по отношению к стране и эпохе, в которую эта личность жила.
Герцен. «Былое и думы».
Сам себе не могу иногда ответить, надо ли ворошить прошлое или лучше скорее забыть о нем, «не сыпать соль на раны», хотя об этом просят, как уже замечено, не раненые, а здоровые. И Лев Толстой думал иначе: «Если у меня была лихая болезнь или опасная и я излечился или избавился от нее, я всегда с радостью буду поминать. Я не буду поминать только тогда, когда я болею и все так же болею, еще хуже, и мне хочется обмануть себя».
Люди моего поколения не решаются высказать самую рядовую мысль, не оградившись предварительно цитатами: говорить от собственного имени представляется нам делом опасным. Кроме того, нам долгое время внушалось, что научную убедительность тексту придает исключительно обилие цитат, особенно классиков марксизма. Так что не удивляйтесь.
Воспоминания тех, кто безвинно пострадал во времена «культа личности» (какое мягкое выражение!), так или иначе содержат заверения, что они никогда «не держали обиды» на власть и на народ; я тоже не имел такой обиды, и прежде всего потому, что народ был здесь ни при чем. Все простые, нечиновные люди, с которыми меня сводила жизнь, относились к моему прошлому либо как к недоразумению, либо как к несчастью, – их интересовало только, лодырь я или трудяга, добрый или злой, честный или бесчестный, – и они полностью реабилитировали меня гораздо раньше, чем я получил нужную бумагу.
А обижаться на безличную силу, сломавшую нашу судьбу, – кто же обижается на слепую стихию? А если за бессмысленной стихией иногда угадывалась чья-то злая воля, мы немедленно гнали прочь всякий призрак недовольства: с такой могущественной силой было страшно поссориться даже в душе. И где-то там же таилась нелепая надежда, будто эта сила каким-то образом может узнать про нашу верность…
Так или иначе, у меня никогда не было даже помышления, что случившееся со мной дает мне право быть недобросовестным в работе или безразличным к тому, что происходит в стране. И когда через много лет, уже немолодым человеком, я случайно услышал вокзальное объявление: «Поезд на Воркуту отправляется…» – я почувствовал внезапный прилив гордости, что Воркута поднималась и моими руками. Наивно? Глупо? Но мне хотелось быть участником исторических событий хотя бы и за колючей проволокой!
Папочка, милый, да ведь ты же и при жизни не раз нам в этом признавался – всегда с бодрящейся улыбкой. Но мы даже в шутку не хотели слышать про такое посрамление нашего гордого рода: этого нам только не хватало – они тебя сажают, а ты продолжаешь им служить! Как же мы, ослы этакие, не понимали, что ты хотел служить не каким-то там ИМ, а собственному бессмертию! А мы вслед за НИМИ своими вышучиваниями старались отнять у тебя последние остатки высокой судьбы!
Но ведь мы и к себе были беспощадны, мы и сами из ослиной гордости отказались от участия в истории…
Однако голос отца не позволял мне зацикливаться на своих проблемах, он увлекал меня все дальше, дальше, дальше…
Что сажают – это мы слышали весь 35-й год и даже раньше, но что это может коснуться и нас, мысли не допускали. Во-первых, за что? Во-вторых, не за что. А если? А «если» – тоже ничего страшного. Во-первых, все «порядочные» люди сидели: Ленин, Сталин, народники, Бакунин… Для нас Степняк-Кравчинский был выше Толстого, Вера Фигнер – выше Софьи Ковалевской. Во-вторых, мы жили духом познания – так разве не интересно узнать, что делается за железными решетками, о которых так много песен поют и поэм слагают? А там учеба повыше университетской. Из тюрем вышли Свердлов и Петровский, а из университетов – мещане и приспособленцы.
Было еще не совсем осознанное: мы видели вычищенных из университета преподавателей – жалких, беспомощных. Особенно поражал (подавлял) Львович. Студентом я бегал на его публичные лекции, видел в нем идеал красного профессора, и тут… пришибленный, загнанный. Уж лучше исчезнуть с глаз долой, чтобы не огорчать родных и знакомых, а там видно будет. Новые встречи, новые знакомства, новое, новое…
Но все это тут же казалось чем-то из области фантастики: мы-то при чем? Молодые, преуспевающие, хорошо чувствовавшие пульс времени – нет, не для того, чтобы приспособиться к нему, а чтобы лучше ему служить: ведь строим социализм! В одной стране? В одной стране! И притом отдельно взятой. Для всеобщего счастья достаточно было хлеба досыта и сапог без дырок.
Увлеченные всем этим, мы и не заметили, как подкатилось.
28 февраля, в воскресенье, я принимал экзамены в вечернем комуниверситете. Такое доверие! День был пасмурный, дождь перемежался со снегом, но на душе было радостно. Студенты отвечали хорошо, рассыпали мне комплименты. Да и студенты какие: офицеры милиции и ДОН (дивизион особого назначения), работники наркомюста. Не скрою – льстило.
Настроение не понизилось даже тогда, когда проректорша с веселым смехом рассказала: «Объявила выговоры Кофману и Ярошевскому за неявку на работу, а их, оказывается, посадили».
С экзаменов пошел к Сахновскому, проректору университета, у которого я был ассистентом, для совместной прогулки по киевским букинистам. Без всякой тревоги передал ему новость, он рассердился: «Болтунья она, я недавно по телефону с Ярошевским говорил».
И схватился за трубку. Тут уж я проявил бдительность: телефон, наверно, под наблюдением! Сахновский меня высмеял: «Шерлокхолмсовщина!» Но его жена меня поддержала. Звонок не состоялся, и, выпив кофе, мы отправились гулять. Впервые за все годы знакомства заговорили о бывшем ректоре Баране, и Сахновский очень тепло вспоминал о нем, хотя тот уже давно сидел. Он был членом партии с 1915 года, командиром одной из трех галицийских бригад, сохранивших верность Советской власти.
Букинистический улов был тощим, погода донимала, побродили и разошлись, чтобы на одно мгновение встретиться глазами в тамбуре НКВД УССР.
Второе марта было таким же пасмурным днем; вечером в первый раз за долгие годы засиделся до полуночи.
Радио проиграло двенадцать, когда я уже укладывался (в восемь утра была лекция в университете), и вдруг стук. Пошел открывать без тени беспокойства. Спрашиваю, кто, и слышу: «Милиция». Хозяин дома через дверь подтвердил, и в сени вошли двое рослых мужчин. Я был в одних трусах, они в черных пальто – из-за открытых бортов виднелись красные петлицы. Шпала, две шпалы. Значит, не мелочь. Кто не мелочь? Они или я, к которому пожаловали такие высокопоставленные гости?
– Сдать оружие! – последовал грозный приказ, я спокойно возразил:
– Нет его.
– Найдем – хуже будет.
Молчу.
Пока я собираюсь с мыслями, пришедшие сбрасывают пальто, быстро ощупывают окна (не успел ли кто выскочить или чего-нибудь выбросить) и обследуют на кухне кровать моего одиннадцатилетнего племянника (в 1943 году он погиб при форсировании Днепра).
Мальчишка сонно озирается и тут же валится в переворошенную кровать, а мы с «гостями» идем ко мне в комнату. Один тут же усаживается в мое кресло и начинает пересматривать все на столе, другой роется в книгах. Впоследствии я узнал, что это были малограмотные местечковые парни из непотребных.
Мне было интересно наблюдать за ними – завтра всем расскажу, как меня обыскивали. То, о чем читал в книгах, – прямо перед тобой, и это тебя роднит с теми, кто много лет был твоим идеалом. Тем более любопытно и даже немножко смешно было на это смотреть, что я понимал: никакой опасности нет. Это же не кто-нибудь, а чекисты, чей образ всегда был рыцарски-романтичным.
Правда, один раз я вмешался. Сидящий за столом (Хает) стал перекладывать мои карточки с записями завтрашней лекции, и я ему осторожно заметил: «Их трудно потом складывать, а в восемь утра я должен читать».
– Ничего, сложите, – спокойно ответил он без тени иронии и насмешки.
К шести утра обыск был закончен, мы стали ждать машину, и тут я уже начал немножко нервничать: ночь не спал, а в восемь лекция. Я даже высказал это своим спутникам, но они меня успокоили: «Успеете, ничего».
Свыше ста книг и портфель, набитый документами, конспектами, фотографиями увезли мы с собой. Книги брали «на глазок»: сочинения Марата, Покровского, дипломатические сборники… Я пытался выяснить, по какому принципу их отобрали, – последовало: «Там разберемся».
Была там еще книга Ленина и Зиновьева «Против течения», но в ней были только статьи против империалистической войны и Второго интернационала. Были и книги библиотечные, но все пошло в одну связку.
Я не особенно беспокоился, так как знал, что еду по какому-то недоразумению и все привезу назад. И чисто детское, чести мне не делающее: «А все-таки интересно ТАМ побывать…»
И вот сейчас, через много лет, когда все стало на свои места, я думаю о своих ночных гостях. Верили ли они, осматривая окна, перебирая кровать мальчугана, что там можно что-то найти, или это было формальное выполнение инструкции, чтобы навести страх и оправдать свое вторжение? Известно ли им было, что забирают совершенно невинных людей? Мучило ли это их, или они настолько очерствели, что делали все равнодушно или даже кичась: «Вон каких берем!..»? Кем они были, эти люди – служаками, циниками, фанатиками? И как они переоценили ценности, когда меч несправедливости обрушился на их собственные головы? Ведь большинство из аппарата тогдашнего наркома Балицкого были впоследствии посажены.
Сначала я слышал лишь отцовский голос, но понемножку что-то начало и мерцать – черно-белый неотчетливый Сахновский, напоминающий старорежимного интеллигента из довоенных фильмов, едва брезжащий сквозь мокрую метель черно-белый Киев, где на улицах трамваев больше, чем автомобилей – квадратных «эмок» или «Опелей», чье имя саркастический дядюшка Юрия Трифонова произносил через букву «ж», – а грохочущих по булыжнику телег больше, чем трамваев, довоенный Киев, где украиньськой мовы как будто почти не слыхать, а украинских вывесок и вышитых рубашек не видать, где половина прохожих обряжены во что-то потрепанно-полувоенное – пальто сочетается с сапогами, двубортный костюм – с галифе, а фуражка без кокарды и вообще утратила следы героического происхождения, превратившись в атрибут совслужевской благонамеренности. Покинутый своим певцом с Андреевского спуска, напудренный советской серостью, Город проступал все отчетливее, так что мне даже удалось в двух местах разглядеть бессмысленную вывеску «СОРАБКОП»; я хотел посмотреть в Интернете, что это означает, но отцовский голос не позволял задерживаться на том, что ему самому казалось не важным. Особенно захватывали в этом, казалось, забытом, но стремительно ожившем голосе совсем уж неслыханные нотки тюремной романтики – вот уж никогда бы не подумал… Папа с такой саркастической усмешкой выслушивал наши захлебывающиеся пацанские россказни об отсидевших кумирах степногорского Эдема – а вот, оказывается, и в нем не молчала разбойничья кровь… В усмиренной советской жизни место подвигу оставалось лишь в местах заключения, но мне-то казалось, что папе храбрость вообще претит… А оказывается, ему просто нужна была храбрость, работающая не на понты – на созидание бессмертия!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.


![Книга YE [VNUX] автора Марк Трахтенберг](/books_files/covers/thumbs_100/ye-vnux-264816.jpg)