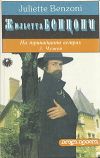Текст книги "Тень отца"

Автор книги: Александр Мелихов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 28 (всего у книги 30 страниц)
Но ведь Леках-то запомнил тебя настоящего, не фальшивый образ, – разве нет, папочка? Ну что же ты все молчишь?!..
А, понятно: Лекаха ведь тоже давно нет на свете…
Кажется, на свете не осталось вообще никого, безлюдная отощавшая тайга покрыла всю страну от Воркуты до самых до окраин, и поезд так вот и будет из последних сил долбить по ржавеющим рельсам, покуда в обвисающих проводах не иссякнет последнее электричество.
Лагерного начальства я, слава богу, не знал – минуй нас горше всех печалей… Слышал хорошее о начальнике Барабанове. На удивление хорошей славой пользовался сотрудник 3-й части Апин и его жена, заведующая столовой, – крупная, рыхлая женщина, старше его лет на двадцать. Говорили, что он должен был жениться на ее дочери, но та умерла, и он увез с собой ее мать. К обоим относились с большим уважением. Она часто помогала заключенным. А когда привлекли к ответственности тех, кто чинил беззаконие в лагере, Апина не тронули. И все были очень рады.
Чувствую, что изображаю не людей, а мумии, но что делать – столько вокруг этого нагромождено, в том числе и лжи с обеих сторон, что хочется по мере своих слабых художественных сил и полустершейся памяти хоть немножко воссоздать атмосферу того времени. Кто знает, вдруг и мои заметки послужат каким-то мазком в будущей картине. Ведь не сразу и Воркута строилась…
Понимаю: хотя бы мазком, но послужить истории.
Пленум ЦК партии в январе 1939 года и доклад Жданова всех нас всколыхнули. Убрали Ежова, назначили Берию, и сразу почувствовались свежие веяния.
Как мы это расценили? Насколько помнится, как нечто естественное: давным-давно надо было этому случиться. Как же иначе? Столько людей ни за что сидят, вот наверху и разобрались. И посыпались заявления на имя Сталина. Каждый думал, что он этим и себе поможет, и других спасет. Написал и я. Так хотелось, чтобы все содеянное с нами оказалось делом какого-то недоразумения, чьей-то частной злой воли. Пусть это будет хотя бы Ежов, в которого мы так верили в 1936 году. И это наше недомыслие было очень на руку тому, кто в действительности все творил.
Но как оно ни выглядело в верхах, мы у себя видели много перемен и, конечно, радовались. Убрали большинство наших начальников. Говорили, что их вызвали в Архангельск и там посадили. Приехали новые люди, более гуманные, и это чувствовалось во всем. У нас «на командировке» появился полковник Литваков. Говорили, что он из Свердловска, работал в экономотделе Областного управления НКВД и отказался вести дела СПО – секретно-политического отдела, за что его и отправили сюда. И тут от него тоже никто не видел никакой обиды. Ходит, смотрит, никого не понукает. Во всем заметна доброжелательность.
Но однажды и он вызвал у нас возмущение. Я уже писал о пятидесяти восьми километрах узкоколейки, которая соединяла Воркуту и Воркуту-Вом. Говорили, что под каждой шпалой лежит по человеку, а выплатили за земляные работы в десять раз больше, чем было сделано. Это и была знаменитая туфта, без которой люди не могли бы получить даже шестисотграммовую горбушку. Дорога действовала только летом, а зимой ее так заваливало снегом, что бессмысленно было раскапывать.
И вот Литваков решил сделать ее действующей и зимой. Ежедневно сотни людей выходили с обоих концов ее раскапывать. Это стало, видимо, делом престижа. Добрались и до нас. Несколько дней и наша бригада выходила на раскопки. Местами надо было прорубаться сквозь снег толщиной 2–3 метра. Наверх его уже не выбросить. Пришлось по сторонам делать галереи и работать в два этажа.
Страшно выматывались, но природа над нами только смеялась. Два-три дня копаем, а на четвертый все заваливает снова. Кажется, до самой весны мучились, так и не пропустив ни одного поезда. (Может быть, один и пробился, но не более.)
Но это было еще нечто сравнительно невинное. Хотя и таких «невинных» работ было немало, в том числе и «добровольных».
Вот одна из «добровольных»: поехать на санках за двенадцать километров и привезти крепежник. Но санки без лошадей, вместо них ВРИДЛО – временно исполняющие должность лошади. Три человека отдают свой выходной и получают на троих пачку махорки. А что делать? Курить хочется. Я временами даже завидовал курильщикам. Завалятся на мешки в перерыв и наслаждаются цигаркой. Лица прямо блаженные. Пробовал приобщиться, да не получилось. А курильщики за минуту блаженства отдавали выходной, и это считалось удачным обменом.
Ага, значит когда-то ты все-таки признавал, что в пороках есть своя притягательность! Что б тебе признаться в этом, когда я был пацаном, насколько нежнее я бы к тебе относился! Твое нечеловеческое совершенство убивало стремление походить на тебя. И в конце концов убило твой истинный образ…
От громкого голоса я радостно вздрогнул, но тут же понял, что это мой собственный голос. Будь это дома, жена бы окончательно решила, что я спятил.
Не знаю, откуда взялся слух, что будто бы по рации приняли приказ № 1 за подписью самого Берии и там, мол, осуждались провокационные процессы, за которые несет вину Ежов.
Почему такие слухи окрестили «парашами», не знаю. Может, потому, что они иногда были такими же зловонными, как этот знаменитый сосуд. Но надо отдать должное этой форме фольклора: на какое-то время она вносила покой и надежду в смятенную душу – укладываешься спать несколько умиротворенным. Особенно, если ты человек оптимистического склада. Но и пессимисты, которые вслух иронизировали, даже и они где-то в глубине души хоть чуточку, да верили. А последний слух и у пессимистов порождал какие-то надежды.
Передавали его из уст в уста, радовались и даже засобирались домой. Но был ли в действительности такой приказ, так и не знаю.
Уже вернувшись домой, я узнал, что всех, кто выдержал пытки и давление и не подписал на себя, освободили из тюрьмы. В прессе замелькали процессы над провокаторами. Остался в памяти суд над оклеветавшими профессора Цехновицера в Ленинграде. В Киеве тоже судили одного паршивца, так потом оказалось, что он дал рекомендацию в партию моему другу, милейшему человеку. В общем, мы вздохнули и ждали освобождения.
Прошел слух, что оправдали большую группу директоров элеваторов. Их судили за вредительство – какой-то жучок поедал хлеб в элеваторах. Они оправдывались тем, что было постановление Совнаркома за подписью Молотова, чтобы принимали зараженное зерно и там его очищали. А потом директора за это поплатились. Дали им расстрел, и спас их указ о замене 25-ю годами. И через пару лет вернули их чуть ли не с почестями.
А тут вызвали в Москву моего хорошего знакомого, И.И. Фиалко, бывшего директора завода имени Лепсе в Киеве. Я дал ему свой киевский адрес, чтобы он проведал моих родителей, и условились: если мой лучший друг сидит, они мне посылают по почте пять рублей. Деньги мне никогда не посылали, я запретил, а эти пять рублей будут знаком. А если не пошлют – значит, он на свободе.
Денег я не получил и успокоился.
А вернувшись в Киев, я узнал, что Фиалко к нам и не заходил, а друг давно сидит. Зная Фиалко как порядочного человека, я пошел его разыскивать. И от жены узнал, что его и до собственного дома не допустили, а работает он в конструкторском бюро в Бутырках (он был авиаинженером).
А мы-то на Воркуте радовались: Фиалко на свободе – значит, скоро и все там будем. Даже стало тоскливее – захотелось, чтоб побыстрее. Заявлениями засыпали кого только можно было – от Сталина до районных прокуроров. Многим родные писали, что и они хлопочут, и тоже намекали: ждем.
Однако вскоре стало заметно, что все спускается на тормозах – возможно, международная обстановка тут помешала. И мы психологически начали перестраиваться: надо ждать окончания срока. Хорошо, что стали хотя бы больше освобождать вовремя, а то раньше и дополнительный срок давали, и просто задерживали без объяснения причин. С началом войны это сделалось почти нормой.
Но мы 1941 год своей бригадой встретили по-барски. Дядя Коля сумел даже стащить бутылку вина из начальнического фонда, доставленного самолетом, а наш повар Павел Александрович, священник из Костромы, сварил нам кашу из сечки с говяжьими шкварками, так что мы пальчики облизывали.
Приближалось третье марта – «звонок». Вызовут – не вызовут? Либерализм понемногу выдохся, хотя прежних строгостей все-таки не было. И я все больше стал задумываться: куда ехать? Киев закрыт, а это уже половина мира. Так ехать ли подальше от него, чтобы совсем забыть, или, наоборот, поближе, чтоб хоть одним глазком на него изредка поглядывать?
Зимой 1941 года впервые по реке Усе проложили автомобильную трассу для подвоза продуктов. Кажется, не было осеннего половодья, и не сумели подвезти достаточно продуктов водой. Поэтому все продукты шли через нашу базу, так что нам теперь хватало работы на всю зиму. Машины подходили круглые сутки, и следовало быть всегда начеку, чтобы не случилось простоя.
Третьего марта я проснулся очень рано. Мучило: вызовут – не вызовут? Казалось, ничего не должно быть против меня. Но ведь и когда я сюда попал, против меня тоже ничего не было…
Подошла первая машина с овсом – 60 мешков по 90 килограммов. Я быстро натянул телогрейку – и на склад. Раскрыл все борта и как бешеный принялся швырять мешки на весы и с весов. Панченко прислал подмогу, но я ее не допустил. Хотелось вымотаться так, чтобы, если не вызовут, меньше чувствовать боль. Отправил машину – и на завтрак. Не успели поесть – вторая машина. Никому не даю идти – бегу сам. И эту машину разгрузил раньше срока. Пошел и закончил завтрак. Стараюсь не подавать виду, что волнуюсь, и внутренне накапливаю силы, чтобы быстро подавить досаду, если не вызовут. Народ вокруг меня тоже не сентиментальный: шутят, гадают, меня подначивают, но знаю, что глубоко сочувствуют.
Не знаю, не знаю… Разве можно, допуская сочувствие к другим, сохранить безжалостность к себе? Ту безжалостность, без которой ты обречен на гибель? А ведь то, что тебя спасло, непременно хочется возвести в вершинную мудрость. Вот я вырос в снисходительном мире, оттого и сделался слизняком. Но оттого же теперь я так радуюсь за тебя! Хотя уже предвижу, что на воле тебя поджидает гораздо худшее одиночество: отверженность и от простого люда, и от власти – и от народной плоти, и от ее скелета…
Ба, так это было уже второе отторжение! Вдруг вспомнилось забытое, оттого что невероятное: папа когда-то с улыбкой помянул, что у себя в Терлице он постоянно дрался, а дед Аврум (еще одна невообразимость!) его за это лупил. А когда отцу с одиннадцати лет пришлось спасаться в пролетарии – как отрезало. В чужом и чуждом мире лихость сделалась нелепой.
Но скорее, скорее – вдруг что-то помешает, я нашу власть знаю.
Подошла еще машина – бегу. И не успел разгрузить и половину, как появился Панченко.
– Ну, иди, пришли за тобой.
Не поздравил, не пожал руку, ни слова больше не сказал, а сам стал заканчивать разгрузку. Но я-то знал, что он, как и все, очень рад, что я иду на волю, но так уж устроены эти люди. За все годы никто из них ни разу не вспомнил ни священников, ни школьных учителей – ни хорошим, ни плохим. Неужели не за что было?
Поздравляли меня в бухгалтерии. Убейте, не могу вспомнить, как я в этот же день добрался за 60 километров до Воркуты. Но на всю жизнь запомнил обратный путь, который стал бы моим последним, если бы не мой истинный друг Николай Попов, охотник из Ханты-Мансийского округа, добрый, честный человек-труженик.
Теперь предстояло добраться до Усть-Усы и получить паспорт, а там и свобода. Зона все же пошире – это я уже хорошо понимал. Правда, с 39-й статьей в паспорте – это запрет жить в крупных городах. Каких – государственная тайна. Сунешься – узнаешь. Но и этот паспорт по дороге надо было беречь как зеницу ока: за ними охотились уголовники, а они свободно разъезжали по трассам. Значит, надо собраться группой в несколько человек. Много тоже нельзя – негде будет ночевать. Моими попутчиками стали ларечник Дымченко – в миру заведующий кафедрой, нисколько не испорченный таким служебным ростом, и слесарь из Киева Петя Гарцман. Спутники мои решили вооружаться. Петя сделал большие ножи для самообороны – для спасения не жизни, а паспорта. Я же категорически отказался от ножа. Убивать человека? Ни за что. Заберут паспорт, убьют – все может быть, но чтобы я убивал… нет и нет.
Даже сам не могу объяснить, как это сложилось у меня такое «толстовство». Ведь в детстве я видел много смертей, и это казалось делом обычным. Не так уж дорога жизнь человека, если ее так легко можно лишиться. И позже я себя закалял против страха смерти – своей, близких; террор якобинцев был для меня альфой и омегой правильной политики, я с жаром осуждал на лекциях деятелей Парижской коммуны, не прибегнувших к террору, причем за словом «террор» у меня никогда не возникал образ несчастной матери или рыдающего ребенка. Так должно быть, все должно быть подчинено высшей политике.
И вдруг я уже другой: лишить кого-то жизни – нет, пусть уж лучше меня. Разумом я понимал, что диктатура после революции необходима, а сердцем… Как переступить через горе матери?.. Причем не моей, а неизвестной мне матери.
Понятно. Мораль взлетела в цене, когда утратил цену подвиг. Папочка, милый, наконец-то я понял, что с тобой произошло: ты превратился из веселого аристократа в скорбного интеллигента. Интеллигент – поверженный аристократ. Отвергнутый аристократ. Отвергнутый от истории. И объявляющий недоступный виноград зеленым. Оплевывающий тот рай, из которого он изгнан.
Аристократ стремится к подвигу – интеллигент подсчитывает убытки.
Папочка, ты ли это радостно крикнул мне: «Человек в космосе!», столкнувшись со мною у калитки в каменно-слоеный школьный двор? Но я же и сейчас вижу, каким счастьем вспыхнули в тот миг твои очки!.. Ведь именно тогда я понял, чему я отдам свою восхитительную жизнь – космосу! И не приснилось же мне, как срывался твой голос, когда ты живописал мне ледяной бросок наших солдат, остановивших танковую группу Гота у речки Мышковы?.. А зычный глас Тараса Бульбы «Чую, сынку, чую!» – он же до сих пор звучит у меня в ушах! Когда же и где этот злосчастный Тарас превратился в кровавого варвара, и не более того?.. Заодно с его создателем.
Не за унылое же это нравоучительство тебя обожали полудеревенские парни и девчонки из каратауского педа, самозабвенно кричавшие тебе через улицу «Здравствуйте, Яков Абрамович!», а за то, что ты в своих – не лекциях – проповедях обращал скучноватую науку историю в захватывающую дух драму. Страшную, жестокую, но и прекрасную же! Грандиозную! Я ведь собственными глазами видел, как с тебя облетали галстуки и лацканы и оставался единый дух, единый жест: куда бы речь ни залетала – к черепкам, к битвам или научным прорывам, – повсюду открывалась одна и та же истина: жизнь стоит того, чтобы пахать и рисковать!
Зато самым верным ученикам ты сначала открывал свой утопающий в книгах дом, а затем в интимной обстановке открывал им глаза, какой ценой были достигнуты наши победы, да и не победы это были вовсе, а сплошные поражения и глупости, – само собой выходило так, что весь мир участвует в ужасной и прекрасной трагедии, и только мы без конца барахтаемся в какой-то кровавой помойке.
И когда же началось это кисляйство?.. Прорвались в космос – лучше бы понастроили больниц, взяли Берлин – сколько людей зря положили… Оно, может, и так, но если говорить об одних только смертях, от бессмертия ничего не останется. Ибо бессмертие можно купить лишь ценой жизни.
Победа – такая же правда, как и расходы на нее. Но если помнить только о битой посуде, не останется ни одного праздника. У нас и было чувство, что ты вечно отравляешь нам и без того редкие праздники… Соберемся вместе, стол ломится от вкуснятины, всем есть что рассказать, а ты заводишь нескончаемую сагу о голоде тридцать второго года – как матери ели детей и тому подобное. Мы над этим подшучивали, но в глубине души раздражались: имеем мы право раз в полгода забыть про страдания народа? Про которые прежде всего не желает помнить сам народ! А хочет помнить про подвиги! И никому не позволит их у себя отнять. Ибо без них нет куража. Того куража, без которого нет жизни.
Ты думал, что борешься со сталинизмом, а на самом деле боролся с героизмом. И победил только самого себя.
Прости, папочка, я говорю тебе жестокие слова, но сейчас я тоже оказался в аду и больше не могу юлить. У меня после встречи с тобою даже язык, который без костей, насобачился чеканить фразы вроде твоих. Да ведь утешительная ложь сейчас и тебе ни к чему. Ты за нее достаточно поплатился. А теперь предстоит платиться мне. Когда меня не допустили к участию в бессмертных деяниях, я тоже превратился из аристократа в интеллигента. Начал не выискивать всюду свершения, достигнутые без меня, а кивать на жертвы, на оскомину, порождаемую недоступным мне виноградом…
То есть служить тленному.
Стремился быть двигателем, а стал тормозом.
Дело, конечно, тоже нужное… Только не для еврея. Еврей в России может выжить только в роли аристократа – тормозов каждому народу довольно и своих. Любому из нас вполне хватает собственных могучих тормозов – страха смерти, боли, голода, холода, унижения, утраты, – а вот тягловой силой воодушевляющего вранья наделены лишь редкие аристократические души. Вроде нас с тобой. Но мы оба отказались от своей миссии – служить красивой лжи. Служить бессмертию. Но тебя от служения отвергла несправедливость, меня… Да и меня она же. Только тебе она предстала в образе оскаленной акулы, а мне – в личине канцелярской крысы, в декорациях скромного ада советской канцелярии.
Но итог оказался один – мы оба превратились из двигателя в тормоз: ты – гуманный, я – скептический. Ты неустанно подтачивал государственное вранье, ничего на предлагая взамен, кроме бессилия, кроме порядочности и скромности, а я неустанно демонстрировал мудрость гордого неучастия. Но стерты из памяти мы будем одинаково – миру нет нужды помнить о тормозах.
Что скажешь, папочка? Разве я не прав? Кому нужны тормоза?..
Страшный удар оглушил меня. Потом второй, третий…Только по занемевшим подошвам я понял, что громадная кувалда молотит в пол. Но прежде чем я успел что-то сообразить, вагон задергался, словно его кто-то бешено тряс за грудки, и с протяжным хрипом стал, сильно накренившись вправо. Чувствуя себя на палубе севшего на мель судна, стараясь не помять, я сложил обветшавшие листочки в папку, папку запихнул в портфель и, повесив его через плечо, как полевую сумку, хватаясь за деревянные спинки, потащился в сторону первого вагона, надеясь что-то выяснить у машиниста.
Когда я с трудом распахнул дверь на тормозную площадку, вместо привычных вписанных друг друга высоких прямоугольников мне открылись прямоугольники, развернутые друг по отношению к другу на порядочный угол. Я с третьего удара бедром раскрыл и вторую дверь – палуба уже было завалена в противоположную сторону.
Наружные двери зашипели и разъехались. Держась за поручень, я заглянул под вагон. Вагонные колеса стояли на новеньком свежем щебне, какой вечность назад я видел на дымящихся грузовых платформах. По щебню от головного вагона спотыкаясь брел классический железнодорожник с седеющими усами. Только на этот раз он был в летней голубой рубашке с погончиками, напоминающими рудиментарные крылышки.
– Что случилось? – заискивающе крикнул я, лихорадочно высматривая какой-нибудь ответный знак.
– Тормозная колодка полетела, – устало бросил он, даже не подняв головы. – Говорили им, говорили…
– А я билет потерял! – в последней попытке привлечь его внимание выкрикнул я, и на этот раз он оглянулся и проницательно пригляделся ко мне.
– Смехуечки тебе? – спросил он почти ласково, и я устыдился: разве папа бы выразился так не по-профессорски?
– А как теперь до города добраться? – Я изобразил полнейшую растерянность.
– Ты ж в другую сторону ехал?.. Подожди, дрезину подгонят, в дистанцию позвонили.
– Да бог с ним, я бы уж обратно…
– Иди обратно до шестьдесят шестого поста. Скоро пойдет обратная электричка. Если не отменят.
Я хотел спросить что-нибудь еще в безнадежной надежде, что он как-нибудь все же раскроется, но он посмотрел мне в глаза тяжелым проницательным взглядом:
– Кончай ерундой заниматься.
И я заткнулся.
Хрустя и оступаясь в свеженькой щебенке, я шагал среди чахлых болотных сосенок так долго, что в конце концов мне открылось: это и есть та самая железка от Воркуты до Воркуты-Вом, которую отец тщетно высвобождал из-под снега. А потом вдоль путей протянулась бесконечная полоса утоптанного песка, и я понял, что иду по зунтам, возвращаясь в утраченный рай своего детства. Правда, лужи с червонной водой все не было и не было, зато едва различимый сладостный запах, который я великолепно помнил, только никак не мог опознать, был несомненно тот самый, эдемский, и я устремлялся к нему так же уверенно, как полярный исследователь идет к Полярной звезде.
Запах рос, рос, ширился и наконец с полной очевидностью превратился в вонь заброшенного станционного сортира, не знавшего унижения пронзительной хлорной пены.
Да, не веря себе от счастья, я оказался в раю своего детства. Все его цветы – полынь, репейник, крапива – радостно кивали мне из канав. Правда, не хватало белены, лебеды и конопли, зато пыль, рытвины, колдобины, ржавые железяки – все было на месте, только разбавленное раз так в пятьдесят, лишь с сортиром вышла передозировка. Наш резко континентальный климат любую субстанцию зимой обращал в камень, а летом – в перекаленный артиллерийский порох. В здешнее же верзилище я не смог даже войти. Однако стоило мне занять самую дальнюю скамейку на пустынной рассыпающейся платформе, как запах вновь сделался волшебным. Ничего не поделаешь: любое место, где ты не знал смерти и сомнений, обращается в рай.
То-то отец без конца звал меня посетить свою Терлицу, стертую с лица земли огнем и свинцом… На что я лишь снисходительно улыбался.
Я уже не испытывал раскаяния – только безнадежную тоску.
Я раздвоился. Опыт жизни при советской власти изменял многих. Отец Дымченко служил кучером у пана и в 17-м году с возмущением рассказывал на митинге, как его на кухне кормили панскими объедками. А в 32-м уже вздыхал: «Ось добре було за паном – чого тильки на кухни поисты не дадуть!.. А кожух тэплый, кони добри…»
В общем, мы отправились.
Хорошее мартовское утро – и страшная усталость к концу дня. Хотя проехали мы совсем мало, километров пятьдесят. Сначала наскочили на промоину, пришлось искать объезд, а для этого расчищать дорогу. Устали, взмокли, но выбрались. А дальше пошли переметы, перерезающие дорогу сугробы. Уставшие, мокрые мы еле добрались до ночлега. Утром двинулись дальше, и будто нечистая сила решила понатешиться над нами. И день солнечный, и ветра нет – и откуда переметы! До вечера мы совершенно выбились из сил, вытаскивая машину. Вскакивали и выскакивали с лопатами из кузова и – за старую песню: «Раз-два, взяли, ещё взяли…»
Я даже стал задумываться, не дурное ли предзнаменование: суеверие во мне сидело, видимо, еще с добрых детских лет, когда нелепая случайность то и дело уносила немало людей. На третий день мы решили бросить машину и идти пешком. Двадцать пять километров в день – это игрушка. Переночуем – и дальше. А дорога одна – по реке.
Так мы за несколько дней добрались до Абези (или до Сивой Маски?), где была перевалочная база от нашей Усть-Воркутинской. Кажется, тут заправлял временно дядя Коля Никитин, и с ним без свидетелей мы попрощались как сын с отцом. Обнялись крепко и расцеловались, даже слезы выступили на глазах: ведь никого не было посторонних, чтобы улыбнуться по поводу нашей сентиментальности. Дядя Коля знал, что я убежденный марксист-коммунист, а у него были плохо осознанные эсеровские замашки, но это не помешало нам трогательно относиться друг к другу. И сейчас, когда пишу, снова наворачиваются слезы. А ведь оба мы культивировали в себе черствость, чтобы меньше страдать…
Так мы пешком дошли до Усть-Усы. Долго ходили по поселку, пока нас пустили ночевать. Неудивительно: ведь бытовики (так для благозвучия называли уголовников) немало досаждали им. А на следующий день получили по воркутинским справкам заветные паспорта.
Тут бы написать о праздничном настроении, о мечтах и полетах фантазии… Да только не было этого ничего, было только чувство неопределенности. Не терпелось, конечно, повидаться с родными – это, как ни топи в себе, все равно вынырнет, – хотелось к друзьям, хотелось скорее узнать все, что до сих пор скрывалось в неизвестности.
Из Усть-Усы снова пешком, но уже с большим чувством свободы. Нет, не в паспорте дело, что-то он меня не радовал, я не испытывал желания то и дело его доставать и перечитывать. Хотя очень обидно было, когда я его потерял в 1966 году. Через четверть века он уже был мне намного дороже. Все мои мытарства в нем были зарегистрированы. Да и фото было жалко: наголо остриженная голова, лагерная гимнастерка были для меня дорогой памятью.
Милый мой друг, ныне, увы, покойный, мечтал устроить вечер, когда мы все наденем лагерное облачение и будем есть ржаные галушки с плохо отваренной соленой треской. Не довелось нам. Теперь я один должен об этом рассказывать.
Пару раз мы подъезжали, причем один раз это чуть не закончилось скверно. Догнала нас машина с закрытой будкой в кузове. Остановили, нас посадили в будку и заперли. Подъехали к очередной командировке, и шофер пошел туда быстренько перекусить – и дальше. Так он нас предупредил. Но прошло полчаса, час, полтора часа – его нет. Мы стали замерзать. Сначала начали бороться, но тесно, не развернешься. Чувствуем, что коченеем. А это нам знакомое ощущение – какая-то пустота образуется между телом и одеждой, хотя одеты мы были хорошо – в валенках, ватных штанах, телогрейках, бушлатах. А на мне – грубошерстное пальто Шкляра. Однако на морозе все это превращается в тоненькую паутинку. И с минуты на минуту чувствуем, что доходим, хоть по мере сил стараемся двигать всеми конечностями. Стучим, кричим – ни звука, решаем ножами резать будку и вылезать – не иначе как шофер там запил и завалился спать. Но как решиться на порчу казенного имущества? Соцсобственность священна, это мы хорошо усвоили. И как потом объясняться с шофером? Он предупредил, что в будке развозит хлеб и людей туда сажать нельзя, но мы его соблазнили червонцами. Значит, мы еще и взяточники. Врагами же народа из-за окончания срока мы быть не перестали – готовая антисоветская организация. В нас уже неистребимо поселилось чувство глубинной беспомощности, твердой уверенности, что если захотят, то с кем угодно сделают что угодно. Каждый из нас прекрасно знал, что можно погубить себя одним необдуманным шагом и в результате старался никаких шагов не совершать.
Мы слышали, как время от времени нас объезжают другие машины, что есть мочи орали, но они, по-видимому, нас не слышали.
Шофер, как опять-таки и положено, явился в самый критический момент. Открыл нас, и видим, что он подвыпивши (он тоже бытовик). Спрашивает с усмешечкой, не надоело ли ждать, а мы уже так рады ему, что и не ругаемся. Да и что с него взять? Предлагаем ему ехать помедленнее (да там быстро и не поедешь), а сами за машиной бегом. Бежали, пока пот не выступил, а тогда уже снова в будку.
Пассажирских поездов на Котлас еще не было, и мы попросились – за мзду, конечно, – в прицепной вагон, в котором ехала бригада. Нам предоставили даже какие-то ложа, и мы как мертвые рухнули спать, хотя покоя на душе по-прежнему не было.
Бригада вся состояла из бытовиков, и всю ночь они играли в карты и пьянствовали, беспрерывно вскрикивая то от восторга, то от негодования. Но особенно мы уже не боялись, так как были свидетели, что мы садились, и это должно было их удержать от нападения.
Да на такие работы и редко попадали уголовники-рецидивисты и убийцы. Однако мои спутники были верны себе – ножи держали под подушкой.
В Котлас – мечту многих лет – мы приехали под вечер и в сильный мороз. Кинулись на вокзал, да не тут-то было: он был битком набит до самых дверей – все прятались от мороза. Возле дверей стоял наш старый приятель Филиппов. Кажется, из Киева мы с ним еще ехали. Запомнил только, что он служил в ЧК в Полтаве чуть ли не комендантом и знал Короленко. А ума не хватило, чтобы разузнать какие-нибудь подробности об этом замечательном человеке!
Филиппов добрался до Котласа раньше нас и мерз на улице. Даже он, здоровый мужик, не мог протолкнуться в здание и ждал, когда кто-нибудь выйдет, чтобы втиснуться.
Тогда мы решили искать счастья в городе. Долго мы бродили из дома в дом, просили приютить, но нигде не пускали. Вид наш не особенно внушал доверие, хотя мои очки должны были хоть немножечко свидетельствовать о нашей благонамеренности. Только на самой окраине добродушная старушка согласилась нас впустить и показала место ночлега. В маленькой спаленке рядом со своей деревянной кроватью она набросала на пол какое-то тряпье, на которое можно было улечься.
Оставив котомки со своим барахлом, мы пошли ни больше ни меньше как в ресторан. Это было наше первое прикосновение к «культурной жизни». Музыка, люстры, официантки… Нам принесли меню, и Дымченко сразу распорядился: «Все что есть, и по три порции». Официантка несколько удивилась, но в таком городе, как Котлас, всякого можно было ожидать. Правда, первое мы не одолели, но остальное истребили добросовестно.
И снова пытаюсь воспроизвести настроение, мысли, чувства – пустая трата времени. Осталось в памяти одно будничное: поели – и спать.
Ночью кто-то из спутников меня тихонько растолкал. Старухи в кровати не было, а из комнаты раздавался веселый смех. Через едва приоткрытую дверь мы увидели подозрительную компанию с дамами. Орали, пили, веселились, видимо, не обращая на нас внимания. Сколько их было, непонятно. Но мои друзья держали ножи наготове. Конечно, все это было из поговорки «у страха глаза велики». Не будут же в доме, в городе нападать на трех здоровых мужиков! Но с другой стороны, пьяным мало ли что взбредет. И дело даже не в страхе, его у нас не было, а просто напряжение, которое, кажется, мы сами искусственно подогревали. Установка «не успокаиваться», обостренное чувство настороженности, бдительности вечно лежали на сердце.
В общем, мы поняли, что попали в «малину», и наша добрая старушка, видно, не первой честности женщина. Хотя икон был полон дом, это нас с вечера и убаюкало.
Открылась дверь, мы притворились спящими, и старуха забралась на свою кровать. Гости расположились в комнате на полу, и мы задремали. Чуть свет мы вскочили, оделись и через тела спящих ринулись к вокзалу. Надо было захватить билеты. К чести железнодорожного и милицейского начальства, нам их выдали бесплатно и в первую очередь – поторопились очистить вверенную им территорию от сомнительной публики.
На второй день мы были в Кирове. Это уже город. Но мы не совсем гармонировали с ним в своих ватных костюмах и валенках. Солнышко, тает снег… Сначала мы прыгаем с сухого на сухое, а потом машем рукой: не привыкать. Сперва подмочили ноги чуть-чуть. Холодно. А после второго и третьего раза и вода согрелась.
Ничего. Не такое видали.
За хлебом очередь, мы покупаем бублики и вешаем по вязанке на шею. Идем вразвалочку по улице, грызем бублики, смотрим, как на диковинку, на большие дома, читаем все вывески подряд, пока не наскочили: Областное управление внутренних дел. О, это не для нас. Давай скорее мимо.
На вокзале вечные очереди, но наши справки чудодейственны. Дежурный ставит нас первыми. А нашего брата здесь совсем мало, не то что в Котласе. И на следующее утро мы уже в Горьком. Валенки мы в вагоне подсушили, а утром подмерзло – можно шастать.
Попадаем в Нижегородский кремль и ведем себя более цивилизованно. Здесь не тает, ноги сухие, поэтому и сам чувствуешь себя увереннее. А где-то я заметил вывеску «Отдел народного образования». Оставляю друзей – и туда. Хочу испытать: как встретят, что скажут. И на диво – самый теплый прием. Я рассказал все честь-честью: готов ехать куда угодно, и мне обещают место в сельской школе. Но надо подождать день-два. Заведующий в Москве, он должен подписать приказ.
Я на седьмом небе. Все годы на Воркуте я вынашивал мысль, что вернусь на волю – и в рабочие. Хоть это и нескромно, но скажу, потому что это правда: грузчиком я был первоклассным. Когда писатель со стороны описывает тяжелый труд и даже вышибает слезу у читателя, так это потому, что именно со стороны он кажется невыносимым. А когда пять лет вкалываешь изо дня в день и есть возможность набить живот и поспать, то все становится вполне будничным. Стать рабочим я мечтал с детства – гегемон, независимость. Если ты перетаскал много мешков, то уже никто не скажет, что ты не заслужил свой хлеб. И голова не перетружена – читай, занимайся, учись.
Но когда воля стала реальной, подспудно зарождалось и другое: школа, дети, наука… Ну как без них? Я себя подготовил в лагере к преподаванию иностранных языков – хоть немецкий, хоть английский. И в душе у меня не было ни капли зла за случившееся. Ягоды нет, Ежова нет, а дети вечные. И к ним нужно идти.
Эх, папочка, и оставался бы ты с этим вечным, нес малым сим другое вечное. В тебе же и видели посланника из большого мира – мира Истории! А ты с годами начал подводить к тому, что никакой Истории, какой ее нам Бог дал, у нас нет и быть не может, а есть только нескончаемая афера злодеев и дураков. И единственные доблести в нашем мире – это порядочность и скромность. Антей взбунтовался против власти Земли – оставил и себя без красоты и величия, и у других попытался их отнять. Да только кто же согласится отдать воду, воздух, солнечный свет? Ты отнял их только у себя.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.


![Книга YE [VNUX] автора Марк Трахтенберг](/books_files/covers/thumbs_100/ye-vnux-264816.jpg)