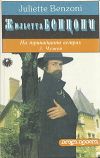Текст книги "Тень отца"

Автор книги: Александр Мелихов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 24 (всего у книги 30 страниц)
Но только нравоучительные. Он к тому времени слегка – или даже весьма? – подвинулся на морали: скромность, порядочность, скромность, доброта, скромность, скромность, скромность… Челюсти сводило от этой кислятины – как будто доброта запускает людей в космос!.. Как будто порядочность открывает Америку! И как же мне, молодому идиоту – да и старому тоже, – было дотумкать, что скромность – последнее прибежище неудачника, порядочность – последнее утешение побежденного… Не важно-де, что я не сделал ничего выдающегося, – важно, что я ни разу не покусился на чужое!
Но я уже не взывал к отцу с мольбами о прощении – сегодня я был настроен более по-деловому: я сам его разыщу.
На полутемной лестнице под третьей ступенькой снизу притулился серый мешочек. Однако при моем приближении он приподнял узкую змеиную мордочку, затем выгнул голую серую спину – и я узнал его! За обогатительной фабрикой, на зунтах я наткнулся на обширную лужу розового цвета. «Червонное золото!» – догадался я. Я долго любовался благородным отливом, пока не углядел в дальнем конце лужи мокрую, словно вылизанную, дохлую собаку, медленно струившую в воду тоненькую рубиновую струйку. Вот эта псина меня и поджидала на лестнице.
Серая тварь поднялась на тоненькие, словно щупальца, облизанные лапы и ускользнула вниз, к крысам, таким же облизанным и текучим. А я двинулся дальше, железной рукой подавив содрогание: отцу виднее, какими средствами подавать мне знаки.
С выходной двери взывал тетрадный листок: «УМОЛЯЮ!!!! Пропал египетский кот (сфинкс)! Дети очень скучают!» Далее шел номер телефона, мобильного и стабильного. Я сообщил, где искать кота, но благодарностями тронут не был: мне бы их заботы.
В асфальтовом дворе я напрягся снова: под аркой нежилась, перебирая плоскими лапами, раздавленная черная собака. Это оказался рваный мусорный мешок.
На улице я уже понимал, что от подобной безвкусицы ничего стоящего ждать не приходится, и переключил внимание на людей. Я пристально вглядывался в лица прохожих, но никто из них не желал даже встретиться со мною взглядом. Не беда, я надеялся на железную дорогу.
Стоп! У подземного перехода каменел в отключке сребробородый еврей в черном среди лета обтерханном пальто; в руке он держал такую же обтерханную книжку. Фадеев, «Разгром», «Библиотека школьника», приблизившись, прочел я. Разгром – это, пожалуй, и об отцовской судьбе… Я долго вглядывался в темно-янтарные отцовские глаза, но они пребывали в каком-то ином мире. Я протянул ему сторублевку, но он не шелохнулся. Пришлось той же купюрой пощекотать ему пальцы; помедлив, они приняли деньги, но сам я так и не был удостоен внимания.
Проехал милицейский «воронок», я впился в него глазами. Однако и оттуда никто не подал ни малейшего знака. Зато сильно напряг меня простецкого вида мужлан в заляпанном строительном комбинезоне, нахлобучивший на макушку маленькую белую кипу, – лишь шагов с трех я разглядел, что он просто сдвинул на макушку тряпочный респиратор. Глупо было и приглядываться – отца никакие кипы никогда не интересовали, он и еврейством-то заинтересовался только тогда, когда остался совершенно один, когда развеялись последние остатки воодушевляющего вранья, еще роднившие его с этим миром. Да и тогда он рекомендовал евреям лишь все те же универсальные средства безболезненного исчезновения – порядочность и скромность. Стать как все и раствориться без следа. Мое еврейское имя Лев я получил в честь Льва Толстого, а еврейской Розочкой, окажись я девочкой, папа намеревался назвать меня исключительно во имя Розы Люксембург.
Из подполья поманила вывеска «Эзотерическая литература». Я уже готов был опуститься и туда. Сколько их, куда их гонят!.. Целые кипы: «Мудры и мантры», «Бесконтактный аутомассаж», «Пути шамана», «Лечебные масла от всех болезней», «Роза мира», «Энергетическая клизма»… Долго мы, умники, заставляли мир жить в мире без чудес, повторять непонятные слова: протоны, гормоны, энергия… Не просто что-то бодрящее, а произведение силы на путь. Нет уж, будя, попили нашей кровушки! Таперича мы будем жить враньем, а вы, которые за правду, будете при нас лакеями!
Я раскрыл роскошный двухтомник Блаватской. Тайная доктрина, Дхиани-Будды, Риджи-Праджапати, Мулапрокрити… Из Семи – Первый проявлен, остальные сокрыты…
Еще что-то полузнакомое – Анни Безант. Ментальный план, астральный план… Каждая перемена в Сознании немедленно сопровождается вибрациями в окружающей материи…
Женщины, принимающиеся лгать всерьез, становятся еще более несносными, чем мужчины. Ложь без наивности на месте адских сил я бы расценивал как кражу с особым цинизмом. Врать надо весело.
«Кухня ведьм», «Некромантия» – это было как-то посимпатичнее. Наивное не бывает пошлым, вспомнил я и открыл «Некромантию». В сущности, я же и хотел вызвать мертвого…
За девять дней до церемонии некромант и его помощники начинают готовиться к ней, создавая вокруг себя ауру смерти. Они одеваются в погребальные одежды, снятые с трупов. Облачившись в эти одеяния, они читают заупокойные молитвы по самим себе. В течение всего периода подготовки некроманты едят собачье мясо и черный хлеб, выпеченный без соли и дрожжей, и пьют неперебродивший виноградный сок. Ибо собака – животное Гекаты, богини призраков, смерти и бесплодия, ужасной и неумолимой обитательницы пустоты; тот, кто ее увидел, теряет рассудок. Воздержание от соли – символ посмертного разложения, ибо соль является консервантом. Хлеб же, выпеченный без дрожжей, и неперебродивший виноградный сок символизируют материю, лишенную духа, прах земной, не одухотворенный искрой жизни…
По истечении девяти дней… На могилу… Между полуночью и часом ночи… Очерчивается магическим кругом… Факелы, благовония, белена, болиголов, шафран, опий, мандрагора… Во имя мук осужденных и проклятых повелеваю и приказываю тебе, дух усопшего Каценеленбогена, восстать и повиноваться сим священным обрядам под страхом вечной муки!
Ну нет, такой коктейль мне даже в полночь на кладбище будет не проглотить без смеха. Папа не стал бы превращать свою трагедию в фарс. Но все же я кое-что перелистал не без интереса. Появление призрака, например, сопровождается внезапным холодом. Вроде да, похолодало в тамбуре довольно резко… Господи, а это еще что?
…Влила в жилы трупа смесь теплой менструальной крови, слюны бешеной собаки, кишок рыси, горба гиены, вскормленной трупным мясом, сброшенной змеиной кожи и листьев белены… Отсекает голову козлу и помещает ее в распоротый живот трупа; другие части тела животного он кладет в рот мертвецу, тем самым отождествляя его с козлом…
Нет уж, спасибо. Своих родителей отождествляйте с козлами. Козлы…
Но публика, заглядывающая в этот уютный уголок, чувствовала себя вполне в своей тарелке. Кто-то был явный изможденный шизик, кто-то – просто пожухлый интеллигент из бывших, вроде меня самого, а увядающая красотка в обтянутых брючках цвета наваринского дыму с пламенем, похоже, забегала сюда как в клуб интересных знакомств. «А вы читали про лунные фазы в третьем колене?» – кокетливо спрашивала она облезлого интеллектуала с обкромсанной клочковатой бородой, и тот что-то эдакое бубнил о звездах Сад-ад-Забих, не хуже звездочета Гуссейна Гусли, – и они удалялись вполне довольные друг другом. Астрология как средство перепихнуться ничуть не хуже прочих, меня только серьезность вгоняет в тоску. А то одна моя поклонница вычислила по гороскопу, что я принадлежу к породе пророков. Я полушутя выразил удивление, что на человеческую судьбу оказывают влияние не все звезды, а только те, что были открыты до изобретения хороших телескопов. Да и число двенадцать совершенно произвольно…
После этого она проделала вычисления заново и установила, что я принадлежу к породе неисправимых догматиков. Подгонять вычисления под нужный результат – из науки за такое изгоняют поганой метлой, а тут – нормальное дело…Что, интересно, за такое полагается в преисподней? За ложь занудную, развернутую, косящую под научность? За фантазии поэтические я вообще бы давал условный срок. Хотя только они и бывают бессмертными…
Так, стало быть, поэтическое вранье награждается бессмертием? Куда же тогда попадет какой-нибудь Карл Маркс?
Я почел возможным приобрести «Книгу привидений» лорда Галифакса: лорд – в этом всегда есть что-то стильное. Сходить с ума тоже надо со вкусом.
Я втянулся и все меньше уставал. Вечером можно было позаниматься при лампадке, и я взялся за английский язык, чтобы время зря не пропадало.
Свои валенки, которые мне мама передала в тюрьме, я отдал киевлянину Кедрову, маленькому еврею с такой мощной фамилией.
Он когда-то участвовал в оппозиции, но потом отошел. Остроумный человек с основательной дозой цинизма. Он как-то рассказывал, что ему поручили вовлечь в оппозицию какого-нибудь старого большевика для рекламы. И его жертвой стал Миша Киевский, член партии с 1915 г. И этот оппозиционер был тут же. Полуслепой еврей в очках-биноклях, не умевший и двух слов связать. И Кедров над ним нередко потешался, не испытывая ни малейшей вины за «вербовку»: революция требует жертв.
– Вот, подтверди, Кедров, – обращался к нему Миша, – какие у меня бабы были, с какими грудями, – ни у кого таких не было.
Всем становится весело, и Кедров начинает описывать его дам. А Миша сидит довольный – вот какой я был, не смотрите, что я теперь такой!
Грустно было наблюдать такие комедии, но все равно смеешься. Все смеются, сколько бы спектакль ни повторялся в разных вариантах.
Папочка, хоть бы раз ты посмеялся с нами вместе над чем-нибудь малопристойным! Это бы так нас сблизило!.. А главное, мы бы поняли, что ты тоже всего лишь человек…
Хорошо, что теперь я мог с полным пенсионерским правом занимать место у самого входа, держа в поле зрения весь вагон.
Кедров был, видимо, слаб здоровьем, и его оставили на внутренних работах, хотя все равно под открытым небом, а валенки ему не полагались. Но и мои у него не задержались надолго. Вечером он их поставил сушить, а к утру их уже не было. И тут впервые проявился мой авторитет в мире уголовной братии. Я с ними часто встречался в лесу и беседовал, иногда в поселке болтал о том о сем и постепенно завоевал их симпатии.
Валенки, конечно, они взяли. Но кто? Я обратился к одному из приятелей и рассказал о своей обиде, что, мол, дал другу валенки и каково ему теперь передо мной. На следующее утро валенки были на месте.
Чем объяснить? За все годы я убедился, что эта братия тоже любит уважение к себе, причем она неплохо разбирается, где искреннее, а где притворное. И тогда, и сейчас они для меня в первую очередь обездоленные – при всем богатстве наглости, грубости, самоуверенности.
И все же при всем том презрении. которое они к себе вызывают своим поведением, я не раз убеждался, что где-то глубоко, подспудно лежало человеческое. Почему же оно так редко проявлялось? Об этом я думал тогда и неоднократно возвращаюсь к этому теперь, когда бываю с лекциями в лагере для заключенных.
Я знаю очень многих работников колоний, это большей частью неплохие люди, но у них нет той духовной и душевной культуры, которая бы размягчила души их воспитанников, чтобы те «по ним» хотели бы строить свою жизнь.
В послевоенные годы мне много приходилось работать с так называемыми «трудными», с которыми было очень трудно, и эта работа снова подтвердила, что они нуждаются не в ученых трудах и не в научных симпозиумах, а в добрых, честных воспитателях, которым «трудные» доверяли бы. Мы же в работе с ними чаще обвиняем их в нежелании исправиться, чем себя – в неумении исправить их. Операцию на сердце доверяем ротным фельдшерам, которые дальше йода и касторки ничего не знают и не хотят знать.
Когда, уже в Кара-Тау, отец превратился в странствующего проповедника, читающего по областным зонам проповеди, именуемые лекциями («Я их через моральный кодекс строителя коммунизма подвожу к христианским заповедям», – с видом тонкого политика делился папа, конспиративно понижая голос), он уже представлялся нам тем самым чеховским интеллигентом, не нюхавшим настоящей жизни. Он и сам косил под интеллигента столь умело, что невозможно было вообразить его в таком авторитете у блатных. Но в зоне-то он проповедовал не словами, которые так легко подделать, а делами, в которых не сфальшивишь, каждую минуту проживая у всех на глазах. В лагере надо было не сдешевить именно НИ РАЗУ – святому не прощают и мига слабости. И вот это-то НИ РАЗУ и было его философским камнем.
Хотя и этот камень, скорее всего, срабатывал лишь в бесхитростных руках: святость, претендующая на святость, уже не святость. А отец о такой серьезной жертве, как подаренные валенки, упоминает исключительно потому, что их украли. И люди плоти, люди земли не могли этого не ценить.
Вскоре я пошел на повышение. Где только люди не делают карьеру! Я «вырос» до бригадира. Это было полудемократическое назначение. Цвик посоветовался с бригадой, и я вышел в начальство. Все свелось к тому, что я распределял людей на работу и должен был вместе с десятником принимать сделанное. Но я не допустил себе никакого послабления. За поясом у меня всегда был топор, и я следил, где люди отстают, – подойду туда и помогу. Ведь все были моими друзьями, выискивать себе хоть малейшее облегчение я считал бессовестным.
Люди постепенно втянулись в работу, и все стало будничным. Работать и спать. Меньше стало философских рассуждений и политических споров. Каждый, может быть и не совсем осознанно, мобилизовался на то, что надо выжить. Появлялись время от времени книги, но обсуждений их не помню. Бросит кто-нибудь осторожную фразу и такую же услышит.
У меня была французская «Грамматика», и я принялся ее зубрить. Буквально зубрить. При коптилке долго не начитаешься, так возьмешь французское предложение в рот – и жуешь его, и жуешь, чтобы в памяти закрепилось.
Шумели только троцкисты – не капитулировавшие. Они себя называли не больше и не меньше как большевиками-ленинцами. Им было море по колено, и нас они не раз упрекали в трусости, глупости, беспринципности, но вступать с ними в спор мало кто решался. Бессмысленно было. Особенно запомнился Вирап Вирапович Вирап, тоже напоминавший своим видом Дон Кихота.
Что можно сказать о людях, которых знаешь только по их собственным словам, и необычайно пристрастных во всех своих разговорах? С 1927 года Вирап непрерывно пребывал в ссылке или в политизоляторе. Он армянин, член партии с 1915 года, был редактором «Звезды Востока» (так, кажется) в Тбилиси, бывал в гостях у Сталина, рекомендовал в партию Берию и рассказывал, что тот по заданию партии сотрудничал с «Интеллидженс Сервис». Что тут истинного и что мифического – трудно сказать. Ведь не переспросишь и не перепроверишь, мы для них «генеральщики» – это сторонники генеральной линии партии, и смотрят на нас со снисходительным презрением. Но хорошо запомнились его слова: «Троцкий бы расправлялся еще чище, чем Сталин».
Некоторые из них пытались декларировать свои взгляды, хотя знали наши настроения и, казалось, не считали нас достойными слушать.
Через два года в приказе по лагерю Вирап был первым в списке подлежавших расстрелу на кирпичном заводе.
Насколько мне известно, он не работал все эти годы и на нас, работяг, смотрел с презрением. Все вспоминал хорошую жизнь в политизоляторе – работать не надо, кормят неплохо, читай и спорь. А спорить они умели.
Доходили слухи через них, что на самой Воркуте таких, как они, много, и что те объявили голодовку, требуя специального режима для политзаключенных. Свыше ста дней их кормили насильно, а куда они делись потом, неизвестно. Кто говорил, что их расстреляли, кто – что увезли в тюрьму в Обдорск (Салехард). Гадать не хочу.
Но однажды к нам на перевалбазу приехали на лошадях уголовники, и я с товарищами грузил аммонал. По их словам, он предназначался для взрывов, чтобы в воронках похоронить расстрелянных. До этого на санях привезли лагерную одежду, и от возчиков-урок мы узнали, будто не желавшим работать велели сдать лагерную одежду и переодеться в свою. Но по дороге в Обдорск этап в 1300 человек (цифру называла лагерная обслуга из урок) был прямо во время движения с обеих сторон расстрелян из пулеметов. Один комплект одежды я стащил и в уголке поменял свои ватные штаны, телогрейку и бушлат на новые – в память о хороших людях.
Да-а, папочка, не устаешь ты меня поражать… Чтобы главный каратауский интеллигент надел вещи расстрелянных!.. Ты был действительно плотью от плоти народной!
Я попытался оглядеть народ в вагоне – они тоже на такое готовы? – но ничего разглядеть не смог. Меня неудержимо тянуло обратно, к отцу.
Совсем другим человеком был Азагаров. Черная окладистая борода делала его похожим на еврея-талмудиста. Очень сдержанный, тихий, он как-то не бросался в глаза и избегал споров.
А через некоторое время все они для нас уже не представляли никакого интереса. Каждый из нас работал по мере сил и ожидал, когда уже «там» разберутся, когда «ОН» узнает обо всем и даст по рукам провокаторам.
У меня между тем на работе установились самые дружественные отношения с сильными мира сего – с уголовниками, – хотя не обходилось и без трений. Скандалы начинались при обмере леса. Его теперь уже не носили на себе, а «механизировали»: на санки кладут до одного кубического метра, и три человека запрягаются в лямки и тащат. Но кубометр был очень условным. Ловкач положит в середину кривулину и вокруг нее лепит так, что половина кубометра – лесной воздух. Я, конечно, готов был поощрять подобное творчество, но на складе в поселке так не принимали. И вот начинается торг.
– Пиши кубометр! – кричит на меня Фомин, коренастый паренек лет восемнадцати. Он рос без родителей и уже несколько лет шатался по лагерям, совершенно не страдая от этого. Его поддерживают друзья. Я им доказываю, что не могу.
– Эх, жаль, что не попался ты мне в восемнадцатом году, я бы тебя на этой березе вздернул!
Я молчу. И перекрестив меня всеми богами и родителями, они отправляются.
Маленький коренастый калмык в брезентовой куртке возит один и хочет тоже, чтобы я записал кубометр. По-доброму доказываю, что не могу. Он хватается за топор, что у него за поясом. У меня тоже топор, но я не прикасаюсь. Хотя знаю его дикий нрав.
Я его заметил еще в первый день, когда стояли за ужином в очереди, за знаменитыми 120-ю граммами гречневой каши. Вдруг крик, кого-то выводят из очереди с разбитым лицом. Начинается шум, угрозы неизвестно по чьему адресу. Подхожу и вижу паренька монгольского типа, а нос будто клюв хищной птицы, как бы приклеен к плоскому лицу. В руках у него ночной горшок для каши. Пострадавший отпустил какую-то шутку по этому поводу и получил горшком по лицу.
Пока все волновались, вытирали кровь, произносили тирады, из которых самая громкая и ходкая была, что тут советский лагерь, а не фашистский, что и тут советская власть (ораторов, как всегда, было больше, чем деятелей), парень оставался совершенно невозмутимым. Подошла его очередь, он взял в горшок свои 120 граммов и ушел.
Теперь у меня с ним происходит стычка. А время позднее, в лесу никого уже нет. И надо ему доказать не то, что тут кубометра нет, это он и сам знает, – важно убедить, что я не могу записать: все равно в поселке по-своему запишут. Отпустив мне нужную долю матюков и угроз, он впрягается и едет. Я иду немного поодаль. Наконец он доехал до подъема и начинает быстро взбираться, а там метров 50—70. Я за ним. Но на самом верху – крутой горб. Он добрался до половины, и на самом крутом месте его потащило назад, и сани медленно стали сползать вниз. Я спешу на помощь, есть возможность показать ему свое доброжелательство. На шее у меня лямка, можно подцепиться и помочь. Но новый поток брани выливается на мою голову. Я отхожу, а он, удержав сани на более пологом месте, снова тащит их вперед. И на той же горбине снова неудача. Я уже не подхожу. Сани медленно ползут вниз, а тягач стал на четвереньки и изо всех сил их сдерживает. Вот они снова на пологом. На четвереньках, хватаясь руками за снег, он начинает снова ползти вверх, и когда он оказался на самом критическом месте, я подскочил, зацепил свою лямку и вместе вытащили наверх. «Конь» меня будто и не замечал, пока шли вверх, но как только мы оказались на ровном, на мою голову посыпалась такая брань, что казалось, вот-вот он размозжит мне голову. Я отошел и отправился в барак, а калмык поехал на склад.
«Что будет дальше?» – думал я, идя домой: затаит ли он злобу против меня, что я был свидетелем его конфуза, или, наоборот, смягчится?
Утром он меня встретил с улыбкой, и я даже поговорил с ним о чем-то. А вообще улыбки на его лице я никогда не видел. Этот хищный изогнутый клюв, прилепленный к плоскому лицу, вызывал просто жуткое ощущение. Говорили, что он сын раскулаченного калмыка и еще подростком попал в лагерь. Однажды бежал, и когда его настиг вохровец с собакой, он их зарубил топором. Дружбу он ни с кем не водил. Уголовники имели свои компании и орудовали вместе, он был дикарь-одиночка. Его сторонились и побаивались, и на диво всем, со мной он потом поддерживал дружественные отношения, пока я был на Адзьве.
Самой оригинальной фигурой из уголовного мира был Соловей. Среднего роста, узкоплечий, худой, с какими-то красными пятнами на лице, он некогда был лидером уголовного мира, но затем «скурвился» и стал начальничком. Заслуга в его выдвижении принадлежала, как говорили, самому начальнику всех Ухто-Печорских лагерей Соколову (или Морозу?). В прошлом, говорили, начальник Бакинского горотдела НКВД, он кого-то застрелил и получил за это 10 лет. И отбывал их в качестве начальника лагерей. По-видимому. это был порядочный демагог. Ходил он в лагерном бушлате – все-таки зэк – и всячески заигрывал с уголовниками. Это называлось воспитанием через личное шефство. И таким подшефным в Адзьва-Воме стал у него Соловей. Этому необузданному истеричному парню были предоставлены отдельная комната, специальный паек и сожительница. Ее он, наверно, сам выбирал. Страшная матерщинница, она себя рекомендовала бывшей цирковой актрисой, севшей будто бы за шпионаж (все-таки романтично).
И у этого товарища, вернее, гражданина я стал чем-то вроде референта, оставаясь в прежней должности бригадира. Вечером я ему докладывал о выполнении плана, писал какие-то рапортички, пил чай и рассказывал какие-нибудь приключенческие истории, которые он слушал с наивностью ребенка. Только супружница его, более грамотная (а он был совсем неграмотный), иногда вступала со мной в рассуждения и споры.
Уголовники перестали его чтить, и то, что я ходил к нему, до некоторой степени чернило и меня, но они знали, что я вынужден. Да и они пусть нехотя, но ему подчинялись. Я его много раз видел в гневе – это было страшилище. Орет, сам не зная что, угрожает, матерится, размахивает руками и тычет ими в лицо. Под таким натиском нельзя было не сдаться.
Если не ошибаюсь, где-то в центральных газетах после войны промелькнула заметка о его диком поведении в семье уже на воле. Он или не он – не знаю. Хотел написать ему, но раздумал.
Пишу каждый раз «говорили», «будто», «рассказывали», «передавали» – и самому становится неудобно.
– К чему же тогда писать? – спросит иной. – Не знаешь точно – не пиши. Легенд и без того много наслышались.
Но здесь я следую отцу истории Геродоту: «Я обязан передавать то, что говорят, но верить всему я не обязан».
У Геродота, как известно, много легенд, но даже те мифы, которые народ выдумывал, – тоже ведь одна из сторон жизни, вот и думаю, что и лагерные «параши» могут в какой-то мере рассказать если не о реальности, так о наших мечтах, представлениях.
Был у меня еще беспалый друг. Он сам себе отрубил пальцы правой руки, чтобы не работать. Так, по крайней мере, он рассказывал, и это похоже на правду, потому что таких случаев было немало. Был он моим земляком, из Винницкой области, но села не помнил и родителей не знал. До каких-то лет воспитывался в детдоме, а потом пошел по миру воровать. И как он смаковал рассказы о своих похождениях! Нет, он не хвастал, как это было у Соловья и других, он искренне наслаждался, вспоминая свои подвиги. Хоть удачные, хоть неудачные, а все равно здорово!
Вот он забрался на пасеку где-то на Урале. Пчелы кусают, а он все равно нажрался меду с сотами. Наскочил хозяин и страшно его избил. И все равно здорово!
– Ох же и нажрался того меда!
Вообще, пожрать, попить, попохабничать – в этом вся жизнь. Как бы ни досталось, чем бы ни кончилось, но зато пожрал, ох и пожрал, или погулял, хоть и заболел после. Все последующие неприятности и муки ничто по сравнению с полученным, хоть и коротким, удовольствием.
Позже я слышал от одного такого типа: «Вот дали бы мне ящик конфет и сказали бы: ешь сколько хочешь, а мы в это время будем бить сколько влезет – я бы согласился».
Не знаю, как это назвать – животная жизнь, что ли? Но, наверно, никакое животное не согласилось бы на такое. Скорее это животная жизнь от слова «живот»: ради того, чтобы его ублажить, они готовы на любые муки, до того или после того.
Мой беспалый друг, в отличие от Соловья и калмыка, интересовался всем на свете и любил слушать решительно обо всем, начиная от детских сказок и кончая гипотезами о происхождении Луны. И всегда выскажет свои суждения. Было у него и определенное пристрастие к политике. На работу он ходил, но в лесу почти ничего не делал. Подойдет к работающей паре и начнет лясы точить, а своя работа стоит. А пайку, однако, выводи. Это уже было мое умение. И вот так, бродя между участками, залезает на дерево и кричит во всю мочь: «Братцы! Хороша советская власть, да больно долго она держится». И хохочет. В таких случаях все притворялись, что не слышат. Да и кричал он просто сдуру, ибо никогда в «серьезном» разговоре он не высказывал чего-нибудь подобного. А стесняться ведь не в их натуре.
Потешал он нас иногда во время проверок. Выскочит вперед – и давай кричать: «Тракцисты проклятые! Сталина нашего убили, Кирова хотели убить!»
Всем становилось весело от такой тирады, да и делал он это, «чтобы повеселить своих ребят», и сколько я его ни учил, что убили-то Кирова, он все равно потом перепутает. И не скажешь ведь, что бестолковый…
О похождениях этих людей (людей, людей!) много приходилось слышать, но трудно отличить правду от лжи. Так, например, говорили, что если не хотят идти на этап, то оттянут кожу живота и ножом сквозь нее пригвоздят себя к столу и регочут – бери, если хочешь. Уверяли, что даже мошонку прибивали ножом к скамейке. Но рассказывали сами блатные, чтоб показать, какой у них характер, воля. Безвольных они презирали. Помню парнишку с одутловатым лицом, которого они звали Машкой. Какой-то грузный, прямо рохля. Чего только о нем не говорили. Интересно, как весело они рассказывали о получении второго или третьего срока: неудачно своровал, с кем-то подрался – и без намека на сожаление, будто в родной дом вернулись.
Совсем непохожим на других был Никитин – наш КВЧ. Тоже вор, но себе на уме, напыщенный, важный. Не зря доверили ему культурно-воспитательную часть (КВЧ). И речь у него напыщенная. К месту и не к месту вставит: «Партия и правительство поставили перед нами задачу, задачу немалую, тем более важную». Оглянется по сторонам – каков эффект. Но вредным он не был, просто кормился человек узаконенным тунеядством и напускной важностью. Но с братией воров не рвал – а вдруг тут, в КВЧ, споткнешься.
Наряду с этой аристократией были «выдвиженцы» из нашей братии. Кто ищет, тот всегда найдет. В конторе остался, кажется, плановиком, Р.А. Ульяновский. Икапист, окончил Институт красной профессуры, работал в Коминтерне, ездил даже в Индию с Примаковым – такое у меня осталось в памяти об этом человеке, с которым мы приятно встретились через двадцать лет в Институте востоковедения, где он стал заместителем директора. И позже я с удовольствием читал его статьи и книги по колониальному вопросу.
В лагере он явно располагал к себе своей рассудительностью и культурой. Где-то на «умственной» работе был и его друг Сиводедов, экономист Кузнецкого комбината, живой, юркий человек. Не мне, талмудисту и по настоящему Талмуду, и по советскому, было с ними тягаться, хотя я с большим интересом слушал их рассказы. Но мир канцелярии был органически мне чужд. Пить до дна! Да, лес давал и независимость, возможность меньше сталкиваться с начальством, которому надо – хочешь не хочешь – чем-то угодить, да и с коллегами, которые будут претендовать на теплое место, интриг тут не избежать.
Это знакомо. Я тоже всегда старался держаться подальше от начальства, а значит, и от истории. Перенес закон ГУЛАГа на мирную жизнь. А ведь этого, папочка, я, похоже, от тебя набрался…Отказался от винограда, который ты объявил зеленым.
В вагон входили и выходили стремительно беднеющие с удалением от города бюджетники, но никто из них не обращал на меня ни малейшего внимания, однако я был исполнен терпения, как таежный охотник, выслеживающий рысь. А когда поезд трогался, вновь оставался лишь отцовский голос.
В начале 1937 года нас, работяг, собрали и предложили добровольно отправиться на создание нового лес-зага на реке Косью. Рассказывали при этом о будущем строительстве железной дороги из Котласа на Воркуту, которая будет проходить недалеко от новой «командировки» (так называли лагерные поселения). Не помню, в какой мере все было добровольным, но я тут же вызвался. Участвовать в таком строительстве заманчиво. Я хорошо знал книгу о строительстве Беломорско-Балтийского канала, и никаких не было помыслов о рабском труде. Наоборот, помню настроение: хоть где, хоть как, но строить социализм, пусть пока в одной стране!
В «командировке» меня снова выбрали бригадиром: знали уже, что я не командую, а только помогаю.
Этап. Конвой. Сколько за этими словами горя, страха, бед. У нас он прошел довольно-таки благополучно. Шли по укатанному льду реки Адзьвы, потом Косью. За день – 25—30 километров, ночевали в «станках» – так назывались землянки, построенные для ночлега. Там печка, нары, занимай как успеешь. И самым уютным оказалось место под нарами. Простор, и воздух получше. Настелить только побольше хвои. Дали нам сухой паек, на плите чай вскипятишь – живи душа.
Не очень придирались и конвоиры. Только один, шедший сзади, всегда нас величественно предупреждал: «Шаг влево, шаг вправо – стреляю самостоятельно». Слова «без предупреждения» он никак не мог запомнить и заменил их культурным «самостоятельно».
И всегда кто-нибудь пошутит: а надо, так поможем.
На второй или третий день нам встретились двое или трое саней с людьми. Ехало, видимо, «начальство». Но на ночлеге нам сказали, что это повезли сына самого Троцкого, которого (Троцкого) большинство презирало, даже бывшие его адепты, до хрипоты спорившие (возможно, впрочем, для маскировки) с теми из некапитулировавших, кто называл себя большевиками-ленинцами. Сын в свое время отказался от отца и остался в Советском Союзе. На Воркуте он, кажется, работал экономистом и с троцкистами ничего общего не имел.
С реки Усы мы повернули на Косью. Здесь уже станков не было, и ночевали в деревушках, таких же маленьких, как на Усе. В домах мы хорошо отдохнули, покупали картофель, молоко. Деньги у нас еще водились, но, кажется, кое-что заработали и в Адзьва-Воме. Многие обменивали последние домашние вещи. Я, помню, тогда отдал почти неношеный костюм суконный, хотя были еще деньги, и получил за него немного картофеля и молока. Просто не хотелось себя обременять вещами. По-лагерному жить так по-лагерному! Сын хозяина сразу надел приобретенный костюм и стал оглядывать себя: мой спутник тут же выменял у него картофель на свой командирский ремень, который с ходу был надет поверх пиджака. Нам стало весело от этой картины. Но в голову все же просилось: ему же таким быть лучше, чем тебе с твоими крестовыми походами.
Хозяева к нам относились довольно равнодушно. Пусть и не были мы похожи на тех заключенных, которых они привыкли остерегаться, но тоже под конвоем. А мы в душе им немного завидовали: тепло, сыто – что нужно еще человеку? По Чехову – весь мир. А в тех условиях такая деревушка вполне устраивала.
На 7-й или 8-й день на высоком берегу мы увидели избушку, и она должна была стать нашей святой обителью. «Без окон, без дверей полна горница людей». Тут окна были, но без стекол. Когда-то ее построили геологи. Рядом были остатки буровой. Нашли тут как будто бы уголь. Кажется, это была Инта – будущий угольный бассейн.
На второй день мы отправились в лес и прошли первое тяжелое испытание – ходьба по глубокому нетронутому снегу. Этот день нам обошелся дороже, чем вся неделя этапа. Двадцать пять человек шли гуськом. Первый буквально утопал в снегу. Местами ноги целиком погружались в снег, не добираясь до твердого, и человек как бы оказывался верхом на снежном седле. Теперь надо было другую ногу вытащить и передвинуть на шаг вперед. Мы буквально ползли, и каждый раз первый, выбившись из сил, оставался в стороне, пропускал других и сам становился последним. Как мне хорошо запомнился этот день!
Я сначала шел первым, было тяжело, но еще хуже идти последним. Скользишь ногой из одной глубокой выбоины в другую, и в результате закружилась голова, как при морской качке.
Работать много не пришлось в этот день, так как рано стемнело. Лес тут оказался более крупным, чем на Адзьве. Там мы лес пилили на дрова, а тут строительный материал. Строго требовали соблюдения высоты пенька, ровного осучивания, заподлицо. Толстое высокое дерево надо было так направить, чтобы не образовался «козел», то есть чтобы оно не упало на другое дерево. А то и его придется пилить, и это опасно. Могут оба неожиданно упасть на спину. Ко всему, большинство неумелых. Толстый ствол надо спилить так, чтобы пилу не зажало. А без привычки спина ноет, гудит, переламывается. В общем, день достался божеский. В эту ночь мы, кажется, и не заметили клопов. А их-то было!.. В этом домике долго не жили, и мы полагали, что они вымерзли за несколько зим. Но не тут-то было. И спасала от них в первую очередь усталость.
Однако в целом, надо сказать, это была тихая обитель. Одинокий домик на высоком берегу реки Косью, вдали от других лагпунктов и селений. Я даже и не помню нашего конвоира. Был ли он у нас?
Дорогу в лес постепенно утрамбовали, но пилка для большинства оставалась трудной работой. Сам, бывало, начнешь помогать – и не разогнешься потом. И я предпочитал помощь топором и лямкой. На топор я был мастак (про лекцию так не осмелишься сказать), и лямкой тоже тащил здорово. Запомнился один из лучших мастеров пилы – ленинградец Ермаков. Рабочий-слесарь, принципиальный парень, знал многих руководителей ленинградского комсомола и охотно рассказывал обо всем. Он первый овладел дуговой канадской пилой и перевыполнял нормы.
Я не раз читал о приписках и беспорядках на лесопунктах и смею заверить, что мы тогда мерили честно и учитывали каждое дерево.
На складировании леса, а еще раньше и дров, мы обманывали и приписывали как угодно. Всем известны были афоризмы: «Мат, блат и туфта – вот три лагерных кита»; «Не было бы мата и туфты, не было бы Ухты и Воркуты». Написал – и в «Толковый словарь» Ушакова: что он скажет по поводу новых слов? «Туфты» у него нет вообще, а «мат» – в четырех других смыслах. Отстал Ушаков.
Но в данном случае нам доверили таксацию, и мы не могли себе позволить это доверие нарушить. Заложить кривулину в штабель дров, чтобы сразу получился кубометр, – это да, а на глазок дерево оценить – нет.
Осадок остался от одного эпизода. Каждый должен был добросовестно делать свое дело, иначе подводишь товарища по звену, он за тебя рубит или тащит. Все это понимали, и я всегда приходил на помощь туда, где отставали: обрубаю сучья на дереве, или своей лямкой подцеплюсь к тройке борзых (по трое тянули сани), или сзади дрыном подхвачу на ухабине. А ведь можно по-разному тянуть. Рассказывали про врача Геринга (это польский еврей с такой роскошной фамилией), что у него незаметно отцепили лямку, и он продолжал идти, будто везет. Можно было хитрить. И единственный раз я рассердился на здоровенного мужчину по фамилии Урицкий, который, мне казалось, подводит товарищей. И как мне стыдно было потом, когда узнал, что у него действительно больное сердце. А покрикивали на него, и я не сдержался.
Вспомнил: мы называли себя ВРИДЛО – временно исполняющие должность лошади.
Свыклись мы со своим местом, и вдруг новость. Приехала на Косью экспедиция Ленгипромоста, чтобы разведать место для строительства железнодорожного моста через Косью. Им потребовались рабочие, на которых можно было положиться. До нас там работали уголовники и сбежали, обокрав экспедицию. И начальник передал им меня и еще нескольких. Это было большое доверие, там меньше охраны. Хорошо еще – посмотришь новые места.
Я теперь думаю, что начальник нас выбрал из добрых чувств к нам. Потому что весной река разлилась, и нужно было плоты делать прямо в воде. Люди простуживались, началась цинга. Чем все кончилось, не знаю, никого не видел оттуда, а это нам передали из других уст, возможно, что и умерли несколько человек. Я слышал даже, что все перемерли. Но со мной пути их уже не перекрещивались.
Работа в экспедиции была полегче лесзага. Жили мы на берегу реки в палатках, хотя еще холодно было. А потом построили на сваях у берега шалаш – меньше комаров. Начальником был, если память не изменяет, Свердлов. Конвоиры и здесь не донимали. Знали, что мы не убежим, и отсыпались. Ежедневно мы выходили с кем-нибудь из вольных в лес, подносили теодолит и по указаниям прорубали трассу: где срубали дерево, а где – только ветки, провешивали ее.
Когда тронулся лед, помогали измерять силу течения и направление. Стало даже интересно. Один из нас, инженер Лева Леках, быстро овладел всеми инструментами и даже начал кое-что подсказывать. Работники экспедиции были нами довольны, но в разговоры никогда не вступали. Даже когда оставались с нами один на один в лесу. Вероятно, их крепко предупредили, они ведь знали, что делалось на воле в 1937-м, а до нас это плохо доходило.
Тогда мы по-настоящему узнали, что такое комары. Ведь жалуются на них и люди в лесных домах отдыха, но это просто легкая досада по сравнению с невыносимой бедой. Мириады. От одного жужжания и писка, казалось, с ума сойдешь. И ни на секунду нельзя обнажить хоть частицу тела – руки, лицо. Мгновение – и ты в крови. Чтобы поесть, надо было развести дымный костер, и то он только немного спасал. Настоящей бедой стал туалет. И помню разговор: голого Ягоду тут поставить.
На Ежова пока надеялись: разберется… хотя что-то там не то. Особенно меня беспокоила судьба моего друга – я ведь знал о показаниях других против него. И как счастлив я был, получив в эти дни несколько книжек на английском языке, где кое-что было подчеркнуто, а на полях его рукой был написан перевод. Значит, провокация Лозовика не пошла далеко. Написал – и пожалел. Не Лозовика, а Волчека, Борисова, Брука и КО. Лозовик был невольным орудием. Хотя ведь и они были чьим-то орудием…
Ну вот, опять… То ты требовал им отомстить, а теперь их почти оправдываешь – что за адская логика? В армии последний приказ отменяет предыдущие, но папка-то была именно последней. Хотя и заранее дезавуированной. Чему же верить?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.


![Книга YE [VNUX] автора Марк Трахтенберг](/books_files/covers/thumbs_100/ye-vnux-264816.jpg)