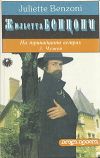Текст книги "Тень отца"

Автор книги: Александр Мелихов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 30 страниц)
Мне невыносимо хотелось пасть ему в ноги и молить о прощении, что мы годами, десятилетиями зажимали уши, но он никак не желал даже пробрезжить – одни только круглые очки мне еще кое-как удавалось разглядеть, а вдохновенная шевелюра, принесшая ему прозвище Троцкий, не проявлялась, как я ни жмурился и ни вертел головой в тщетной надежде, что отец снова проступит хоть на мгновение. Ничего, одни очки. Стоило мне вырвать взгляд из-под власти настольного прожектора, как мир погружался в непроглядную черноту, и я спешил вернуться хотя бы к голосу.
Правда, недели через две мне удалось выяснить, что означает «СОРАБКОП», – Советская Рабочая Кооперация.
У входа в НКВД я не стал ждать, пока меня выведут из машины. Сам выскочил (все-таки в восемь часов лекция) и устремился в двери. Быстро раскрыл их, и… навстречу Сахновский. Старенькое пальто, коричневое кепи, опущенная голова со сдвинутым пенсне.
– А вы чего тут?
Не успел я спросить его, как меня уже тащили за руки назад и энергичным движением поставили лицом к стене. А еще через пару минут я снова был водворен в тамбур. Коротенькая анкета в комендатуре – и я в подвальной бане. Долго я сидел здесь на стуле в ожидании вызова. Стало муторно, хотя я изо всех сил старался не поддаваться. Прошло время первой лекции – значит, что-то серьезное. Но тревоги особой все-таки не вызывало.
Вскоре явился парикмахер, молодой, симпатичный и словоохотливый таджик или таджикский еврей. Рассказал не то похвастался, что стриг здесь самого Семков-ского. Это был академик УССР, философ, чьи книги я неоднократно видел, читал, а также слышал его выступления в Академии. Припомнилось, что он жил за границей, состоял в августовском блоке, в общем, персона грата. Не соскучишься здесь. Будет что рассказать.
Уже значительно позже я подумал, что словоохотливость таджика, возможно, входила в его служебные обязанности.
Он меня быстро привел в божеский вид – снял мои кудри, и теперь я готов был предстать перед начальством. Теперь я уже понимал: что-то не то. За три-четыре часа одиночества можно было опомниться.
Излагать последовательно через столько лет, конечно, невозможно. Но некоторые эпизоды крепко въелись в память.
Анкета у следователя Волчека: «Называйте всех родственников, все равно узнаем». Я назвал самых близких, умолчав о двоюродном брате и его сестре, которые работали в милиции. Почему? Сам не знаю. Ведь мне было выгодно показать, какие у меня родственники. Но я этого не сделал. Что-то интуитивное сработало: мы органам (расхожее выражение) доверяем, ими гордимся, но… уже тон «мы сами узнаем» не располагал к откровенности.
Немного времени занял просмотр фотографий. Механическая запись «кто и что». Но вот карточка, где я сфотографирован с профессором Вейцблитом, – Волчек долго и многозначительно повторял: «Вейцблит, Вейцблит…»
– Он мой учитель, и не больше, – объяснил я.
Но Волчек продолжал мне на что-то намекать. А чего он хотел, я так и не понял. Вейцблит был для нас самым близким другом и любимым учителем, но говорить об этом я не счел нужным. Смущало, что Волчек мне намекал на письмо Вейцблита к его другу Крыжову, председателю Донецкого Облплана, в котором он просил устроить меня временно на работу, но я этому не придавал особого значения, хотя знал, что Крыжов давно посажен, а его жена, приезжая в Киев, останавливалась у Вейцблита и он ей помогал.
И дальше предельно вежливый и, я бы сказал, сочувственный разговор: вы сюда попали случайно, это недоразумение, нам даже неудобно, вы молодой, обещающий, ваша беда – попали в плохую компанию: Сахновский, Лозовик (профессор нашей кафедры) – это все старые меньшевики, они запутали вас…
– Как старые меньшевики? Как запутали? – обрываю его. – Я их знаю как настоящих большевиков и никогда не слышал от них чего-нибудь подобного…
– Наивный вы человек: что ж вы думаете, они вам открыто будут говорить?
– Но я бы сам понял…
– Вот в том-то и беда, что они так ловко маскировались, что их сразу и не поймешь…
– Не такой уж я наивный…
– Нет, они глубоко все конспирировали, чтобы их не распознали…
– Как же они меня так запутали, что я этого и не заметил?
В это время вошел в кабинет статный майор (это равносильно армейскому полковнику), сразу покоривший меня своим видом: выправка, энергичное лицо, свободные движения, приятная речь. Но главное – значок «15 лет ВЧК-ОГПУ» на гимнастерке. То есть старый чекист, тут уже ошибки не будет. На лекцию, правда, уже опоздал, зато столько будет интересных воспоминаний!
Волчек меня представил и назвал вошедшего начальником первого отделения Бруком.
– Очень приятно…
– Так вот, товарищ Каценеленбоген, тут вышло небольшое недоразумение. Нам надо его вместе исправить, и побыстрее. Вас вовлекли в нехорошую компанию, и надо вас оттуда вызволить. Мы знаем, что вы не виноваты, что вас втянули, а мы вас знаем как молодого многообещающего ученого, поэтому и хотим вам помочь порвать с ними. Нам даже неудобно, что таких людей приходится задерживать, но мы это исправим. Вы сейчас напишете, что отказываетесь от них – от Сахновского и Лозовика, и пойдете домой…
– Как это я откажусь? Собственно, от чего я должен отказаться?
– Ах, наивный вы человек, неужели вы думаете, что они должны были афишировать, что они троцкисты и меньшевики? Они свое дело тихо делали, вы могли и не знать, что они вас втянули.
– Тогда от чего же я должен отказываться, если ничего не знал?
– А вы думали, что партбилет они вам должны были вручить?
– Не партбилет, но я сам-то должен был знать?
– В том-то и дело, что вы ничего могли не знать, поэтому мы вас и хотим выручить. Напишите, что отказываетесь, – и домой.
И любезный майор вышел. Но тут же вернулся:
– Я, может быть, уйду, тогда пропуск оставлю у Дрина, дашь ему, и пусть идет домой. Неудобно его здесь задерживать.
И дверь снова закрылась.
На минуту водворилась тишина, Волчек тихо протянул мне лист бумаги и спокойным голосом предложить писать.
– Что?
– Вам же майор объяснил: откажитесь от своей организации.
– От какой организации?
– Снова то же самое. Экий вы упрямый человек! Вам же объяснили: вы сами могли и не знать, что вы в ней состоите, но вас там считали за своего, и вы должны от них отказаться.
В его тоне все дышало доброжелательностью, и я начинал теряться. Мелькнула мысль: рассказать, как Сахновский хотел звонить Ярошевскому, и этим окончательно убедить, что Сахновский ни в чем не замешан, иначе не стал бы звонить… Но что-то удержало. Ведь сомнений у меня не было в честности и Сахновского, и Лозовика. Поэтому настойчивость следователя внушала опасения.
Правда, я не понимал, зачем им эта комедия, но задумываться было некогда. Все время подгоняли и подгоняли, повторяя и подчеркивая, что это пустяки. Так, вроде легкого насморка – что есть, что нет, но лучше, чтоб не было.
– Не знаете, что писать? – сочувственно спросил меня Волчек. – Я вам продиктую.
Но тут мое терпение стало истощаться:
– Нечего мне писать, я в Сахновском и Лозовике уверен, как в самом себе…
Закончить речь мне не удалось. В кабинет ворвался – именно ворвался бывший симпатичный майор с искаженным яростью лицом:
– Троцкист, враг, вот оно – лицо врага, вот как оно выявилось! А мы принимали его за честного человека. Загнать, загнать его туда, куда Макар телят не гонял!.. Не вызывать его больше! Сгноить, сгноить его в камере! В одиночку его! А мы-то думали!..
Волчек сделал попытку меня защитить: несознательный, мол, теперь, может быть, уже осознал. Но разбушевавшийся майор «не в силах» был остановиться. Он обрушивал на меня все новые громы и молнии, он был неумолим, а мне стало жаль его симпатичное мужественное лицо. До чего оно исказилось! И тут же стало смешно. Чего на меня кричат?
Разъяренный начальник, видимо, это заметил и стал еще больше меня громить. Но чем чаще он повторял стандартные фразы с угрозами, тем смешнее мне становилось. За кого меня принимают? Смешно… Но и чувство стыда за него стало закрадываться: человек с умным лицом, со значком «15 лет ВЧК-ОГПУ» – и вдруг такое несет!
Может быть, и Брук это почувствовал и, резко оборвав свой монолог, с шумом удалился, бросив на ходу:
– В одиночку, и больше не вызывать, пока сам не попросится! Сгноить! А мы-то думали…
Аудиенция подходила к концу. Волчек что-то мне говорил насчет того, что еще не поздно все исправить, но я оставался тупым упрямцем и наивным романтиком.
И меня отправили в одиночку до того хорошего времени, когда я сам образумлюсь и попрошусь.
Что было дальше, невозможно воспроизвести последовательно, да, наверно, и не нужно. Память, видимо, схватывала то, что больше въелось. Скажу только, что не гнил. В камере, хоть она и считалась одиночной, были интересные люди, но, бесспорно, более зрелые, чем я, и случившееся их поэтому больше и угнетало. А до меня, как это ни странно, все туго доходило.
Но приятно было, что отношения между нами сложились самые дружеские. И только один раз нахлынули невольные слезы, и было за них страшно стыдно: ведь большевики не плачут.
Как же так получилось? Из-за чего?
В разговоре с соседом я вдруг представил себе, какое горе дома. Мать, отец – как они это переносят?
А сам продолжал жить в мире грез: скоро выпустят, каникулы, встречи, теперь я уже не желторотый юнец, о котором могут сказать: «Кто в тюрьме не сидел, тот…»
Через много лет я узнал из «Записок из мертвого дома», что тяжело переносить именно первый день заключения где бы то ни было: в остроге ли, в каземате ли, в каторге ли.
Для меня день слез, вероятно, и был этим первым днем, хоть и не календарным. Я нутром почувствовал, видимо, что сел всерьез. Но одно оставалось для меня совершенно ясным и непоколебимым: главное – не терять времени. Бодрость духа и жажда знаний спасали всех моих кумиров: появятся книги, и будет настоящий университет, такой, какой оканчивали все они – Свердлов и Дзержинский, Серго и Калинин.
Утешало еще преимущество над соседями по камере: ни жены, ни детей.
И никто не помянет,
И никто не придет,
Только раннею весною
Соловей пропоет.
Как это нам тогда нравилось! В песне для нас звучала не тоска бродяги, а душа человека, для которого семья – обуза и в науке, и в политике. Мы с необыкновенной легкостью переводили блатную романтику в революционную.
Сверхмечта – поехать от Коминтерна делать революцию. А в случае провала – «соловей пропоет». И большего нам не надо!
Голос отца был уже почти неузнаваем – он звучал с молодой задиристой насмешкой: да, он посмеивался, но и почти гордился тем трепетом, с которым когда-то взирал на мужественного чекиста – ибо это были и впрямь творцы истории, какой ее нам Бог дал. Но мог же он, оказывается, и смеяться над деланным начальственным бешенством, мог терять терпение в разговоре с властью, – а я-то думал, у него для нее всегда был один рецепт: терпеть да помалкивать – не станешь же ты грызться с акулой! Так, значит, он не всегда старался любить народ отдельно от власти, любить жену и ненавидеть ее скелет…
Этому мальчишескому голосу я уже верил больше, чем самому себе, прожившему жизнь по принципу «как вы ко мне, так и я к вам»: что тут удивительного, если парень хочет пасть в боях за Ганг, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать? Борцам за бессмертие чего ж не быть героями, владельцам алмазных копей чего же суетиться из-за медяков? Это рабам тленного ничего не остается, как быть букашками – мимикрировать под пыль и траву, не высовываться из выбоинки…
Отец, как же ты был прав, когда даже в пасти акулы оставался наивным мальчишкой, – и как же мне невыносимо жаль тебя, что тебе пришлось до такой степени поумнеть, до забитости и суетливости советского пенсионера!.. Так вот почему все эти революционные титаны зубами держались за Родину, за Сталина, за эту свою идиотскую партию – они держались за право хотя бы самой распоследней шестеркой, но все-таки творить историю! Они под пытками и под пулями держались за бессмертие, от которого я отказался при первом же не выстреле – плевке.
Да, меня не подпускали к великим делам – к прорыву в космос, к обузданию плазмы, хотя я жаждал быть прикосновенным к ним даже в качестве распоследней шестерки, – Каценеленбогенам было не место в исторических свершениях, это правда. Но правда и то, что я предал свою мечту при первом же презрительном тычке, сторожевского тыканья не вынес, и здесь мне никакого оправдания нет – я видел это ясно, как в аду: ведь смотреть правде в глаза и означает переносить ад из смерти в жизнь. В борьбе за бессмертие я должен был идти на все – утирать все плевки и вылизывать все задницы, я должен был лгать, клятвопреступничать, вступать в любые партии и провозглашать любые лозунги, ибо вся наша гусачиная гордость и моралистическая пена – ничто в сравнении с алмазами бессмертия!
От последней адской ясности меня спасало только то, что мне пока еще было не до себя – мне нужно было не отрываясь слушать такой незнакомый и такой родной голос отца.
Вскоре я был в 4-м корпусе Лукьяновки, знаменитой киевской тюрьмы.
Романтика? Сверх. Отсюда состоялся легендарный побег М.М. Литвинова и других героев. Я это знал в деталях. Ведь в те времена очень много писали о героических побегах, стычках, и в детский, юношеский ум все это впитывалось – и возвышалось, идеализировалось.
Прием в тюрьме был очень вежливым. Анкета, баня, одиночная камера. Так что Брук сдержал слово. Но одиночка не была одиночкой. Там уже сидел человек, и человек знакомый: профессор из пединститута Розен. В те времена титул профессора носили все преподаватели вуза, проработавшие несколько лет, но мой сосед был действительно культурным человеком, и приятно было стать (вернее, сесть) с ним на равных.
Розен страдал астмой, курил какой-то табак с приятным запахом, антиастматический, и чувствовал себя неважно. Возможно, поэтому он был несколько подавлен. Человек более зрелый, умный, он, конечно, более реалистически оценивал обстановку, и она его не радовала. Моего оптимистического настроения он не разделял, но и разочаровывать меня не стал.
Я совсем не думал, что я в тюрьме и что тут могут быть «подсаженные» люди, «царевы глаза и уши». И что сам я со своими откровенностями мог казаться подозрительным.
Хотя Брук обещал меня сгноить, пока я сам не попрошусь и не покаюсь, Волчек оказался более «милосердным», и вскоре в таком же «воронке» меня к нему снова повезли. И речь его была такая же медоточивая: пора опомниться, ведь они обо мне беспокоятся, жалеют, как только я этого не пойму?
– Понимать мне нечего. Это недоразумение, и все, меня должны выпустить.
– Этого же мы и хотим, а вы не идете нам навстречу.
– В чем?
– Помочь разоблачить троцкизм.
– Какое же это разоблачение, если студенты узнают, что их уважаемые преподаватели – троцкисты: значит, троцкизм чего-то стоит?
– Да нет же, вы покажете, какие политические подлости творят троцкисты.
– Хорошо, но как это увяжется в головах у людей – что такие порочные идеи привлекли хороших преподавателей, – поверят ли?
– А как же можно разоблачить идею без людей? Вы против троцкизма?
– Конечно.
– Вот и помогите разоблачить его идеи.
– Я их разоблачал на лекциях. – В этом пункте я схитрил: мой курс троцкизма не касался.
– На лекциях – это одно, а здесь другое. Пусть видят, что создавались нелегальные организации…
Тут я уже совершенно ничего не мог понять: зачем честным людям разыгрывать роль бесчестных?
– Но вы же нам верите, и если мы говорим, что нужно…
– Так я же тоже разбираюсь – и не думаю, что нужно именно так.
И тут был пущен в ход очень сильный козырь – имя наркома Балицкого.
– А знаете ли вы, что за вашим делом следит сам нарком Балицкий, а он член Политбюро ЦККП(б)У – он же не может ошибиться! (А Балицкий для нас был действительно большим авторитетом. Как же, старый чекист! Это всегда звучало, и теперь его внимание даже чуточку льстило мне.)
– Я и не говорю, что он ошибается, но в данном случае у меня полная уверенность в невиновности этих людей. И в своей.
– Значит, вы не хотите нам помогать?
– Всегда готов, но не таким способом.
– Но вас же считали членом троцкистско-меньшевистской организации.
– Никто меня не считал, и не было такой.
– Ну, уж это мы лучше вас знаем.
– Как же мог я не знать, что где-то состою?
– А вы думали, что вас на собрании должны были принять, членский билет вручить? Это же подпольная организация!
– Не было такой, и вы не докажете, что была и что я состоял в ней.
– А нам и доказывать не надо. Уж это мы лучше знаем. Это вы должны доказать, что не были. Вы же верите нашим органам?
– Конечно…
И так мы долго толкли воду в ступе и пересказывали сказку про белого бычка: вы наш, вас чуть-чуть запутали, но вы этого не знали, а теперь вы нам поможете их разоблачить, а мы вам поможем от них отделаться. И все было по-прежнему в самом любезном тоне, с сохранением всех юридических норм, по крайней мере одной – вежливости.
Я перечитывал протоколы допроса и расписывался внизу на каждой странице.
Прощались без вражды, а скорее с недоумением. Я никак не мог понять, зачем серьезные, заслуженные люди плетут какую-то чепуху; Волчек же, вероятно, удивлялся моей наивности.
Распрощались надолго, недели на две. Видимо, решили дать мне время изучить обстановку и убедиться, что никуда я от них не денусь: не такие капитулировали.
В «вороне» меня возили одного, так что я не имел возможности узнать, что делается в других камерах, как себя ведут другие люди. А самое главное – я не мог понять, зачем вся эта комедия, кто ее вдохновитель.
В один из таких дней я нечаянно столкнулся в коридоре наркомата с начальником кадров пединститута – молодым человеком, с которым мы иногда болтали, встречаясь в коридорах института; я страшно обрадовался и чуть ли не кинулся к нему. Но он мгновенно исчез за поворотом, и я сожалел: рассказать бы ему, что тут делается…
Я не стыжусь своей наивности и теперь – такими мы были.
Когда в 50–60-х годах началось разоблачение культа личности, часто писали: стал жертвой клеветы. И сейчас многие так думают: раз посадили, значит, до этого оклеветали. Так вот, много раз перебрав все в памяти, я заявляю: нас никто не оклеветал, я до сих пор не знаю, по какому принципу нас отобрали. Но все, что получилось потом, было результатом самооклеветания, не так уж хитро организованного сотрудниками НКВД.
Внешних, с воли, показаний почти не было. Видимо, это позже появилось.
Временами я подумывал, что меня взяли из-за Давыдова. Это был мой студент с истфака. Он был старше меня лет на десять, но учился курсом моложе. Рабочий, участник Гражданской войны, коммунист, он в 20-х годах примыкал к оппозиции, но потом с ней окончательно порвал и никогда не вспоминал. При окончании института в 1934 году вдруг заговорили о его прошлом, хотя его никто ни в чем не мог упрекнуть. Написал он дипломную работу по истории дипломатии, и все, уже в порядке перестраховки, боялись к ней прикоснуться. Тогда я ее взял и написал заслуженный хороший отзыв, и человек окончил институт.
Его назначили на работу в школу, но вскоре уволили – или он сам уволился, видя подозрительное отношение к себе. Засобирался уехать из Киева и пришел посоветоваться. Что я ему мог сказать? Это было очевидно в 1935 году: обстановка накалялась. Кажется, я ему даже денег одолжил. И больше я его не видел. И в первые дни заключения, когда я размышлял, за что могли меня взять, я подумал и о знакомстве с Давыдовым, которое могло быть компрометирующим. Позже я узнал, что он тоже сидит в Лукьяновской тюрьме, и все ждал, когда его начнут мне шить. Но его так и не назвали. Хотя тут у них была бы солидная зацепка. Значит, думал я, наше истинное бытие их совсем не интересует, с выдуманным легче посадить.
И позже, на Воркуте, он все время был недалеко от меня, но никак пути наши не пересекались, и только в 50-х годах мы с ним случайно встретились в Донецке. Работал он портным, от всего отошел, хотя всегда много читал и во всем отлично разбирался. Рассказывал, что когда он узнал, что меня арестовали, то страшно переживал, полагая, что он тому виной, так как считал, что абсолютно ничего компрометирующего за мной быть не могло. Но на допросах меня ему тоже не называли, и он успокоился. Знал он, что я недалеко от него на Воркуте, мечтал, как и я, о встрече, но так и не получилось.
Как и другие рабочие, он осуждал ученых за самооговор. Действительно, интересно. Бывшие оппозиционеры, хоть и порвавшие с оппозицией, ничего не выдумывали на себя и на других, а ученые, совершенно не причастные ни к каким оппозициям, столько наблудили. А ведь большинство из них были вполне порядочными людьми и, бесспорно, полностью стояли на партийных позициях.
Разгадка этого удивительного факта заключалась, может быть, в том, что многие из ученых уже начали понимать дисциплинированность как умение подняться не только над собственными слабостями, но даже и над истиной, которая в их глазах становилась чем-то мелким и личным, над которым необходимо возвыситься, чтобы стать на «высшую», «государственную» точку зрения. А рабочие довольствовались извечным житейским соображением: раз не делал – значит, и не виноват, значит, и не подпишу. Самое простое оказывалось самым надежным.
Нет, папочка, в тамбуре ты сам мне открыл, что дело в другом. Людям более земным, и без того обреченным на тленность, было просто не за что держаться. А интеллектуалам, уже отведавшим эликсира бессмертия, приходилось цепляться за самую призрачную причастность к нему – так наркоман отдает жизнь в обмен на дозу. Причастность к истории – это наркотик посильнее героина!
Кажется, последнюю фразу я проговорил вслух, но отец меня не услышал.
В камере я уже не застал Розена. Там был новый человек – лет сорока с лишним, очень худой. С места в карьер знакомлюсь. И ни единой мысли, что это может быть подставное лицо или просто провокатор. Ведь у нас это невозможно.
Моим сокамерником оказался директор обувной фабрики (номера не помню). Человек сдержанный, рассудительный – это было видно с первых слов. В прошлом сапожник – это тоже что-то значило: выдвиженец, из рабочих. Участвовал в оппозиции, но от нее отказался и был на руководящей работе.
Для меня он стал интересен сразу многим. Выдвиженец – как это звучало тогда! Человек своим талантом превзошел тех, кто академии кончал. Факт. И где бы я на воле мог так близко познакомиться с таким человеком!
То, что он в свое время не побоялся вступить в оппозицию, рискуя должностью и благополучием, создавало дополнительный ореол вокруг него. Хоть я и не мог понять: как можно было сомневаться в возможности построения социализма в одной стране? Это у меня не вызывало никаких сомнений. Надо – и построим! Но об этом я не стал спорить со своим соседом. Спора никакого и не могло быть – была абсолютная вера и уверенность. Мы были детьми Гражданской войны, погромов, бандитских налетов, когда все было таким утлым – и богатство, и сама жизнь. Отсюда и самые ограниченные потребности: просто выжить – и довольно. А что для этого нужно? По нашим студенческим мечтаниям начала 30-х это был чай, пусть вприкуску, но хлеба вдоволь. Казалось блажью и мещанством иметь несколько пар обуви, когда сапоги служат все сезоны. Да и носков не надо (а в магазинах их и не было), годятся и портянки из какого-нибудь старья. И зачем костюмы на смену, возиться с ними?.. Правда, пару белья на смену – это нужно. Нужна и кожаная куртка, как у Свердлова, – это тоже на все сезоны. Так что при подобных взглядах на жизнь можно было и коммунизм построить в одной стране, где каждый мог уже в ближайшее время получать по потребностям. И если не ошибаюсь, в те годы выступил на каком-то совещании редактор «Правды» Мехлис и сказал, что возможно и построение коммунизма в одной стране, и мы страшно этому обрадовались.
Но пусть нас не воспринимают такими уж примитивными: за этой ограниченностью скрывалась и безграничность – жажда как можно больше знать о мире, усовершенствовать его. Поймет ли современный студент, с каким трепетом душевным мы брали в руки «Капитал» Маркса? И через полвека помню его переплет в синеватой твердой обложке. Нам казалось, что мы нашли ключ к всеобщему благоденствию. Это были годы кризиса на Западе, газеты на все голоса кричали о безработице, о самоубийствах. Каждый из нас уже чуть-чуть соприкоснулся с этим страшным словом – «безработица», но социализм этого знать не будет, как и войн, погромов, голода. А на голод 30–33-х годов мы смотрели как на временное явление, которое для нас лично – испытание воли и идейности. И надо было выдержать экзамен – хоть в университете, хоть в тюрьме (а заодно доказать свою идейность заблуждающимся следователям).
Но с соседом не хотелось спорить о политике, для меня он был все же авторитетом. Хотя я полностью верил в возможность построения социализма в одной стране и без мировой революции, но подспудно где-то жило: а неплохо было бы и Германию к нам в Союз. А там и Польша. Тогда прощай капитализм во всей Европе. Но говорить об этом было неловко, а может быть, и небезопасно – пахнет перманентной революцией.
Пошли разговоры о семьях. У него на воле осталась молодая жена, бывшая работница фабрики, русская, а он еврей. Тогда смешанные браки были еще редкостью и тоже свидетельствовали о смелости человека, прогрессивности. Пошел разговор обо мне. Можно было мне позавидовать: семьи нет, никто не будет так тяжело переживать, и почему бы не поболтаться пару месяцев по тюрьмам? Я уже знал, что максимум 4 месяца следствие может длиться, и то на вторые два месяца надо получить разрешение от самого ЦИК Союза. Все-таки здорово! Сам Калинин подпишет бумажку, на которой будет моя фамилия! Вот чем подразню своих друзей.
Я подсчитал, что в крайнем случае меня освободят 2 июля. Зарплата за 4 месяца – это 7–8 тысяч. И гуляй 4 месяца сколько душеньке угодно. Правда, здорово?
Но пока мы так мирно беседовали, перед глазами встала другая картина: папа возвращается утром с работы, и мама ему говорит, что меня забрали. И слезы хлынули ручьем, со всхлипываниями. Но я тут же спохватился: большевики не плачут! Стало стыдно. Только что рисовал картину веселых денечков после испытания характера в тюрьме, а тут… Слякоть, слабость, мещанство! В чем я себя только не упрекал! И спасибо моему соседу – он меня не осудил. И утешать не стал – прорвалось и ушло. Видимо, при всем старании оставаться спокойным внутри накапливался материал для взрыва.
Потекли однообразные тюремные дни. Еда и беседы. Но без тоски, без протеста, а так, будто все идет как положено. Лишь бы зря время не пропадало – это больше всего беспокоило. Вскоре соседа перевели от меня, зато появился добрый ангел в виде надзирателя Ивана Ивановича. Он принес в камеру несколько книг: выбирайте. Мягкий, совсем не соответствующий слову «тюремщик», он немного посидел, в разговор не вступал, но чувствовалось какое-то доброе, сочувственное отношение. Я выбрал у него Тургенева – «Повести» и стихи Беранже. Хотя это было для меня чтением второго сорта, но в тюрьме можно себе и такое позволить.
Часто в камере появлялась остроносая фельдшерица, спрашивала о здоровье, мерила температуру, давала лекарства. Пару раз я пытался сыграть «больного». Я знал, что главным врачом тюрьмы работает муж одной моей приятельницы, Потиевской, вот и хотелось к нему попасть. Думал, хоть он передаст на волю, что у меня и как. Но для этого нужна была высокая температура, а у меня она никак не получалась. Меня подучивали натирать термометр, но делать это явно я стыдился – именно стыдился, а не боялся.
Уже после освобождения добрая моя приятельница мне говорила, что она каждый раз грызла мужа, чтобы он меня повидал, но не получалось никак. Пишу об этом, чтобы показать, что наше время было просто курортным по сравнению с 37-м годом. Можно было жить.
Хотя на этот раз Волчек сдержал слово и очень долго не вызывал меня, я терпеливо ждал. Тем более что книги есть, кормят лучше, чем в студенческие годы, обращение вежливое – почему бы и не посидеть? Право, было так.
Временами пытался представить картину на воле. Прежде всего – университет и пединститут. Что подумают студенты? Я знал, что они относились к нам с уважением, и обидно было, что нашими именами будут подкреплять сгнившую давно контрреволюцию: если умные, преуспевающие люди могли потянуться туда, значит, что-то есть в ней и хорошее. И тут прямо зло брало: чего это мы должны служить рекламой для оппозиций, для националистов, для меньшевиков, которых считали слякотными, псевдореволюционерами?
Нет, не дело!
На очередном допросе разбирали мою переписку с друзьями, и тут было найдено «явное» доказательство и шпионской деятельности. Раскрылось это в письме моего друга Левы Топмана, который писал мне с Дальнего Востока. В прошлом рабочий, он давно состоял в партии и в институте был секретарем комитета комсомола, членом партбюро и вообще активным общественником.
В 1931 году (или 32-м) он в бригаде представителя Совнаркома Н.П. Любченко участвовал в хлебозаготовках и чуть не погорел. Хлеб, как говорили тогда, весь выкачали и уже начали искать в печах, куда прятали его в горшках (сколько уж там можно было спрятать!). Таково было указание самого Любченко. Лева не стал этого делать и, возвращаясь в районный центр, где был штаб, со своим другом Глушковым, тоже нашим студентом, сказал ему, что у него начинаются «крестьянские настроения». Тот ответил, что и ему непонятно, что тут делается. Как я помню, Глушков был далеко не плохим человеком и ведущим работником в парторганизации.
А на следующий день, когда Любченко всех собрал, чтобы дать им «накачку» за плохую «выкачку», Глушков выступил и сказал, что делу мешают «крестьянские настроения», которые появились у некоторых товарищей. Любченко спросил: «У кого?»
Глушков стал изворачиваться, но все стали настаивать, очевидно, боясь, чтобы на них не пала тень, и он назвал Леву.
Что дернуло Глушкова за язык, теперь не объяснишь. Он, кажется, был не из таких, кто стремился выслужиться во что бы то ни стало, но… черт попутал. Мне говорили, что когда я был в тюрьме, он тоже там был, но я его не видел.
Говорили, его обвиняют в том, что он пробрался в аппарат НКВД УССР как руководитель кружка политучебы, чтобы подготовить там террористический акт против наркома Балицкого. К его чести, он отвергал все обвинения, оправдываясь тем, что его туда направил горком партии. Чем кончилось у него, не знаю, никогда больше о нем не слышал.
Леву решено было вернуть в Киев и передать его дело в партийную комиссию (так, кажется, это называлось), но какая-то добрая душа дело прекратила.
Я это привел для того, чтобы было некоторое представление о самом Леве, который меня якобы вовлек в разглашение государственных тайн. Попутно небезынтересна фигура Любченко.
Мой учитель Вейцблит, который тоже был с Любченко на «выкачке» в другом районе, рассказывал, что он сам или кто-то другой сказал, что нет такого закона, чтоб горшки из печей тащить, а Любченко ответил: «Нам не законы нужны, а хлеб».
Сам Любченко в прошлом был украинским эсером-боротьбистом. В коммунистическую партию он вступил в 1920 году вместе со всей партией боротьбистов. Говорили, что на одном собрании в арсенале, где шла борьба с оппозицией, кто-то ему бросил обвинение, что в 1918 году он стрелял по большевикам. И на это он ответил, что и тогда был прав.
О его конце рассказывали так. Почувствовав близость ареста в 1937 году, он поехал на машине с женой в Голосеевский лес и там ее застрелил и сам застрелился. Жена его, Крупеник, работала со мной в университете преподавателем истории. Есть, правда, версия, что его застрелили сами чекисты.
Но вернемся к Леве. В конце 1932 года его вызвали в военкомат и предложили поехать на политработу в армию на Дальний Восток. До диплома оставались считаные дни, но он, не задумываясь, поехал.
– Я солдат революции, – любил он повторять известное изречение Вильгельма Либкнехта. И это была не поза.
В одном из писем в 1935 году он мне писал, что хочется в Киев, но Татарский пролив мешает. Эта фраза и стала для следователя выдачей государственной тайны. Но сам ли он понял глупость этого обвинения или ему подсказали, однако вскоре он с этим отстал.
Летом 1936 года Лева был отправлен на учебу в Военно-политическую академию в Ленинград и по дороге заехал в Киев. Зашел к нам домой и спросил обо мне. Папа страшно испугался, ведь Лева был в военной форме, но тот его успокоил. Отец ему сказал, где я, и он ушел.
В 1941 году я нашел его жену в Киеве и узнал о его дальнейшей судьбе. В академии тогда проходили собрания, на которых разоблачали врагов народа, и Лева был очень рад, что он тут новичок, и его никто не знает, и он не должен выступать.
Однажды перед закрытием такого собрания выступил какой-то слушатель и сказал, что в зале сидит человек, который в 1927 году выступал в Киеве против Емельяна Ярославского в защиту троцкизма. И указал на Леву. Тот встал и объяснил, что никогда он не выступал за троцкизм и не был в оппозиции, что Ярославский действительно выступал против оппозиции, а он, Лева, только задал ему какой-то вопрос.
– Есть предложение исключить из партии.
И тут же проголосовали.
Он вернулся в Киев и стал добиваться справки из архива, что никогда не был в оппозиции и не выступал против Ярославского, но таковой ему не дали. На работу устроиться было невозможно. Знакомый директор школы взял его завхозом, но ему тут же предложили уволить Леву.
Начал работать стекольщиком – тоже уволили. И наконец «взяли». По словам жены, а она умерла в войну в Самарканде, где работала посудомойкой, он следователей обзывал и фашистами, и палачами, и как угодно, и ему там доставалось основательно.
Возможно, он там и погиб. Беспредельно преданный партии, он, видимо, никак не мог мириться с тем, что там видел. И покориться не хотел, не в его характере. И на самооговор не пошел.
А теперь вернемся в мою тюрьму. Примерно через месяц меня снова вызвали, но разговор оставался старым: «На вас Сахновский…»
– Не может быть, покажите протоколы допроса, дайте очную ставку.
И к чести Волчека, на подлог он не пошел. Значит, Сахновский ничего не показывал, да и показывать ему нечего было.
Разговор, как помнится, был недолгим, и в тюрьму меня больше не повезли. Оставили в тюрподе (тюремный подвал НКВД). Да в каком приятном обществе – о таком действительно можно было мечтать.
Билярчик – профессор философии в университете. Какими глазами я смотрел на воле на этого небольшого человека с орденом Красного Знамени, полученным в годы Гражданской войны, – истый герой!
Еще более интересным оказался Львович (это был псевдоним, а фамилию его я не запомнил и не совсем уверен, что псевдоним был действительно Львович). Родом откуда-то из Сквиры, секретарь левоэсеровской фракции ВЦИК, чуть ли не земляк презренной Каплан. Враги, разумеется, – зато как интересно!
Третьим был профессор филологии мединститута, бывший боротьбист (это украинские эсеры) – тоже исторический экспонат.
В общем, я попал в исторический музей, если не в саму историю. А книги! У Билярчика, запомнилось, была книга «Песни народов мира» (или Европы) на немецком языке. Мечта! Помимо всего прочего, можно будет усовершенствоваться в немецком языке.
Лучше стало и питание.
Что для отца означало хорошее питание – это у нас был постоянный предмет для перешучиваний: покропленная постным маслом картошка в мундирах с луком вприкуску считалась у него неземным лакомством. А в ту эпоху, когда дедушка Ковальчук откармливал могучих кабанов, папа никогда не мог донести до них корыто с распаренной и размятой картофельной мелюзгой – непременно откладывал мисочку и для себя.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.


![Книга YE [VNUX] автора Марк Трахтенберг](/books_files/covers/thumbs_100/ye-vnux-264816.jpg)