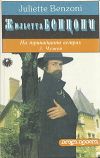Текст книги "Тень отца"

Автор книги: Александр Мелихов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 30 (всего у книги 30 страниц)
Нам с тобой, по крайней мере.
Внезапно меня обдало таким холодом, что я вновь оказался в тесной лощинке на мотающейся платформе. Я снова лежал на правом боку с папиной папкой под головой, чувствуя противную боль от камешков, вдавившихся в бока и бедро, ломота в котором становилась все сильнее и сильнее. Было так холодно, что я даже попробовал, не идет ли изо рта пар, но его, если даже он был, сдувало холодным ветром, начавшим задувать и завывать уже и в моем приюте.
Вдруг мою гусиную кожу обдало свежим морозом: внезапный холод свидетельствует о приближении призрака… Я огляделся, но отцу явиться было решительно неоткуда – вокруг напитывался туманом вечереющий лес (просеки текли, словно молочные реки), а облака превращались в плоские сизые тучи, края которых, обращенные в сторону канувшего за леса солнца, уже раскалялись, напоминая обугленные доски в гаснущем костре. Закат тоже сверкал сквозь редколесье, подобно раскаленным угольям.
Осторожно повернувшись (меня уже трясло так сильно, что я ухватился за ледяное железо борта), я постарался оглядеть насыпанную с горкой платформу – ведь отцу вагонная качка была нипочем, – однако ничья стопа не потревожила ни единого камешка. Зато я вдруг осознал, что мотающиеся платформы мчатся по рельсам совершенно бесшумно.
Я попытался сесть, но в лицо ударило ледяным ветром с такой силой, что только чудом не выбросило меня за борт – я едва успел шлепнуться обратно в свое тесное ложе. Однако я совсем не испугался. Я аккуратно, по частям перевернулся на левый бок и – потихоньку, потихоньку – начал снова принимать сидячее положение, наваливаясь этим же боком на щебенчатый бруствер. В конце концов я оказался лежащим на животе, осторожно выглядывая из-за бруствера в сторону тепловоза. Сизые тучи спустились так низко, что тепловоз отрывал от них и тащил за собою целые косматые шлейфы, но ветер бил в глаза до того остервенело, что я из-за слез не мог ничего как следует разглядеть.
Тогда я взглянул на дело сквозь пальцы и обнаружил, что нас увлекал в неведомую даль именно паровоз. Наш паровоз вперед летел, а остановка могла оказаться в Воркуте, в Норильске, на Колыме, где как-то ухитрился не дойти папин Лучший Друг… Тьма сгущалась так стремительно, что даже лесные туманы наливались чернотой – одни лишь деревянные клинья светились все ярче, словно лабораторные пробы полярного сияния, и я бы этому даже подивился, если бы у меня так не лязгали челюсти. Казалось даже, что в этом черном безмолвии стучат только мои кости, с которых облетела бренная человеческая плоть, и теперь из-за бруствера выглядывал убежавший тления бессмертный скелет.
Скелету незачем было тешить себя иллюзиями, он прекрасно понимал, что состав уже давно мчится в каком-то ином мире, откуда нет возврата.
Может быть, на конечной остановке меня встретит отец… Но только как я его узнаю среди таких же скелетов? Или там все как-то совсем по-другому? Черт, ведь ему грозит окончательное исчезновение!.. А я так и не исполнил его завещание, не стер с лица земли память об этом несчастном Волчеке… Но ведь я уже понял, что настоящим убийцей был не Волчек, а этот, с татарской фамилией – как его?.. Папа, напомни, как звали этого мерзкого прокурора – Джафаров, что ли?.. Папа, откликнись!! Я же не просто так, у меня серьезное дело!!!
Я долго взывал во тьму, в которой светились одни только факелы, обрамлявшие растворенные тьмою могильные холмы, однако ночь безмолвствовала. Тогда я подтащил к себе полевую сумку и, перевернувшись на спину, начал извлекать из нее папку в безумной надежде, что скелеты, как совы, умеют видеть в темноте.
Я не мог разглядеть даже завязочек, их пришлось распутывать на ощупь. Преодолев подлый соблазн вырвать веревочки из картонного мяса – папу бы ужасно покоробило такое барское отношение к человеческому труду, – я их все-таки развязал и вытащил во тьму и холод, которого я теперь совершенно не ощущал, мягкую пачку отцовских записок. Они действительно фосфоресцировали – только буквы копошились, как муравьиная кочка. Ухватив листы за верхнюю кромку, я начал перелистывать их снизу, помня, что прокурор должен появиться где-то ближе к концу.
Каким-то наитием я понял, что я уже в прокуратуре, и сел, чтобы получше разглядеть ненавистное имя при свете внезапно вспыхнувшей, словно фонарь, добела раскаленной луны. Но тут совершенно осатанелый порыв ветра вырвал рукопись у меня из пальцев – раздался громкий звук «фрр», как будто взлетала стая воронья, – и…
Отдельные листочки долго летели за моей платформой, но и они меркли, меркли, а погаснув, обрушились на шпалы с колокольным громом, словно оброненные на лестнице тазы.
Ад выпустил меня из своих когтей только под землей.
И то не сразу. Я прежде и не догадывался, что в нашей подземке есть такая конечная станция – противоядерный бункер, до которого никто не успел добежать, так он и остался сиять мертвенным электричеством среди сантехнической кафельной роскоши.
И поезд тоже сиял пустотой, развернув навеки замершие двери. Я задвинулся в угол, радуясь, что не перед кем стыдиться своей изгвазданности. Однако, оглядев себя, я не обнаружил ни единого пятнышка. Только ломило отшибленное бедро. Когда я окончательно уверился, что поезд замер здесь навеки, в вагон процокала копытцами шустрая девчушка и плюхнулась рядом со мной. Места ей мало, обычно в таких случаях думаю я, но сейчас я был почти рад любой живой душе.
– Какой вы хитренький! – радостно обратилась она ко мне. – Сели к стеночке, а я этим ухом, с вашей стороны, ничего не слышу. Не отвечайте, я все равно не услышу! Видите, как получается: мне вы говорите, а я не слышу, а с Богом даже разговаривать не хотите, а хотите, чтобы он вас услышал.
Она явно забавлялась моей наивностью. Не зная, как мне быть, я покосился на нее и увидел, что она не так уж молода: в ее детское личико была глубоко врезана густейшая сетка морщин. Силы удивляться у меня уже давно иссякли, но эти морщины я узнал: они были оттиснуты с нашей фамильной монашенки бабы Мани. Баба Маня еще девчонкой тянулась к монастырю: мимо идет отец игумен, а мы с подружкой с горки на ледянках катаемся, радостно рассказывала она, он спрашивает: а вы что тут делаете? Мы говорим: душу спасаем. Он засмеялся и говорит: ну спасайте, спасайте – и пошел. Да, это были ее морщины, но оттиснули их на совершенно незнакомой смешливой девчонке.
– Вы знаете, что есть такая книга – Библия? – только что не прыская, расспрашивала она. – Я ж так и знала, целый шифанер книжек прочитали, а самую главную книгу не знаете! А ее писали сорок мудрецов одну тысячу шестьсот лет! Уж наверно были поумней нас? Адама и Еву тоже не знаете? А их Господь сотворил совершенными. Его звали Иегова, значит, тот, кто все создает. Он поселил Адама и Еву в Эдеме и насажал там всяких плодовых деревьев – груши, сливы, виноград – кушайте на здоровье! Только с одного дерева он запретил им кушать, он хотел проверить, будут они его слушаться или не будут. А змей им стал нашептывать: попробуйте, это самый дефицит, он эти яблоки для себя приберегает… Он же был посланник сатаны, этот змей, а они ему поверили! Видите, как надо разбираться, кто чей посланник! Если бы вам кто-то посоветовал какой-то рецепт, вы же не стали бы слушать чужого дядю, документы бы спросили, диплом, правильно? А когда дело идет о спасении, вы слушаете кого попало! А вдруг они посланники сатаны, а? Они вам наговорят, вы слушайте их больше!
Она тарахтела, как массовик-затейник: некоторые-де называют посланников сатаны посланниками ада, а на самом деле ад – это просто могила по-еврейски, а геенна – это свалка за Иерусалимом, ее мальчишки все время поджигали, вы же своих детей не будете жечь, если даже они чего-то нашкодят, а мы все его дети, Иеговы, он вообще не любит ни на кого давить, он бы и сатану в два счета скрутил, только ему противно, а так все делается по его воле, захочет он – и мы до конца света будем тут стоять, а захочет…
– Осторожно, двери закрываются! – раскатился под сводами громовой глас, и моя соседка с радостным криком «да мне ж совсем в другую сторону!» пулей вылетела на пустынный перрон и еще успела весело помахать мне оттуда, а я успел заметить, что одета она во что-то ужасно сиротское, туальденоровое…
Если бы у меня еще оставались силы удивляться, я бы поразился, что на земной поверхности, невзирая на поздний час, по-прежнему сверкает жизнь, банк «Санкт-Ленинград» все так же влечет мотыльков своими радужными огнями и даже ветхий еврей чернеет на прежнем месте в своих демисезонных обносках все с тем же «Разгромом» в руке. Эта книга про моего отца, доверительно склонившись, сообщил я ему, и он, не дрогнув ни единым серебряным волоском, отчетливо произнес бесконечно усталым голосом деда Аврума:
– Ша. Бххось заниматься еххгундой.
Он и это классическое «ша» выговаривал как дед Аврум: ча. Но меня не потрясла даже переливающаяся кровавая лужа у перекрестка, не удивился я и тогда, когда она внезапно сделалась янтарной, а затем изумрудной, – мы и не такое видали. Я остался равнодушным и когда понял, что это светофор отражается в канализационном люке – что ж, и так бывает.
Нет ничего особенного и в том, что под «домофоном» у моих ворот ляпнуто кровавой рвотой, при ближайшем невнимательном рассмотрении обернувшейся давленым кирпичом. На меня не произвел никакого впечатления и тот факт, что из моего заднего кармана исчез магнитный ключ-таблетка от этих самых ворот. Покуда я пытался осознать ситуацию, мимо меня проскочил небольшой мужичок в черной форме, переливающейся под фонарями какими-то воинственными знаками различия; тряпочные погончики были залихватски загнуты кверху, словно рудиментарные крылышки. Точным тычком он запустил замочное курлыканье и, почти не притормозив, устремился в энергично распахнутую железную калитку. Я шагнул следом.
– А вы куда? – так же энергично обратился он ко мне, и я ответил со всею возможной кротостью:
– К себе домой.
Я уже много лет как оставил безнадежную мечту хотя бы однажды показать дуракам, что они дураки, – в столкновениях с идиотами я думаю лишь о том, чтобы отделаться наименьшими потерями.
– А где ваш ключ? А то что-то вы очень шустро!..
– Ключ потерял. Но у меня есть запасной. Пойдемте, я покажу. С женой познакомлю. Выпьем чайку, телевизор посмотрим. – Я даже сгорбился как официант, чтобы не сердить его разницей в росте. Сил у меня не было ни на что.
Кажется, уже начиная догадываться, что проявил чрезмерную бдительность, этот бравый болван потащился за мной по лестнице и даже проследовал в прихожую, где нас встретила облаченная в зеленый шелковый халат моя кустодиевская супруга с лицом, залепленным засохшей болотной жижей.
– Вот, пожалуйста, моя жена, прошу любить и жаловать, – без всякой интонации произнес я и невольно прибавил: – Царевна-лягушка.
– А я работаю в охранной фирме… – Он быстро проговорил какое-то невнятное слово и с натянутой улыбкой протянул мне рекламную ручку, напоминающую дюралевую торпеду.
Поручкавшись, мы расстались друзьями. «Miraculum» – прочел я на торпедном боку.
Чмокнув не успевшую уклониться супругу в зеленую корку, я укрылся в ванной. Я чувствовал себя заледеневшим до самого донышка, но сил не оставалось даже на дрожь. Жена о чем-то допытывалась через дверь – потом, потом, отвечал я.
На отшибленном бедре не обнаружилось ни малейших следов. Когда-то я любил принять одну-другую красивую позу перед зеркалом, но сейчас мне даже не показались отвратительными мои поплывшие книзу титьки. Некрасиво, по частям забравшись в ванну, я долго отмякал в горячей воде, пока вдруг не очнулся, раздираемый адским кашлем – успел-таки хорошенько хлебануть.
– Что случилось, что случилось, открой сейчас же! – кричала жена через дверь, но частичное утопление вернуло меня к жизни – во мне вновь пробудился запасец хитрости, достаточной для социального выживания.
– Хочешь посмотреть на голых мужиков – иди в стриптиз-бар! – развязно прокричал я, и она успокоилась.
Однако за экологически безупречным ужином, переливаясь зелеными шелками, она все-таки принялась допытываться, где я пропадал весь вечер. Папу с мамой навещал, обыденно ответил я, растирая языком раскисшую, но довольно вкусную курагу, одновременно стараясь придать голосу нотку сдержанного трагизма. Она правильно поняла, что дальнейшие расспросы будут бестактны, и принялась трогать тыльной стороной пальцев, каждый раз свежим их участком, свои разгоряченные щеки, видимо, пытаясь определить их температуру: после молодящих компрессов ее ланиты всегда приобретают легкие признаки золотухи. Одновременно она обводила взглядом свой кухонный Эдем, где все утилитарное обретает эстетическую ценность: сверкающие ножи, вороненые сковородки, космические мясорубки приобретаются большей частью для того, чтобы ими любоваться.
– Я сегодня подумал, – вдруг вскинулся я, – что никто из нас не знает своих родителей. Они как являются нам всемогущими божествами, так мы их и… Вот мой отец – какой он, по-твоему, был?
– Он был добряк, – ни мгновения не колеблясь, брякнула она. – Когда наши дети плакали, он просто с лица спадал.
– Так, добряк. Раз. – Я загнул мизинец. – Еще?
– Он был очень скромный, порядочный.
– Два. Безымянный интеллигент. – Я загнул безымянный палец. – Но ты сознаешь, что порядочность и скромность ничего не создают? Они полезны не для творчества, а при дележе.
– Это слишком для меня сложно, – честно отрапортовала она, вновь принимаясь измерять температуру своих золотушных щек.
– Так ты напрягись, сосредоточься.
– Не хочу напрягаться. И тебе не советую. – Она забавлялась мною без отрыва от серьезного дела.
– А если бы тебе сказали, что мой отец мечтал быть великим человеком? А скромным сделался, чтобы только не видеть своего поражения? Что бы ты тогда сказала? Ну отвлекись, я серьезно говорю.
– Я вижу, что серьезно. Себя надоело поедать – теперь за отца взялся?
– Так что бы ты сказала?
– Я бы сказала, что это ерунда. Я его лучше знаю – он все принимал, со всем мирился.
– А если бы он сам тебе сказал? Явился и сказал, что все это было притворство, что он только в аду это понял?
– Мало ли что люди под пыткой на себя наговаривают… Тебя послушать – так несчастнее тебя никого нет.
– По-твоему, ты лучше меня знаешь, счастлив я или несчастлив?
– Конечно, лучше. – Заставить ее говорить серьезно было выше моих сил, но я видел, что она не совсем-таки шутит. – Когда ребенок капризничает, мать лучше знает, что ему нужно. Его нужно накормить и спать уложить. Вот я тебя накормила, а сейчас уложу.
– А если ко мне, как к Гамлету, явится тень отца, я тоже должен буду слушаться не его, а тебя?
– Конечно. Я плохому не научу.
– М-да… Устами младенца…
– Что?
– Я хочу сказать: чего хочет женщина, того хочет Бог.
– Хоть изредка от тебя что-то умное услышишь. Все, немедленно на горшок и спать! А то ты у меня допросишься пустырника! Кстати, почему ты назвал меня лягушкой?
– Суха теория, мой друг. Зато лягушки вечно зеленеют. Лягушка – символ вечной юности.
– Ну тогда ладно.
А она ведь и правда не стареет. Морщинки у глаз множатся, а глаза блестят все так же, как у той романтической библиотекарши… Молодец, врагу не сдается наш гордый «Варяг»…
Я так и не решился сказать ей, что, не желая знать правду обо мне, она меня убивает. Как я убивал отца.
Да только правда ли то, что сказал отец? Откуда следует, что правда, открывающаяся в аду, и есть высшая правда? Разве отчаяние непременно мудрее, чем радость, самоедство проницательнее, чем любовь? Не самое ли мудрое – жить так, как будто все, что тебе кажется, и есть правда?
* * *
Настольная лампа вспыхнула устрашающе, словно лагерный прожектор, – и заныла замороженная душа: на столе по-прежнему валялась рекламная газетенка, в которую была завернута утраченная отцовская исповедь, лживая и правдивая ровно в меру того, сколько отпущено смертному. Ложь, то есть мечта, может быть, и есть главная правда, как бы ни пытались меня смутить силы ада, избравшие орудием соблазна того, кого я люблю и кому я верю.
На миг мне показались странными мои же собственные мысли, слишком вычурные для степногорского пацана, для которого и ад и рай – лишь старушечья чепухенция, и я тут же понял, откуда они исходят: на моем столе уже целые годы изнывает синенькая книжка Борхеса, которого я еще в советские времена приобрел аж за десятку на книжном толчке при Водоканале, и так с тех пор и не могу осилить эту великолепно отполированную мертвечину. По какому-то наитию я раскрыл ее на пожелтевшей газетной вырезке, использованной в качестве закладки, и остолбенело уставился в цитату из Лейбница: «Известно, что у дьявола были свои мученики, и если довольствоваться только силой своего убеждения, то нельзя будет отличить наваждения сатаны от вдохновения Святого Духа».
Как верно сказано, херр Готфрид Вильгельм. Именно нельзя! А я-то думал, вы живете только в формуле Ньютона-Лейбница… Но что это?.. На газетной закладке отцовской рукой было накарябано красными чернилами: «Первый этап в Воркуту». Заметка была испятнана перестроечными штампами – «узники тоталитарного режима», «рабским трудом»… – но ведь отец встретил перестройку в аду?
Впрочем, я пробежал вырезку, уже ничему не удивляясь. Узнал, что первую угольную штольню заложили в тридцать первом, что до сорок третьего года Воркута скромно именовалась почтовым ящиком № 223…
После этого я решился проглядеть и оберточную газетенку. Первым бросилось в глаза объявление в траурном окаймлении:
ООО «Транспортная компания»
приглашает на работу
КОНТРОЛЕРОВ ПОЕЗДОВ
ПРИГОРОДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
з/п от 15 000 р. + соц. пакет
Дальше шли три телефона. Я набрал все три – нежный женский голос три раза по три сообщил мне, что номер не обслуживается.
Приглашения фрезеровщиков, стропальщиков, формовщиков, отделочников, медсестер и водителей с презентабельной внешностью меня не тронули, призывы к энергичным коммуникабельным господам, способным к продвижению нового эксклюзивного продукта, ко мне тоже явно не относились. Тот же факт, что организация «GREENPEACE» готова платить своим агитаторам по 100/120 руб./час, меня заинтересовал исключительно вчуже – я не принадлежу к числу людей активных, целеустремленных и общительных. Наращивать ресницы (полный глаз – 1500 руб.) мне тоже не требовалось. Взглянуть мне захотелось лишь на нового Леонардо – «поэта, композитора, дизайнера»: «Сочинение корпоративных, юбилейных и свадебных гимнов, песен, баллад. Оперативно, поэтично. Оформление зала цветами и воздушными шарами».
«Ясновидение. Любовная и бизнес-магия» – это тоже был не мой бизнес. Но правый нижний угол заставил меня вздрогнуть:
Агентство безопасности
MIRACULUM
приглашает на работу
лицензированных
ОХРАННИКОВ
Я бросился к окну, но сколько ни вытягивал шею, разглядел лишь колючую проволоку – ночной двор был пуст.
Уже и не зная, зачем я это делаю, я принялся тупо перелистывать «Книгу привидений» лорда Галифакса. Герцогу нездоровилось, и он рано ушел к себе, решив, что не сможет присутствовать на похоронах маркиза Бридэлбейна. Стильно, стильно… Арфист, повешенный людьми Монтроза, преследовавшими маркиза Аргайла, поднимает шум в библиотеке, невзирая на то, что замок на сто лет моложе его самого – юнец выстроен в 1750 году, – нет, это не про нашу честь. Газетенка, в которую была завернута отцовская рукопись, выглядела как-то поинтереснее, и я снова обратился к ней. Когда я развернул ее, черным пламенем ударил в глаза заголовок:
Ошибка Менделеева!
Редакции удалось выяснить, что создатель Периодической системы заблуждался в своих взглядах на спиритизм, пытаясь контролировать мошенничества медиумов посредством измерительных приборов, – каждый дурак знает, что присутствие измерительной аппаратуры отбивает у духов всякую охоту общаться с подобными занудами: они являются лишь тем, кто в них верит и ждет и не оскорбляет неуместными подозрениями.
Так это же прямо про меня! Я уже весь изверился и изождался. И подозрения у меня только самые уместные: не погорячился ли папочка в приступе самоедства, столь свойственного нам, смертным, когда нас твердо или мягко удаляют из Храма бессмертия. Может быть, он хочет как-то подкорректировать свою просьбу? Хотя я теперь уже ясно понимал, что никакой возможности разрешить свои сомнения у меня нет – я никогда не буду знать, говорит со мною небо или преисподняя, – освободиться от овладевшей мною силы я уже не мог.
Словно сомнамбула, я прокрался мимо безмолвной спальни моей воспитательницы на кухню: я помнил, что в спиритических сеансах как-то участвует блюдечко.
Свет вспыхнул до бесстыдства ярко – мне было все же совестно за то, чем я собираюсь заниматься. В посудном шкафу за стеклом я обнаружил целый музейчик – хранительница нашего домашнего очага, оказывается, берегла хрупкие индикаторы нашего то возрастающего, то обрушивающегося благосостояния, начиная от полузабытых и ущербных советских поделок в невинный цветочек и кончая синюшным сервизом в стиле не то Алой, не то Белой розы. Похоже, были представлены все культурные слои, включая пустоты рубежа девяностых…
Обжигающая жалость внезапно растопила мерзлоту в моей груди – я ощутил мою нестареющую отравительницу беззлобной божьей коровкой, неутомимо устраивающей свое гнездышко на проезжей части…
Я постоял перед шкафом, изо всех сил стиснув веки, и, взяв себя в руки, выбрал увесистое блюдечко, по которому катила хладно-синяя карета с джентльменами в цилиндрах на тесной крыше.
Усевшись за дубовую столешницу, я поставил блюдечко перед собой, не зная, что с ним делать. Мчащиеся за каретой узкие собаки меня отвлекали, и я перевернул блюдечко спинкой кверху. Вроде бы так это и полагалось.
Затем я положил на холодное блюдце обе ладони – без всяких последствий. Потом приложил к нему кончики пальцев. Погонял его туда-сюда, словно играя сам с собою в настольный хоккей, – непонятно было, каким образом оно сумело бы подать мне сигнал, если бы даже ему вздумалось заговорить.
И тут я подскочил как ужаленный – прямо над моей головой грянул громовой глас:
– Опять не спишь?.. Пустырника захотел?
С колотящимся сердцем я прижал к груди свою вечнозеленую спутницу, такую как будто бы большую и пышную – и такую крошечную в сравнении с неохватным миром… Который и сам лишь неразличимая пылинка среди мириадов других. Супруга видела, что со мною творится что-то неладное, а потому была само терпение. Она ничуть не удивилась, что я задумал устроить спиритический сеанс, – лучше поздно, чем никогда, они в советской библиотеке постоянно этим занимались. Но я все делаю неправильно. Во-первых, надо открыть окно. Духи умерших – они вроде комаров, могут попасть в помещение только через открытую форточку. Плохо, правда, что нас всего двое, но все-таки можно попробовать, мы же усопшему близкие родственники.
И наша кухня из наперсточка света, готового вот-вот быть поглощенным бескрайней тьмой, превратилась в прочное мироздание, за пределами которого едва ли что-то вообще существовало. Из старой карты Советского Союза мы быстро вырезали большое кольцо, на чистой стороне которого распорядительница четко переписала все буквы русского алфавита. Уложив кольцо на столешницу, мы установили перевернутое блюдечко в самой середине. Я толкнул его совсем не нарочно: знаете, как бывает – рука вдруг дернется сама собой от каких-то нервов, – и блюдечко, скользнув по полированному дереву, наехало на букву «Г». Или «Д» – при желании можно было бы натянуть и ту и другую, только незачем, ибо следующий толчок выбросил нечто среднее между «Х» и «Ф» – и «ГХ», и «ГФ», и «ДХ», и «ДФ» не сулили ничего хорошего. Мы уже перебрасывались блюдцем подобно теннисистам, ни о чем не думая, а просто развлекаясь, но все-таки записывая букву за буквой, когда из нарастающей абракадабры вдруг начало вырисовываться «брысь знемаца ерендой».
– Как ты думаешь, кому он говорит «брысь»? – Жена азартно вперилась в меня своими заспанными, но радостно поблескивающими серыми глазами.
– Это не «брысь», а «брось», – совершенно серьезно ответил я. – Мне сегодня уже в третий раз говорят, чтобы я бросил заниматься ерундой. Пора наконец послушаться.
Я так долго говорил с отцом, что ощущал его совершенно живым, и теперь мне предстояло потерять его снова. И я хотел проститься с ним на родине.
* * *
Колючая проволока так навсегда и отрезала меня от этого Эдемского сада. Хотя я, случалось, подобно отвергнутому Ромео, часами бродил вдоль этой оштукатуренной стены, увенчанной бесконечной спиралью Бруно. Будь у них контрразведка поставлена на должной высоте, меня должны были бы трижды арестовать, хотя из-за ограды виднелся один только шпиль на сталинской башенке. За этой оградой решались проблемы стабилизации и мягкой посадки космических кораблей, и два однокурсника, большие почитатели моих дарований, пытались всеми правдами и неправдами протащить меня в этот Храм бессмертных, хотя мне уже было отказано, как выразился начальник отдела кадров, «черным по белому». То есть хотя и устно, но ясно и понятно.
Однако мои дружки все таскали и таскали мне возникавшие по ходу их великих дел теоретические задачки, за которые я хватался с такой поглощающей страстью и нелепой надеждой, каких не вкладывал и сотой доли в собственные дела. Я прекрасно понимал, что никакие победы не помогут, но мне неудержимо хотелось в десятитысячный раз показать, до какой степени не правы те, кто меня отвергает. Мои друзья однажды даже уломали побеседовать со мной своего начальника, который наверняка согласился на эту встречу, только чтобы отвязаться – а может, и из любопытства: что там за умник, о котором ему столько талдычат?
Я ждал их неподалеку отсюда, в столовке с ресторанными поползновениями вроде относительно чистых скатертей и удвоенных цен, и он что-то сразу во мне раскусил. Блекло-кучерявый, мосластый и вместе с тем слегка бабистый, он без спроса взял лежавший передо мною черный том Хемингуэя и огласил приговор:
– Читал Хемингуя? – не понял ни…я.
Впрочем, что ворошить прошлое – пришли мы к одному итогу. Я брел вдоль поникшей заржавевшей колючки, уже угадывая в стене разрастающиеся трещины, нежный мох и вкрадчивый плющ, а за стеною распадались корпуса, пока еще стянутые хилыми бечевками торгующих в храме – торгующих помадой, сигаретами, водкой, кроссовками и мечтами, упакованными в солидные эзотерические тома, и мои губы сами собой повторяли и повторяли: все великое земное разлетается как дым, ныне жребий выпал Трое, завтра выпадет другим…
Моя печаль была светла: меня поджидал уголок родины, моего давным-давно утраченного первого Эдема – свалка, с которой открывались неохватные дали, какие нам дарят только степь и море. Давно я здесь не бывал…
Но что это?.. Вместо родного нагромождения жестянок и железяк моему изумленному взору открылся искрящийся битым стеклом, изодранный бульдозерами пустырь, уже кое-где схватившийся бурьяном, среди которого кротко светилась не к месту и не к сезону пробившаяся ромашка. Это не ее дело – беспокоиться, выживет она или не выживет, ее дело – расти и расцветать, а о том, чтобы ее убить, пускай заботятся другие.
Учись у них – у дуба, у ромашки… У Панченко и собственной жены. Да только в этот ботанический Эдем нам уже не вернуться. Нам зачем-то требуется жизнь в вечности, требуется необъятное небо – вот оно развернулось со всеми своими блистающими воздушными громадами. А под ними – вот уже она приоткрывается… – сверкающая кольчуга залива.
Я сделал вдох, чтобы охватить ее взглядом и замереть – и действительно обмер: передо мною расстилались зунты. Лишь через несколько мгновений я вспомнил, что здесь давно идет возня с какими-то намывными территориями, и только тогда разглядел среди песчаной пустыни белоснежный океанский лайнер. В котором я с новым замиранием сердца узнал отца – это был он, корабль, увязнувший в песках. Корабль пустыни…
После-то я разглядел и сооружения нового причала, но ум говорил одно, а глаза видели другое – бескрайняя пустыня и навеки застывший в ней гордым белоснежным лебедем красавец-корабль.
И только потом я заметил, что пустыня мутным каналом отделена от берега, у которого кто-то выложил из битых кирпичей устремленный прочь от суши нос еще одного кораблика. Наверняка это были мальчишеские игры, но я прозрел в кирпичном кораблике новый знак: это был мой брат. Мечта о море, не пробившаяся дальше канавы. А одинокая ромашка на пустыре – это, конечно же, была жена.
Но где тогда я сам? Я слишком много знаю о себе, мне не разглядеть себя даже в самой прозрачной подсказке. Отец, подскажи, воззвал я к кораблю. А, батько? Но корабль продолжал безмолвно сиять неземною красой. Получишь у Пушкина, когда-то отвечали остряки. А может быть, я уже получил у Шиллера? Спящий в гробе мирно спи – жизнью пользуйся живущий.
И что же делать, если живые могут вынести власть земли, только стирая память об умерших, превращая кровь из их ран и грязь у них под ногтями в пышность мавзолеев, в величие реквиемов, в гениальные звуки и строки, в неземную чистоту небес, скрывающих от наших глаз черную бездну. Чтобы жить, приходится убивать мертвых. Так пусть же и мои дети забудут меня, запомнят гордым и неуязвимым, как этот океанский лебедь, – лишь бы только их жизненная ноша сделалась хоть чуточку легче. Я готов исчезнуть, чтобы они жили.
Как и ты, отец, был готов исчезнуть ради нашего счастья. И уж не знаю, какие там адские Бруки и Волчеки добились, что ты за гробом отказался от того, чему служил при жизни, – я не верю показаниям, добытым под пыткой. Пусть даже это пытка правдой.
Тебе ли не знать, что пытка не обнажает, а убивает человеческую суть! Верно, отец?
Батько, где ты, слышишь ли ты меня?..
Белоснежный океанский лебедь безмолвно парил над песками.
2009 г.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.


![Книга YE [VNUX] автора Марк Трахтенберг](/books_files/covers/thumbs_100/ye-vnux-264816.jpg)