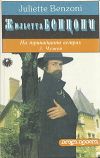Текст книги "Тень отца"

Автор книги: Александр Мелихов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 27 (всего у книги 30 страниц)
– Теперь буду все акты подписывать, – тут же заявил высокопоставленный чин. Кажется, всего лишь сержант, то есть по энкаведовской градации – средний комсостав. Вот так моя удача пришла на выручку моим начальникам и принесла доход моему искреннему другу Попову. Пишу «искренний», так как он это впоследствии доказал с полной несомненностью.
А было так. Третьего марта 1941 года я возвращался с Воркуты уже со счастливой справкой об освобождении. Надо было добираться домой, в Воркуту-Вом, за 58 км. Из Воркуты я выехал на попутных санях до первого станка и здесь остался ночевать. В землянке было страшно тесно, а вонь просто невыносимая. Не спалось. В кармане – заветная справка. Скоро увижу Киев. Повертевшись на нарах, я вышел во двор. Была тихая лунная ночь.
«И чего тут сидеть? – подумал я. – За три часа доберусь до следующего станка, отдохну, а там попуткой или пешком домой».
И пошел. О таких случаях говорят: все пело во мне. Но это же надо описать умело, нужна эмоциональная память, а у меня ни того, ни другого. Помню только, что было мне хорошо и хорошо! Накатанная дорога, а в стороне телеграфные провода узкоколейки, то на одной стороне дороги, то на другой, то ближе они к дороге, то дальше, то выше они, то над самым снегом. Санная дорога петляла вдоль узкоколейки. И, счастливый, я не заметил, как подула поземка и скрылась за облаками луна, а когда я спохватился, то почувствовал, что накатанной дороги под ногами нет и что я уже где-то по насту шагаю. И проводов уже не вижу. Начинаю метаться – где же дорога? Сначала спокойно – сдерживаю себя, потом становится не по себе. Ни проводов, ни накатанной дороги. А наст обманывает: кажется, дорога, а ее нет. И ветер крепчает, луну заволакивает. Нет, погибать сейчас, со справкой об освобождении в кармане, никак не хочется. Уж лучше бы тогда, с Алхимовым.
Вспомнился и другой случай, как мы сбились с пути в лесу под Адзьвой с Ульяновским. Мы пошли осматривать деляны для повала, и внезапно начался буран. Мы потеряли след. Стали метаться, хотя каждый старался показать, что он спокоен. Но дело затягивалось и означало конец в любом случае: хоть замерзнем, хоть найдут и расправятся как с беглецами. Ульяновский стал выражать тревогу, а меня что-то не тронуло особо: суждено, так суждено.
А теперь ой как не хотелось погибать!
Изо всех сил сдерживаю себя: не поддаться панике! Знаю, что это хуже всего. Может, не двигаться, пока я, видимо, далеко еще не забрел в тундру, а утром поедут и найдут? Но я уже весь в поту, и ветер пронизывает. Постою – холодно. Двигаюсь потихоньку – и натыкаюсь на свои следы. И никакого понятия о времени и месте. Но догадываюсь, что от дороги далеко не ушел.
Где же она, где провода?
И слышу крик, как будто мое имя. Настораживаюсь и пугаюсь: не галлюцинация ли? Тогда совсем пропал.
Порыв ветра, и снова – кто-то зовет меня по имени. Не двигаюсь и кричу в ответ: «О-о-о!»
Голос приближается, при появлении луны различаю фигуру и спешу навстречу. Попов!
– И чего тебя понесло в ночь?
Он не ругается и не радуется, не обнимает и не журит. Никаких эмоций. Он просто дело делал, как полагается человеку.
Идем с ним назад, на станок, и он мне рассказывает. Везет он продукты на Воркуту и знает, что должен меня встретить в дороге или, по его расчету, я должен ночевать на первом станке. Спросил, где я, ему ответили, что я оставался ночевать, но потом передумал. Значит, он должен был меня встретить, а меня нет. Вот он и заволновался: куда я исчез?
Мы с ним, видимо, разошлись совсем поблизости от станка. Хорошо, что я далеко не ушел и он быстро разыскал: инстинкт охотника его правильно вел.
Он, по его рассказам, бил белку в глаз без промаха. А ему верить можно – это был человек абсолютно чуждый домыслу и рисовке.
И ты нам рассказывал эту историю без всякой рисовки, когда мы были еще мальчишками. А когда стали взрослыми, никогда не повторял. Когда трагедия утратила высокий смысл, потеряли интерес и все ее эпизоды? Или ты опасался надоесть страданиями без достижений, риском без победы?
А мы, сволочи, тебя и не расспрашивали. Только с моей женой ты, случалось, подолгу о чем-то толковал – наверняка об одном и том же: она и в двадцатый раз готова ахать так же, как в первый.
Ну что бы и мне не поахать?
Я в сотый раз осмотрел вагон, однако народу в нем не прибавилось.
Еще запомнился мне бондарь – раскулаченный мужик из Уссурийского края. Человек лет пятидесяти, очень крепкий, он тоже почти не мог ни минуты сидеть без дела и делал все аккуратно и основательно, каким был и сам. Он участвовал в Первой мировой войне и получил два или три георгиевских креста. Без всякой рисовки рассказывал он о том, как ходил за «языком» к немцам, как терпеливо отлеживался часами под обстрелом, и в этом ему помогал опыт охотника за тиграми. И говорил об этом скупо, буднично.
Грамоты он не знал и не чувствовал потребности в ней, хотя с уважением относился к нам, «грамотеям». Для него работа была всем. Он мог и в выходной (а зимой таковые бывали) подняться и пойти в мастерскую что-нибудь делать. Я не видел в нем и признака жадности, алчности. Никакая политика его не касалась, и даже те скупые разговоры, какие иногда возникали, проходили мимо него. Поражала какая-то цельность в этом человеке, уверенность, беспретенциозность. И жилось ему просто. Он с нами жил в одной землянке, вместе ели из одной миски, и ни разу я не видел, чтобы он был чем-то недоволен или обескуражен.
Я иногда вечерком пересказывал книжки. И сказки слушал он внимательно и неравнодушно. Говоришь с ним – а я любил с ним посидеть, и ему это нравилось, – и видишь неглупого, рассудительного человека. Не пень и не камень, как можно было подумать, глядя на него со стороны.
Далеко не бездушными были все эти люди, но жизнь сделала их черствыми. Малейшую чувствительность они считали глупостью и непростительной слабостью. С нею не выживешь.
Был у нас такой случай. Летняя полярная ночь, солнце где-то висит на краешке, а мы, основательно измотавшиеся, бредем спать. Все сразу захрапели. Уснул и я, но не надолго. Открываю глаза и вижу, как кто-то перебирает нашу одежду, висевшую на гвозде возле каждого.
«Видно, кто-то унес ключи от склада», – решил я. Такое случалось. Кладовщик уйдет, а мы одни остаемся заканчивать работу. Забудешь и ключи унесешь с собой.
Я без очков не могу разобрать, кто и что, потянулся к очкам. Вижу, кто-то чужой осматривает карманы.
– Вор! – заорал я во всю глотку.
И вмиг все проснулись и вскочили. Не успел я опомниться, как на него уже сыпались удары со всех сторон. Скоро его свалили и давай ногами бить. Я кинулся, чтобы его выручить, – так и меня стукнули. Один другого отталкивает, чтоб самому лучше поддать. Кто-то схватил с плиты кирпич, на котором у нас каша доходила, – и к нему. Я с силой вырвал кирпич и отбросил его.
«Ведь убьют, еще этого не хватало!»
Кидаюсь в кучу и разбрасываю всех, да и они уже насытились. Подымаю вора с пола, кровь течет по лицу, еле на ногах стоит. Усадил его на ближайшую постель. Кто-то подал ему воды, кто-то вытирает кровь. А он тяжело дышит и дико озирается по сторонам.
– Только в комендатуру не водите, – просит он.
– Не поведем, и так дали, – утешает его кто-то.
– И чего ты полез к нам, знаешь же, какой тут народ?
– А чего вы двери не прикрыли, – отвечает он с упреком. – На то и щучка в море, чтоб карась не дремал.
Все развеселились, накормили и отпустили.
Таковы были мои друзья-однобригадники. И когда я пишу слово «мужики» – то с полным уважением к ним.
Ничуть не сомневаюсь. Но им ты готов простить едва ли не смертоубийство – уркам даже и простил! – а в последние свои годы брезговал заурядным жлобством: жертвы были не важны, когда было Общее Дело.
По привычке я обежал вагон взглядом, но даже не понял, вижу я что-то или не вижу, – голос отца заслонял всю вселенную.
А начальство?
О Шкляре я уже писал, и помощников он себе подбирал таких же: работящих, простых, человечных.
Всеобщей любовью, не только уважением, пользовался заведующий продовольственным складом Шевчук (к стыду своему, забыл его имя-отчество). Сидел он давно, и срок имел большой. За что – мы с ним никогда не говорили, но точно по 58-й (это контрреволюция). Правда, у кого была статья, а не буква, тех судил трибунал или спецсуд, и к ним относились лучше, доверяли более ответственные работы. Почему? Нам не понять волю высоких умов. С Шевчуком у меня были отношения полного доверия. Он мне поручал принимать и отпускать продукты и никогда меня не проверял. Уговаривал все время, чтобы я пошел к нему официально в помощники, но я принципиально отказывался. «Нести крест наравне со всеми».
На складе всегда были излишки, так как влажный воздух добавлял веса почти всем продуктам, и за счет этих излишков мы подкармливались и помогали другим. По-видимому, кое-что перепадало заву и от ларечников за эти излишки.
Когда я освободился, Шевчук пригласил меня на склад и дал мне не то шестьсот, не то больше рублей. Запомнил, что красными тридцатками. Половину – мне за помощь, а половину моя мама должна была переслать от своего имени его семье (кажется, и жена сидела – тогда детям). Я вернулся в Киев первого апреля, а второго я от маминого имени послал деньги. К сожалению, я так и не получил подтверждения о получении, а сделать запрос мы боялись, чтобы не навести на след самого Шевчука (вдруг кто-нибудь заподозрит, почему вдруг моя мать посылает такие деньги). Если они пропали, очень обидно.
Оригинальной личностью был Давид Перельман, заведующий техническим складом. Впервые я его увидел в парикмахерской, он обратил на себя внимание своим выхоленным лицом.
Парикмахерская была как все парикмахерские на свете, только более убогая и грязная. Зато диапазону споров могла бы позавидовать столичная великосветская. Приятно было после года лесной жизни, когда к твоей бороде не прикасалась бритва, а голову обрабатывал каждый любитель на свой лад, оказаться в таком избранном обществе.
Парикмахер, одетый по всем правилам парикмахерского туалета, громил своих оппонентов, не понимающих, что такое золингеновская сталь, из которой делали бритвы. Спорщики выискивали доводы в свою пользу: кто забирался в дебри технологии, кто – в экономику, кто – в политику, каждый искал лазейку там, где, ему казалось, он больше понимает, а в целом вырисовывался пустой спор. И как это часто бывает, пустоту суждений прикрывали горячностью выражений.
И когда казалось, что все заходит в тупик, вмешался солидный клиент, принужденный к молчанию скользившей по его лицу бритвой. Сказанное было так неожиданно и казалось таким веским, что все притихли.
– Я инженер-металлург и не один год работал в Руре, а уж Золинген…
Все притихли. И скоро зацепились за другую тему.
Парикмахер, из бывалых, не сразу сдался, но клиент еще чем-то его осадил, и все присутствующие стали на сторону инженера, который и здесь, в условиях лагеря, сумел сохранить и важность, и даже лоск.
Он меня прямо заинтриговал. Гд е бы встретиться? Ведь это же кладезь знаний! К тому же видно – разговорчивый. Мне повезло: через пару дней я оказался на тех-складе для переноски буровых труб. Перетаскать трубы оказалось проще всего – но как их рассортировать? Тут и позвали моего знакомого. Не задумываясь, он быстро разметил их мелком, и мы с такой же быстротой водрузили трубы на штабель, пораженные сметливостью нашего шефа. Кто-то даже высказал это вслух, но шеф уже удалялся, бросив на ходу: «Всю жизнь на буровых провел».
Забегу вперед и скажу: трубы все были перепутаны, и позже второй кладовщик пересортировал их заново. Но покуда мое любопытство еще больше разгорелось: металлург, геолог, заграничные командировки… А быстрота и сметливость! Как бы поближе узнать его?
И чем больше росло мое любопытство, тем больше граней таланта обнаруживал мой завлекательный незнакомец. И каждый раз в новой области. Вот идет осторожный спор о знаменитой Батумской демонстрации. Кто-то что-то вспоминает, кто-то осторожно возражает – ведь дело касается самого Сталина! – а Давид Борисович разом отрезал: «Мой старший брат шагал рядом с ним, а вы…»
И все умолкли.
Пришла баржа с горюче-смазочным. Бочки где-то перепутали, и надо было их снова маркировать. Но как установить, что в них? Дядя Коля вооружился топором и стамеской и быстро открывал пробки, а Давид писал на днище название содержимого.
Кто-то высказал сомнение, но тут же был поставлен на место: «Я инженер-химик, всю жизнь в Грозном на перегонном…»
Чаша переполнилась: металлург и геолог – это еще допустимо. Можно быть еще и химиком, но нельзя ведь всю жизнь быть и тем и другим! Зародились сомнения, но скоро показалось, что всему будет конец. И очень жестокий.
Из Воркуты позвонили, что присланное масло, рассортированное Давидом, оказалось не тем, что надо. Вредительство! Угроза остановки электростанции! Надо установить виновника!
Все серьезно взволновались. Жаль человека. Трепач, хвастун, но человек! А расправа в таких случаях скорая – кирпичный. Никто не злорадствовал: немного осуждали, но жалели. Спокоен был только Давид.
Не знаю, какой профессией или чьим родственником он ошарашил комиссию, но она уехала, не сказав худого слова.
Вот тут все ахнули. Такого человека все-таки нельзя не уважать. И это уважение стали выражать в удивительной форме: стоило Давиду сочинить очередную легенду, как его тут же кто-нибудь обрывал: «Врешь!»
Тогда обнаружилась новая грань его таланта: Давид не обижался. Прервет свой рассказ, молча отойдет или бросит спокойно: «Ну и вру, так что?» Его тон означал: «Вы еще меня попросите». И он не ошибался. Очередные легенды были посвящены его скорому освобождению. Это всех особенно заинтересовало: может, весточку на «тот свет» повезет отправить. Все стали слушать и прикидывать: когда? И тут началась новая серия изощрений: то ордер на арест подписывал сам Ягода, то Ежов, то Берия; какие только суды его ни судили, какие только сроки ему ни давали, но итог был один: осталось три месяца. Вроде купеческого: «сегодня за наличные, завтра в кредит». А когда собственный репертуар исчерпывался, на помощь пришла жена, тоже менявшая профессии и страны как перчатки. И это был политзаключенный!
Оставил я Д.Б. живым и здоровым и до сих пор не знаю – на какой срок. Впоследствии выяснилось, что на воле Давид Борисович был приемщиком утильсырья. Там действительно необходим широкий диапазон познаний.
Вообще, если описывать всех подряд, получится похоже на любое производство – в бухгалтерии щелкают на счетах, работяги вкалывают, все люди как люди, только больше причудливых судеб: один виделся с Тельманом, другой – с Деникиным.
Кажется, у нас до 1939 года не было женщин, а в эту зиму вдруг заговорили, что «пригонят». И все с нетерпением стали ждать – кто с циничными прибаутками, а кто просто ждал чего-то обновляющего. Однако их долго не «гнали», и слухи то замирали, то оживали. Пока в весеннюю распутицу кто-то однажды не вбежал в землянку с криком: «Баб ведут!» Мы все выскочили: одни сразу, другие не спеша, как бы подчеркивая свое безразличие. И первый же взгляд на них подавил всех нас, даже самых болтливых циников.
Человек двадцать женщин, обряженных в ватные штаны, бушлаты и валенки, закутанных в большие платки, медленно и устало тянулись гуськом по таявшему снегу.
Особенно тяжелый осадок остался от последней – маленькой, щупленькой, она как будто тонула в своей непомерно большой одежде.
Именно ее и прислали к нам на следующий день на работу. Шкляр оглядел ее с головы до ног своим ничего не говорящим взглядом и поставил сторожем. Там мы с ней и познакомились. Оказалось, что в семнадцатом году она была машинисткой в Смольном. Племянница Стасовой! Человек, видевший Ленина! Надо ли говорить, что это для меня означало. Время от времени я подбрасывал ей кусочки сахара из тех, что мы легально крали на складе. Легально – потому что, попавшись, мы должны были выгородить кладовщика. Надо отдать должное нашим мужикам: они могли о женщинах вообще рассказывать самые похабные анекдоты, но о нашей сторожихе ничего подобного не говорили. А элита конторы за ней даже приударяла.
Таким мне запомнился коллектив, с которым я коротал более двух лет, и еще раз повторяю – и тяжело было, и легко было.
Много для нас значило, что мы жили вне зоны. Огромная привилегия. Меньше проверяют, меньше обыскивают, да и чище значительно, и этого для нас добивался Шкляр, доказывая, что мы нужны ему и ночью (так оно и было). Но во время острых приступов бдительности нас тоже загоняли в зону, и тогда действительно становилось невыносимо. Пока соберешься, пока проверят, да и тащиться приходится по пурге и по морозу.
Я уже писал о палатках, в которых мы мерзли или жарились, но были и большие землянки с нарами в два яруса. Там было теплее. Но какой там был клоповник – это что-то страшное. Живьем пожирают. Усталый валишься с ног, засыпаешь на ходу – и все равно поднимут. Сонный, давишь их на себе, сметаешь их, а их миллионы миллионов. Снова заснешь – и снова они донимают и грызут. А спать-то хочется!
Интересно, что вши по сравнению с клопами просто невинные создания. И кусают, и больно, но не столь жестоко. Но при этом с вшами и в тюрьме, и в лагере велась истребительная война, а клопы благоденствовали, получая двойную пайку. Рассказывают, на поимку вши даже объявляли конкурсы, и победитель получал премию. Правда, после такой удачной охоты все перетрясут и пережгут, очевидно, опасаясь вспышки тифа. А вот клопы такой опасности не несли, и им дозволяли над нами издеваться как только могли. Засыпаешь, измученный, – чтобы тут же от укуса какого-нибудь особо старательного экземпляра проснуться с дикой болью.
И в этих муках однажды ворвалась ко мне огромнейшая радость, которую я запомнил на всю жизнь. В землянке была радиоточка – известные черные тарелки, – и во время одной побудки я услышал имя Ирмы Яунзем. Она пела «И кто его знает…»
С детства песня была для меня религиозным обрядом. Я слышал, как поют в синагоге в будни и в праздники, и чем значительнее праздник, тем больше песен. Пели и на свадьбах, но это тоже было что-то ритуальное. А вот чтобы пели так, ради наслаждения, для выражения чувств – такого я не слышал. Это мне даже казалось грехом – может быть, потому, что народу было тогда не до песен, когда я начинал постигать мир. К началу Первой мировой войны мне было пять лет, Гражданская война разгорелась, когда мне было девять.
Мне нравились песни, которые доносились с околицы вечером, когда украинские парни и девчата отдыхали после тяжелого дня работ, но и в них, мне казалось, есть что-то греховное. Ведь я рос в ортодоксальной семье, где все расценивалось с точки зрения религиозной морали: в гулянках видели какую-то скверну.
Песни Гражданской войны тоже мало радовали душевно, хоть я и завидовал солдатам, пешим и конным, особенно конным, однако их пение мне казалось частью боя – что-то будоражащее, призывное, но уж, во всяком случае, не услаждающее. Да и нужно ли вообще что-нибудь услаждающее? Это шло вразрез со всем моим талмудистским мировоззрением, библейским рационализмом и ригоризмом.
Первые пионерские и комсомольские песни были символом мировой революции. Воодушевляющими, зовущими на подвиг: ведь мировую революцию будем добывать кровью, это обязательно и даже желательно. И как один умрем!.. Смерть за революцию была мечтой, о годах радости и наслаждений никто не думал. Это мещанство, застойное, зловонное. Так что и песня была не для этого.
Песни другого рода были салонные или кабацкие:
Однажды осенью ненастной
Тащился пьяница в кабак,
С разбитым носом, носом красным
Пропить последний четвертак.
Мне этот пьяница нравился, он все же отвергал мещанскую сытую жизнь, которая была мне чужда и в годы хедера, и в годы комсомола.
Такой репертуар, конечно, не воспитывал вкуса. И когда я в двадцать лет попал в Киев и получил возможность послушать настоящее пение, я не был к этому подготовлен. Не трогало (равно как и поныне). А притворяться было противно. Студенческие годы вообще мало располагали к эстетическому. Место Талмуда заняли общественные науки, которые меня с головой поглотили. Я был целиком предан науке и революции. Что вне этого – то мещанство. Да и холод в общежитии, голод круглые сутки тоже не располагали к песням. Я ходил в оперный театр, пытался приобщиться к настоящему искусству, но безуспешно. Дальше оперы «Запорожец за Дунаем» дело не пошло. И то это было чем-то вроде легкомысленного приложения к серьезным делам.
А уж Север тем более не располагал к пению, хотя импровизированные концерты радовали. Но… можно с ними, а можно и без них. И только один раз я испытал потрясающее до слез чувство упоения, когда забываешь все на свете, и хорошее, и плохое, и хочешь только слушать, слушать, слушать.
Я уже не помню, по какому случаю нас тогда согнали в зону. Здесь в бараках и больших палатках мы спали на сплошных нарах, устроенных из жердей. В палатках температура зависела не от топки, а от направления ветра (я уже писал об этом), а в землянках этого не было. Там всегда было тепло. Зато съедали клопы. По сравнению с этим вонь от сушившихся валенок, портянок, рукавиц вперемешку с запахом давно не мытых тел была сущим пустяком. И в этой землянке, на верхних нарах, где было теплее и клопинее, мне и суждено было впервые испытать ни с чем не сравнимую радость от песни. Передавали концерт для полярников; все слушали, лежа на нарах, тихонько переговариваясь и непрерывно отбиваясь от клопов. Время от времени кто-то чертыхался, если истязатель ускользал из-под самого носа или, напротив, жалил чересчур больно. Однако все держалось в рамках приличий.
И вдруг в полутьму землянки, пропитанной парами сохнущей грязной одежды и нездорового человеческого дыхания, ворвался кристально чистый голос Ирмы Яунзем: «И кто его знает, чего он моргает».
Казалось, воздух стал чище и свет ярче. Исчезли колючая проволока и вышки, осталась только песня. Было легко, радостно, блаженно. И ни один клоп не прикоснулся к телу, будто их она тоже заворожила.
И кто его знает…
Никто ничего не знает. И нежный, ласковый, немного грустный голос все повторяет это, и нам как будто становится легче: никто ничего не знает.
Казалось, песне не будет конца, как не будет конца и нашей свободе, радости, наслаждению. И когда певица умолкла, настала гнетущая тишина.
Еще бы раз, хоть один раз! Но радио молчит. Бодрым голосом диктор объявляет: «Концерт для полярников окончен, спокойной ночи».
И на глаза навернулись слезы. Слезы у людей, столько испытавших и столько повидавших, суровых и огрубевших, людей, для которых слезы – признак слабости, малодушия, но не глубоких чувств. Эти люди не плакали при самых тяжелых потрясениях, а тут…
Будто сызнова нас окружили колючей проволокой, снова сгустился мрак, снова принялась душить вонь. А клопы – казалось, они хотят нас сгрызть заживо. Но, может быть, они хотели заглушить в нас боль и тоску о покинувшей нас песне?..
Наверно, это тоже наша вина, что при жизни папа никогда не произносил высоких слов. Правда, в последние годы он все пытался вспомнить какую-то украинскую песню своего детства, но ему удавалось припомнить только «Ой…».
Я заглянул в соседний вагон, но и там никого не было. Да нет, это уж совсем глупо – думать, что папа в поезд сядет, а ко мне не подойдет.
Внезапно у меня по предплечьям пробежали мурашки: а вдруг тогда в тамбуре был не сам отец, а какой-то его двойник?.. Сухость эта была уж настолько не отцовская… Ведь даже перед смертью, когда я появлялся у его одра, сквозь его серебро с чернью проступало измученное счастье: Лёвик…
Нет-нет, прочь сомнения, сомнения – орудие дьявола! Но отец-то мне объяснил, что, наоборот, орудие дьявола – это правда! Или правда – только орудие пытки?
Я перестал что-либо понимать и ринулся за помощью к отцу. И его голос вновь разогнал внезапно нахлынувший морок.
А теперь вернемся в нашу милую землянку, что находилась вне зоны. К нам, в привилегированное общество часто приходили гости. Ведь у нас было меньше лагерного духа в прямом и переносном смысле. Моим гостем часто бывал профессор философии из Ленинграда Гоникман. Его мытарства начались с того, что когда-то, давным-давно, он присутствовал на лекции Сталина и задал ему какой-то невинный вопрос, который тот воспринял как подвох, и впоследствии время от времени интересовался любознательным слушателем. В конце концов этого оказалось достаточно для ареста.
Вспоминается эмигрант-эстонец, стиравший белье в прачечной. Наша элита имела возможность носить белье поновее и почище и отдавала ему стирать по особому заказу, расплачиваясь какими-нибудь продуктами. Описывать же, какое белье носили мы, работяги, – не большое удовольствие. Рубаха могла быть совсем без одного рукава, а чтобы она была целая, такого почти не встречалось. Подштанникам могло недоставать целых полштанины – отрывали, видимо, на тряпки. А уж стирали – так не дай бог. Пятна всевозможного происхождения можно было найти повсюду. Но брезговать нам не полагалось – что дают, то и бери. И я никогда особо не перебирал – все равно кому-нибудь достанется. Хотя на базе, где я кроме обязанностей грузчика выполнял еще и поручения по отпуску товаров, меня пытались вовлечь в элиту с привилегированным бельем. Но я категорически отказался. Я не рисуюсь, не для этого я взялся писать. Но могут спросить: так ли уж нужна была подобная щепетильность. Отвечаю: я не хотел ничем отличаться от моих друзей-грузчиков. Это первое. Другое – у меня вызывали такое отвращение рассказы соблазнявшего меня бывшего политического деятеля, что его руками я больше брезговал, чем грязными подштанниками.
Почему-то с политической работы (кажется, в Коминтерне, если он не привирал) он попал на хозяйственную и стал директором Ленинградского мясокомбината. И тут началась у него «настоящая» жизнь. Главное, он доказывал (а своим разговором он удостаивал только бухгалтеров), что нет никакой возможности установить, сколько мяса в чанах, а поэтому была возможность «пожить». Рестораны, женщины, вино – он так все это смаковал, как будто и сейчас всем этим наслаждается. При этом он добивался, чтобы все ему завидовали и соответственно его прошлому размаху с ним расплачивались и теперь.
После инженера-строителя в киевской тюрьме это был второй человек такого нрава. Пишу через столько лет, и прежняя гадливость к нему возрождается снова.
Но было и много случайных встреч, оставивших в душе самые теплые воспоминания. Вспоминается фамилия Крупского – кажется, бывшего главного инженера Главнефти. Обаятельнейший человек, старый русский интеллигент, которого странно было видеть в тюремной робе остриженным наголо, он рассказывал о главном инженере Спецстали (фамилию не помню). В своих показаниях тот говорил о диверсиях и вредительстве, к которым якобы был причастен его начальник Тевосян. Когда руки Ежова потянулись за Тевосяном, за него вступился Микоян, и ему поручили встретиться с этим инженером, чтобы проверить показания.
И вот однажды арестованного инженера вызвали для беседы с Микояном. Он очень обрадовался и рассказал, что он и сам ни в чем не виноват, и что Тевосян не причастен ни к какому вредительству. Тогда Микоян начал его избивать за отказ от прежних показаний. А через день его снова вызвали к Микояну, и сколько тот ни добивался от него правды, он беспрерывно твердил, что и он вредитель, и Тевосян с ним заодно. Микоян стал требовать от него конкретных фактов, но их не было, бедняга только повторял как заведенный: «Мы вредители, мы вредили».
– Но вы ведь план всегда выполняли.
– А мы могли больше.
– Назовите факты диверсии.
А тот не знает, что и сказать. Так с ним Микоян промучился и ничего не добился. И в результате инженер получил 15 лет, но Тевосяна все же не тронули.
И как оказалось впоследствии, первый Микоян был загримированным под Анастаса Ивановича энкаведистом, который таким образом запугал беднягу, и когда произошла встреча с настоящим Микояном, он уже не смел и слова сказать в свою защиту.
Может быть, это была и легенда, но все в нее верили.
Иначе вспоминается человек, которого ни разу не видел, но фамилия его была мне хорошо известна по газетам тридцатых годов. Буценко, секретарь ВУЦИК, – это что-то должно было значить! Старый большевик – эти слова для нас означали еще больше: бескорыстие, самоотверженность, честность, высокая идейность.
Мой друг Леках, работавший слесарем на электростанции, как-то рассказал мне, что к ним прислали сторожем Буценко. Мне очень хотелось увидеть этого человека «в натуре», но вскоре явилось разочарование. На электростанции произошла небольшая авария. Все были в тревоге: как это расценит начальство. Ведь обвинение во вредительстве из-за любого пустяка было тогда очень популярным и чрезвычайно опасным. И у всех отлегло от души, когда на собрании представитель управления, изучивший причину аварии, свел все к каким-то техническим неполадкам, в которых никто не виноват.
Вот тут и поднялся Буценко и обвинил всех чуть ли не в политической слепоте.
– Надо искать вредителя! – было его заключение.
Все замерли. Ведь самый большой начальник мог тогда растеряться от такого обвинения – козлом отпущения могли сделать любого. Но к счастью, технический эксперт не растерялся и не поддался высокой бдительности, – на этом все закончилось. Однако желание познакомиться со старым большевиком улетучилось без следа.
А Лекаха, опытного инженера и хорошего слесаря, не раз выручавшего во время аварий, перед освобождением соблазняли всяческими благами, чтобы он остался в качестве вольнонаемного. Он наотрез отказался. «Тогда вас снова привезут сюда под конвоем», – пригрозили ему. «Под конвоем работать буду».
Он успел выйти до войны и был эвакуирован в Курган, там работал на закалке мин. И однажды начальник цеха принес ему починить пряжку на туфле дочери. Леках был занят каким-то срочным делом, но тот – тоже еврей! – уже через час был смертельно оскорблен: «Не зря таких сажали!»
В 70-е я навестил этого умного порядочного человека в Днепропетровске, разыскав его в силу счастливой случайности.
Орудием этой случайности послужил я сам, я это помню. Моя однокурсница в гостях у своего двоюродного дяди в каком-то рассказе упомянула мое имя, и тот сказал, что тоже знал на Воркуте Каценеленбогена – самого благородного человека, которого он когда-либо встречал. А дело было лет через тридцать–сорок. Оставить по себе такую память – это тоже надо было ухитриться. Вполне бесхитростно.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.


![Книга YE [VNUX] автора Марк Трахтенберг](/books_files/covers/thumbs_100/ye-vnux-264816.jpg)