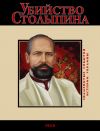Текст книги "Столыпин"

Автор книги: Аркадий Савеличев
Жанр: Историческая литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 30 (всего у книги 36 страниц)
Часть десятая
Под прицелом
I
Возня со «святым чертом» и прочими чертенятами отнимала много времени и сил. Словесные и прочие дуэли давали себя знать. Устал? Поизносился?..
Несокрушимое казалось бы здоровье начало пошаливать еще в 1909 году. Болящая рука – всего лишь житейский анекдот; грудная жаба – серьезнее. Простуживаться как-то умудрялся. Впрочем, почему «как-то»? Одна поездка в Сибирь чего стоила. Да и плутание по финским шхерам здоровья не добавляло; увлечение царя стало и его увлечением. Николай II то и дело убегал от дворцовых дрязг к бесконечной череде островов, вытянувшихся вдоль финского побережья. Когда-то в тех островных лабиринтах флот Петра I впервые пробовал свои паруса, а отлитые из церковных колоколов корабельные пушки настырно терзали борта «владык Балтики» – надменных шведов. У Николая II не было нужды самолично поджигать фитили – соседи шведы стали ручными ягнятами, – да и военного таланта у нынешнего императора не было, но тайно он все же мнил себя флотоводцем. И потому встречи с коронованными собратьями и даже министерские совещания могли устраиваться на его любимом крейсере «Алмаз». Для этих нужд был нужен еще и «Штандарт». От Царского Села до Кронштадта на шлюпах, а там – сам себе адмирал. Хочешь в Гельсингфорс, хочешь в уютные шхеры, а то и в Ревель меряться коронами с морскими соседями. Так царская волна увлекла и премьера.
То на встречу с германским императором Вильгельмом, то с английским королем Эдуардом, то еще с кем-нибудь. Почему бы на свежем морском воздухе не поговорить?
Столыпин, разумеется, не разглядывал, как был одет флотоводец Николай, но сам любил пофорсить в белом, продуваемом всеми ветрами мундире. Что говорить, при его прекрасных росте и фигуре шли ему белые летние кителя. Когда целуешь ручку королеве, не только петухом – орлом на крыло взлетишь. Вот, довзлетался!.. Лежи в постельке, под пуховым одеялом.
Бывало, раньше в помещичьем Колноберже в раннее росное утро он мог лихо прокатиться на легких дрожках по своим владениям… а теперь вот год назад подхватил крупозное воспаление легких и был упрятан врачами в крымскую Ливадию. В разгар таких реформ Бог не попустил отдать ему душу, но грудная жаба не лучше…
Ольга Борисовна стояла у изголовья кровати:
– Милый Петро! У тебя сколько деток? Отлежись дома. Сдался тебе этот Зимний!..
Дома было хорошо. Он знал, что правильно сделал, когда завел собственный домишко на Фонтанке о трех прекрасных этажах. Царский Елагинский дворец оставался на лето да разве что на осень, зимой же – ты у себя дома!.. Было ведь и предчувствие: не вечны царские милости…
– Оленька? Как же я останусь дома, если у меня грядет совещание по Западному краю?..
Слезы в ответ.
– По нашему краю. Там и Колноберже, и Машино гнездышко…
Ну чем не довод? Маша, старшая дочь, стала Марией фон Бок, у нее появилось свое гнездо в том же Ковенском уезде. Уж если не для всей России – для себя-то можно порадеть?
Довод, который мог убедить любую женщину. Только не Ольгу Борисовну, урожденную Нейдгардт. Но она слишком хорошо знала своего суженого.
Вначале служба – потом семья.
Вначале дело – потом безделье.
И уж тем более какая-то хвороба…
– Оленька, совещание так себе, но мое присутствие необходимо. Мало что и премьер, так еще и ковенский помещик. Чего доброго, опять в неуважении к полякам обвинят – то бишь в национализме русском… Нет более страшного преступления!
Она видела, что слезы не помогут. Мигнула заглядывавшим в двери дочерям. Те знали, что делать. В пропахших лекарствами, уже для него привычных апартаментах опять ночевал доктор Карл Иванович. Конечно, за ним могли бы сбегать хоть Лена, хоть Ара, но закулдыбала-то все-таки Наташа. Во-первых, она упорно училась ходить, во-вторых, кого же не тронет столь самоотверженная привязанность? Не учла только Ольга Борисовна: на своих полуногах Наташе быстро не обернуться…
Пока свирепый Карл Иванович одевался спросонья, пока ополаскивал лицо да по-стариковски ругал «болезную», чтоб не слишком трудила ножки, уже картинку он застал уморительную: в подушку плакала Ольга Борисовна, в сторонке, обнявшись, сгрудились дочки, камердинер облачал верхнюю часть Петра Аркадьевича, а рядом в щегольской кожаной куртке стоял шофер и докладывал:
– Петр Аркадьевич, я машину загодя прогрел… так что в салоне теплынь-тепло…
В довершение всего в распахнутые из гостиной двери ворвался Аркаша на своем лакированно-деревянном авто и задергал шофера за куртку:
– Дядя Шофря, и я… и меня покати! С ветерком, дядя Шофря!
А сам Петр Аркадьевич пытался поймать ухо сына:
– Сколько раз тебе говорить: не шофря, а шофер! Вот уж поймаю негодника!..
Ухо он поймал… но вместо того чтоб драть, прижал негодника к груди, шепча:
– Только чтоб теплей оделся… только чтоб маман не слышала…
Карлу Ивановичу осталось лишь восхищенно развести дрожащими руками:
– А что я говорил? Как всегда, как всегда…
Ольге Борисовне пришлось осушить слезы и крикнуть в раскрытую дверь:
– Кофе!
За дверью толпились все, кому полагалось толпиться по утрам.
– Кушать подано! Сюда изволите, или…
– Я сам выйду. Живо, Никита! А ты перестань возле меня копаться! – Это уже камердинеру. – И ты, Оленька, не хнычь. – Это уже жене. – Видишь, я совсем здоров!
– Вижу, Петечка, вижу… Дай поцелую, что с тобой делать.
Петр Аркадьевич сам расцеловал жену, потом дочек, особливо Наташу, а любимому негоднику опять пригрозил:
– Ну, я до тебя доберусь!..
– И я, па, до тебя доберусь! – чуть не на плечи вспрыгнул сынок.
Камердинер даже возопил:
– Да ведь помнет он вас, пропадай мои труды!..
В общем, все как всегда по утрам… Особливо когда обожаемый па приболел и поднялся позже обычного.
II
В России сложилась парадоксальная ситуация. Прошедшая революция не прошла даром. Стараниями прежде всего министра внутренних дел она была потушена, как догоревшая свеча. Но фитиль еще чадил. Огонь ушел вглубь, размывая податливый воск – единую российскую народность. Казалось бы, русские формировали свою нацию; казалось, нет иного пути, как группироваться вокруг русского человека. Будь ты финн, поляк, еврей или обитатель Кавказских гор. Ан нет! Столыпин все делал, чтобы положить конец национальной разноголосице. Но что удавалось ему прежде в разношерстном Западном крае – не удавалось ни в одной, ни в другой столице. Каждый кудахтал на своем насесте. Самыми горластыми петухами были, конечно, поляки. Им охотно подпевали из-за «черты оседлости». Евреи-то пришли в западные края вместе с надвигавшейся на Россию Полонией, да, пожалуй, и ранее. Теперь вся эта разноголосица и свалилась на председателя Совета Министров. Надо было утихомиривать страсти.
Положим, евреи были не очень-то вхожи в Государственную Думу, тем более в Государственный совет. Но поляки кукарекали и от имени евреев, и от имени литовцев, и прочих, вплоть до цыган, которые «шумною толпою» кочевали по Западному краю. Смешно сказать, но из всех депутатов Государственного совета от западных девяти губерний не было ни одного русского!
К тому сложились свои причины. Там не прижилось еще земство, которое могло определить хозяйственную и национальную политику. Все крупное землевладение исстари оказалось в руках поляков, а русские помещики, владея землями, по большей части не жили в своих западных поместьях. Крестьяне же находились в вечном страхе перед панами. А имущественный ценз был настолько высокий, что русский народ, в суворовские времена штыками проложивший путь на Запад, сам оказывался инородцем. Действительно, надо было что-то делать.
Так возник вопрос о создании на западных границах Холмской губернии – то есть о выделении ее из Царства Полонского. С миру по нитке собирали, для увеличения русского влияния на западных границах. Давно началось, но до Столыпина никак не двигалось. Теперь вроде бы сдвинулось; в защиту новой губернии были собраны подписи пятьдесят одной тысячи местных жителей. А девять старых губерний – Виленская, Гродненская, Ковенская, Могилевская, Минская, Витебская, Киевская, Подольская и Волынская – делились на три избирательных округа, каждый из которых мог выбирать на своих съездах по двадцать выборщиков. Причем уже не по имущественному цензу, а по национальному. Поскольку основное население Западного края было русское, то на одного поляка приходилось бы двое россиян, включая сюда и белоруссов, и украинцев.
Поначалу новый законопроект исходил не от Столыпина – от хозяина влиятельной газеты «Киевлянин», некоего Пихно, но министр горячо поддержал эту инициативу. Весной 1910 года как раз и началось обслуживание в Думе нового законопроекта. А поскольку евреи в земство не допускались, – следовательно, не могли быть и выборщиками, – Столыпин настоял, чтобы «во избежание недоразумений» дополнить законопроект необходимой поправкой, которая давала бы право и евреям быть в числе выборщиков.
Так закрутилась правительственная карусель, окончательно испортившая Столыпину отношения с Николаем II.
Выступили против него самые ярые националисты – Трепов, Дурново и, как ни странно, Витте. Наверно, уже в пику Витте страдал завистью к своему более успешному преемнику. Дурново тем более: он ведь был министром внутренних дел до Столыпина и ничем, кроме благоглупостей, под стать своей фамилии, не отличился. Ну а Трепов – по дружбе с Дурново. Но все люди сановные и непременно вхожие к государю. И вот в то время как Столыпин собирал силы средь депутатов, чтоб провести новый закон, Трепов и Дурново «забежали» к Николаю II, и законопроект в Государственном совете был провален…
Когда Столыпин узнал обо всем, он на правах родственника пригласил к себе брата жены Нейдгардта, тоже члена Государственного совета. Пришел и собственный брат-журналист.
– Забежали поперек батьки! – этими словами встретил Столыпин родственничков.
– Как забежали, так и пробегут мимо, – отмахнулся брат.
– Не скажи, Александр, – не принял его легкомыслия Нейдгардт. – Люди влиятельные, привыкли бегать по красным коврам.
– Моя самонадеянность… – повинился Столыпин. – Я настолько был уверен в успехе, что за несколько дней до слушания дела не пригласил министров, которые носили звание членов Совета. Их голоса были просто необходимы!
Шурин Нейдгардт и брат Александр согласно кивали. Столыпину это не понравилось.
– Что вы на меня так смотрите? Я не святой. Разве не имею право на ошибки?
– Не имеешь, – категорически парировал брат.
– Ошибка ошибке рознь, – более сдержанно ответствовал Нейдгардт. – Вы многих разозлили. Даже Витте…
Это было самое непонятное. Витте с первых шагов поддерживал Столыпина. Сам обжегшись на реформах, так и не начав их, он сейчас преспокойно посиживал в Государственном совете и, видимо, гадал: сломает преемник себе шею или нет?! Ментор. Брюзга. Завистник на старости лет. Что делать, такова душа всякого «бывшего»…
Поддержка, оказываемая «Киевлянином», только злила графа Витте, получившего это звание уже накануне своей отставки. Кажется, и Столыпина Николай собирался возвести в графское достоинство… тоже не накануне ли отставки? Это было вполне в духе Николая: от полнейшей растерянности до царского пинка один шаг… «Киевлянин» оказывал медвежью услугу, защищая Столыпина. Отвечая неукротимому Витте, газета ядовито и метко заметила, что идея национальных курий «заимствована из закона, имеющего весьма близкое отношение к недавней государственной деятельности гр. С.Ю. Витте. Она заимствована из первого избирательного закона для Государственной Думы, которым допущены отдельные выборы членов Думы от инородцев…» При этом сам Витте ни разу прежде не вспомнил и не принял никаких мер, чтобы идея, по его словам, «столь антирусская, столь антигосударственная, как система инороднических курий, была из этого закона исключена». Чего же сейчас, мол, новоявленный граф нападает на свое незадачливое детище? Вероятно, оттого, что Столыпин очистил его от местечковой перхоти…
– Согласитесь, друзья, – под перезвон как бы похоронных бокалов подвел Столыпин неутешительный итог, – что мы наблюдаем интересный парадокс: лобзание медведя, осла и ящера.
– Ящер, конечно, Дурново?.. – по-журналистски быстро уловил брат Александр.
Нейдгардт догадался, пожалуй, еще раньше:
– Мы ведем пустые разговоры. Остановить это неприличное лобзание может только государь. Как быть?
– Надевать камергерский мундир и идти прямиком в Царское Село!
– Н-да… – покачал головой один из собеседников.
– Не страшно ли, брат?.. – более откровенно выразился другой.
– Страшно, но иного выхода нет. Нетути! Как говорят в народе. Еще по одной, да пора и собираться.
Столыпин вдруг совершенно успокоился.
У Николая II был «царский комплекс страха собственного слабоволия»; об этом говорили и писали почти открыто. Он пасовал перед Столыпиным… но ведь он был царь! Этот страх всегда играл с ним злую шутку. И когда на следующий день после провала законопроекта о западных земствах, то есть 5 марта 1911 года, Столыпин явился с докладом в Царское Село, Николай не знал, куда глаза деть. Накануне к нему нагрянули Дурново и Трепов; собственно, боясь грозной парочки, он принял одного Трепова, а Дурново оставался в приемной. Но что изрекли царские уста? Именно это: «Конечно, голосуйте по совести». Слова Николая с болтливых языков Трепова и Дурново разошлись по всем думским кабинетам, а это значило: он опять спасовал. Защищать законопроект не будет… И не защитил, предал, по сути, премьера. И вот сегодня сам премьер предстал со своей железно гремящей папкой, из которой выскользнула папочка сафьяновая, с одним-единственным листком бумаги.
– Что у вас на сей день? – попытался Николай в шутливом тоне утопить серьезность разговора.
– Прошение об отставке, ваше величество, – поклонился Столыпин.
– Вот как! – не оставил Николай зряшной попытки. – Из-за такого пустяка…
– …принципиального пустяка, ваше величество. Я хотел бы знать, кто правит Советом министров? Столыпин… или Трепов с Дурново? Разумеется, ваше величество, приму любое ваше решение.
Николай понимал, что шутками не отделаться. Да, по совести говоря, он и не хотел лишаться премьера.
– Я не могу принять вашей отставки, Петр Аркадьевич. Что скажут, что подумают о таком решении?.. Уж извольте объясниться… Каковы мотивы?.. Условия ваши?
– Два условия, ваше величество. Первое, уже испытанное в нашей совместной работе: распустить на несколько дней обе палаты и провести закон о западном земстве по 87-й статье. И второе…
Столыпин прямо посмотрел в глаза государя.
– …и второе: предложите Дурново и Трепову на некоторое время уехать из столицы и прервать всякую работу в Государственном совете.
Это был открытый ультиматум.
– Более того, ваше величество, следует подвергнуть Дурново и Трепова высочайшему взысканию… чтобы другим было неповадно мутить воду.
– Ссылка?.. А может, уж сразу на каторжные работы?
– Как вам угодно будет, ваше величество, сие называть.
– Но ведь они мои назначенцы!..
Столыпин, разумеется, это знал. Половина членов Государственного совета избиралась в губерниях, а вторую половину царь назначал самолично. Трепов и Дурново были как раз из числа последних.
– Я подумаю… мне следует все хорошенько обдумать…
Столыпин поклонился, зная, что Николай не станет его больше задерживать.
III
Сторонники Дурново, Трепова да и свихнувшегося на старости лет Витте с вожделением ждали отставки Столыпина. При разговоре его с Николаем II никто, конечно, не присутствовал, но все знали: прошение об отставке подано, и государь исполнит эту просьбу. Разве что ради приличия протянет несколько дней.
Столыпин нигде не показывался, и можно было злословить, не опасаясь, что он вызовет кого-нибудь на дуэль, как кадета Родичева. Перед своим затворничеством, выступая с трибуны Государственного совета, Столыпин прямо и публично обвинил Витте:
– Уважаемый Сергей Юльевич делит крестьян, посылаемых в земство, на «плохих» и «хороших». Но где грань, господа, между этими понятиями? Мы же всем крестьянам даем одинаковые права – право владеть своей собственной землей и честно трудиться в свое благо, стало быть, и во благо России. Я могу утверждать: мой предшественник понимает это. Хорошо было начато, но плохо кончено.
Граф Витте опускал глаза под взглядом этого неукротимого человека.
– Один раз в истории России был употреблен такой прием. Государственный расчет был построен на широких массах без учета их культурности при выборах в Первую Государственную Думу. Но карта эта, господа, оказалась бита!
Хотя Столыпин говорил иносказательно, Витте не решился ответить глаза в глаза. Струсил старый лис!
И вот теперь, когда премьер ушел в затворничество, последовал подленький ответ… причем не от самого Витте. От неожиданного его союзника Трепова.
– Да, – сказал он, – Столыпин прав, утверждая, что политика Витте потерпела банкротство. – Трепов делал затяжные паузы между словесными пассажами. – Да, карта была бита… Сегодня на эту карту ставится консервативное монархическое начало земства, правда, в шести западных губерниях, но не нужно быть пророком, чтобы предсказать: в эту игру будет вовлечено все российское земство и в этой игре карта также будет бита.
Ах игроки, осмелевшие шулера! Пользуются тем, что дуло дуэльного пистолета ушло в затворничество…
Правда, была газета «Россия», утверждавшая:
«Менее всего можно было ожидать, что в момент решительного голосования члены Государственного совета, настроенные в пользу защиты польских интересов, соберут большинство голосов».
Но вот собрали же! Как в шулерской картежной игре…
Слухи, сплетни!
Стало известно, что по требованию Столыпина Николай все же отправил «в отпуск» главных зачинщиков антиправительственного бунта – своих любимцев Дурново и Трепова… аж до 1 января 1912 года!
Но между тем и сам Столыпин был как бы в изгнании. Он нигде не появлялся. Его никто никуда не звал. К нему никто не приезжал… Как к прокаженному, что ли?!
Даже правая рука реформатора не сразу пристала к телу. Министр земледелия Кривошеин – он где?..
Как выяснилось, он порядок в своем небольшом поместьице наводил.
– Воруют, – оправдывался, появившись в Елагинском дворце. – Старосты, десятские, все, кому не лень. А так ли уж я их прижимал?
– Не так, – поправил Столыпин, обрадованный появлением своего верного помощника. – Надо было покруче.
– Так за крутизну нас с вами и ругают…
– Ну, какая крутизна… Не можем в своих поместьях управиться, а замахиваемся на всю Россию.
– Да ладно, Петр Аркадьевич, о наших поместьях. Меня вовсе не то заботит. Как вы думаете, простит государь нажим, каковой вы над ним учинили?..
Кривошеин уже знал, что Трепов и Дурново отправлены в годовой, возможно и бессрочный, отпуск, но он знал и другое: на царском столе лежит прошение об отставке. А царь молчит.
Столыпин налил бокал:
– За встречу. Вы первый, кто отважился навестить изгнанника.
– Ну, какая отвага, Петр Аркадьевич? Просто жизнь. Вот и вы… Может, смягчитесь? Дадите через кого-нибудь некий знак, что повинились?
– Смягчение? Пусть ищут смягчения те, кто дорожит своим положением. Я же, в конце концов, помещик. Ну не даст мне государь графского звания – эка беда! Столыпины ни перед кем никогда не заискивали. Вероятно, резолюция на моем прошении уже наложена. «Нашей монаршей милостью соизволяем…» И так далее. Чего доброго, еще и орденок на прощание подкинут!
– Вроде бы хорошо знаю вас, Петр Аркадьевич, а надивиться не могу. Да вы ж увязли в реформах? Вы и под дулом револьвера их не бросите?
– А вы?
– А я как вы. Я исполнитель, всего лишь…
– …всего лишь прекрасный исполнитель? Чего лучше! Самое уязвимое место в нашем чиновничьем мире. Я вот не могу собрать пять десятков достойных губернаторов! А сколько по всей России нужно дельных исполнителей?
– Не считал, Петр Аркадьевич.
– И я не считал. Потому что девятерых из десяти надо просто выгнать, а десятого подобрать по достоинству. Возможно ль это?
– Спросите у Меньшикова!
– Петровского?..
Знал, конечно, Кривошеин, что речь идет не о любимце Петра Великого – о любимце российской публики. О газете «Россия». О друге брата Александра, хоть они и конкуренты. Но когда только успевают? В Царском Селе Столыпин был 5 марта, а уже 6-го Меньшиков разразился большущей статьей, даже своим заголовком кричащей: «В чем кризис?»
Газета лежала тут же на столе. Кривошеин кивнул: читал, мол, читал…
«Было бы неправдой, что П.А. Столыпин непопулярен. Напротив, он пользуется общим уважением, но в этом уважении чувствуются как бы ноты некоторого разочарования… Мы все ждем появления больших людей, очень больших, великих. Если данная знаменитость получила величие в аванс и вовремя не погасила его, общество этого не прощает…»
– Ведь прав стервец! – заметил Столыпин.
– Прав… но правота эта горькая. Ваша ль вина… да хоть и моя… что не дают работать? – вздохнул Кривошеин.
«То, что он стал премьером из простых губернаторов, уже сам по себе факт исключительный, первый случай из эпохи временщиков. Удача преследовала господина Столыпина и дальше. Трагедия нашей революции прошла над самой его головой, но он вышел благополучно из катастрофы. Он унаследовал, правда, уже разгромленный бунт, но имел счастье дождаться заметного «успокоения». Но увы, маятник остановился лишь на одну секунду, и кажется, мы снова… начинаем катиться влево. Вот тут-то удача как будто и оставляет своего любимца».
Кривошеин, видимо, слишком грустно смотрел. Столыпин рассмеялся:
– Не надо меня хоронить! В конце концов, прошло всего лишь три дня. Да, маятник снова начинает качаться влево. А государь должен понимать: ему в подпору нужна сильная рука!
Он стукнул кулаком по столу так, что зазвенели бокалы.
– Три дня. Не так уж много для нашего нерешительного государя. Подождем?..
– Подождем, Петр Аркадьевич, – согласился Кривошеин.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.