Текст книги "Похищение Эдгардо Мортары"
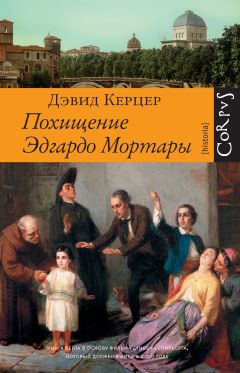
Автор книги: Дэвид Керцер
Жанр: Исторические приключения, Приключения
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 23 (всего у книги 32 страниц)
Отсутствие инквизитора объяснялось иначе. Ему было велено предстать перед судом и ответить на обвинение в “насильственном разлучении мальчика Эдгардо Мортары с семьей”. В тот же день Юсси подал прошение от имени отца Фелетти – он просил освободить монаха от обязанности явиться в суд, так как тот желает “отвергнуть это преимущество, которое предоставляет ему закон”. Коротко говоря, бывший болонский инквизитор не желал присутствовать на собственном процессе, потому что, явившись в зал, он тем самым признал бы право нового государства вершить над ним суд.[324]324
ASB-FV, pp. 404–410.
[Закрыть] Суд принял его отказ, и утром 16 апреля, когда коллегия шести судей под председательством судьи Калчедонио Феррари объявила заседание открытым, отец Фелетти остался в тюремной камере.
Ни обвинение, ни защита не приглашали на процесс никаких свидетелей. Обвинение уже представило суду копии всех свидетельских показаний, которые собрали Курлетти и Карбони. Со стороны обвинения показаний не давали только люди вроде фельдфебеля Лючиди, которые бежали в земли, остававшиеся под контролем папы. Юсси же столкнулся с другой ситуацией, довольно щекотливой. Он представлял в суде человека, который в принципе не желал защищаться. Особенно сильно руки адвокату связывало то, что многие из важнейших фактов, которые требовалось установить, как раз затрагивали вопросы, которые, по мнению инквизитора, вообще не следовало сообщать суду. Прежде всего, он не мог вызвать в зал суда Анну Моризи, чтобы она рассказала о своем допросе в Сан-Доменико. Да и как бы он мог вызвать других важных свидетелей, вроде Чезаре Лепори и Реджины Буссолари, не поднимая при этом вопроса о том, кого инквизитор опрашивал, а кого – нет? И мог ли он даже помыслить о том, чтобы вызвать таких свидетелей, которые опровергли бы обвинение в том, что его подзащитный действовал без приказа вышестоящих властей? Никто из них не согласился бы давать в суде подобные показания, да и отцу Фелетти или его сторонникам очень не понравились бы попытки Юсси разыскать и вызвать таких свидетелей. Словом, имея на подготовку дела меньше трех недель и не имея никакой возможности ни обсудить предстоящую защиту с отцом Фелетти, ни устроить перекрестный допрос свидетелям, опрошенным стороной обвинения, Юсси понимал, что полагаться ему придется лишь на свой незаурядный ораторский талант, отложив все свои доводы до заключительного выступления. Одно преимущество у него все-таки было: сторона обвинения будет выступать первой. Последнее слово оставалось за Юсси.
Согласно стандартному судебному порядку, сторону обвинения в суде представлял не судья-следователь, а прокурор – procuratore fiscale. Прокурором болонского суда в январе был назначен Радамисто Валентини. Процесс над Фелетти должен был стать его первым крупным делом.
Прокурор понимал: чтобы добиться обвинительного приговора, ему придется доказать, что инквизитор нарушил законы, действовавшие в то время, когда забирали Эдгардо. Обвинять его в совершении действий, противоречивших новому уголовному кодексу (который вообще не признавал особой роли инквизитора), было невозможно, так как это противоречило бы не только международным нормам, но и намерениям нового правительства, которое стремилось успокоить население Италии и заслужить благосклонность иностранных правительств.
Для обращения к суду Валентини избрал путь, который подсказал ему Карбони, и сосредоточился на двух основаниях для признания монаха-доминиканца виновным. Первый пункт обвинения заключался в том, что отец Фелетти действовал самочинно, велев схватить Эдгардо еще до получения указаний из Рима. Валентини привел ряд доводов, подкреплявших такое заявление. Джузеппе Агостини, которому предъявляли письмо с приказом отца Фелетти о проведении операции, не припоминал, чтобы там упоминались вышестоящие власти. И зачем полковнику де Доминичису понадобилось выкрадывать это письмо из полицейского архива, как только хлынула лавина международных протестов в связи с этим делом: ведь если приказ был отдан законным образом, о чем было беспокоиться? Если бы этот документ не пропал, то именно он защитил бы де Доминичиса и его подчиненных, оправдав их действия. Обратившись к заявлению инквизитора о том, что он получил одобрение из Рима заранее, поскольку директор Дома катехуменов уже ждал приезда мальчика, Валентини указал на один тонкий момент в показаниях Агостини. По словам конвоира Эдгардо, когда они с мальчиком приехали в Дом катехуменов, директор сказал, что ждал их, потому что отец Фелетти уже обо всем его уведомил. Хотя сам отец Фелетти утверждал, что никогда напрямую не связывался с директором и что того, должно быть, известила о скором прибытии Эдгардо Священная канцелярия в Риме, это доказывало, по мнению обвинителя, что инквизитор сам все устроил и обо всем договорился.
Валентини заявлял, что инквизитор солгал и о том, будто папа знал о приказе схватить мальчика: это доказывала другая его ложь – якобы папа прислал билеты родителям мальчика, чтобы они смогли приехать в Рим. Кроме того, если инквизитору действительно поступали приказы из Священной канцелярии, то почему же церковные власти не спешат прийти ему на помощь? “Почему они сейчас молчат и допускают, чтобы невинный человек томился из-за них в тюрьме, если он просто выполнял их распоряжения? […] Почему они не приумножают Божью славу торжеством истины, провозглашением его невиновности, почему не предают огласке факт, который на самом деле не обнаруживает ничего тайного?”
Валентини привел все убедительные доводы, говорившие о том, что монах действовал самочинно, однако Карбони, у которого была возможность хорошо узнать узника, сам мало верил в истинность такого обвинения. Он понимал, что за человек Фелетти. В некотором смысле – например, если вспомнить его отношение к евреям – бывшего инквизитора можно было счесть фанатиком (во всяком случае, с либеральных позиций), однако к своим служебным обязанностям он подходил серьезно, а деятельность Священной канцелярии подчинялась самой строгой иерархии. Казалось просто немыслимым, чтобы отец Фелетти пренебрег обязательными для его организации правилами и начал самостоятельное расследование, а потом, не посоветовавшись с начальством, приказал полиции схватить мальчика. А предположение о том, что после этого он отправил мальчика в Рим, тем самым предав огласке свои действия, казалось еще более диким. Отец Фелетти не был ни индивидуалистом-бунтарем, ни глупцом.
Сильной стороной обвинения было второе утверждение. Валентини сформулировал его так: “Давайте на мгновенье допустим, что инквизитор все-таки получил приказ о поимке мальчика Эдгардо Мортары от Священной конгрегации Священной канцелярии в Риме. Кто же в таком случае доложил туда о крещении, будто бы совершенном над мальчиком? […] Если Священная канцелярия в Риме еще до похищения была извещена о том, что мальчика Мортару крестили, то узнать об этом она могла только от самого отца-инквизитора Фелетти”. Этого утверждения бывший инквизитор никогда и не оспаривал.
Если кардиналы Священной канцелярии действительно приказали схватить Эдгардо, их решение могло основываться только на расследовании, проведенном инквизитором. Но каким образом, спрашивал прокурор, инквизитор установил, что Эдгардо в самом деле получил крещение? Отец Фелетти положился лишь на рассказ одной-единственной женщины, он не делал попыток опросить каких-либо свидетелей, которые помогли бы удостоверить правдивость ее слов или, по крайней мере, помогли бы ему понять, насколько вообще можно верить этой женщине. Ничего этого не было сделано, зато стараниями отца Фелетти “нежного маленького ребенка вырвали из рук любимых родителей на основании одной только клятвы какой-то женщины”. Валентини добавил: “И скоро мы узнаем, что это за женщина”.
Вот один из парадоксов, порожденных объединением Италии и падением папской власти в легациях: первый крупный процесс в новой итальянской области Эмилии (присоединившейся к новому королевству всего месяцем ранее) всерьез сосредоточился на диспуте о том, что можно считать настоящим крещением. И вопрос этот решался не столько на основании светских законов, сколько на верном истолковании церковного права. Валентини подробно остановился на рассказе Анны Моризи о крещении, утверждая, что она совершила его неправильно – если, конечно, она вообще его совершала. Значит, оно и не могло иметь силы. Например, она не произносила требуемых слов, одновременно разбрызгивая воду над головой мальчика. Если бы Священная канцелярия знала об этом, “то никогда бы не согласилась считать мальчика крещеным” и никогда бы не приказывала разлучить Эдгардо с родителями.
Здесь прокурор не удержался и поддался ораторскому порыву. Говоря о приблизительных представлениях неграмотной девушки о крещении, он сказал:
И стоило ли из-за такой глупости огорчать и печалить благороднейший город внезапным шумным и насильственным похищением ребенка силами стольких полицейских? Стоило ли ввергать мирное, почтенное, трудолюбивое семейство… в пучину слез и отчаяния, губить их здоровье и благосостояние? Стоило ли допускать, чтобы это странное, подлое, злобное похищение не сходило с уст и друзей, и врагов католической церкви по всей Европе и с ядовитых перьев журналистов в обоих полушариях?
Однако Валентини не желал признавать, что Анна Моризи совершила хотя бы тот ущербный обряд, который сама описала. Пока Эдгардо болел, родители ни на минуту не оставляли его без присмотра, а когда его болезнь достигла критической стадии, Анна и сама не вставала с постели. По ее словам, крещение произошло посреди зимы, однако в записях семейного врача имеется неопровержимое доказательство того, что ребенок болел в конце лета.
“Моризи, – говорил прокурор, – была в ту пору крестьянской девчонкой – глупой и неотесанной, да еще и болтуньей, по словам свидетелей […] Она не умела ухаживать за детьми, не знала даже, что такое панкотто [десерт]”. Коротко говоря, заключил Валентини, “она выросла в бедности и невежестве, а значит, в христианском учении ее никто не наставлял, да и сама она говорила, что не знала, как нужно крестить ребенка”.
Это подводило прокурора к показаниям важного свидетеля – Чезаре Лепори. Сама Анна признавала, что смогла крестить Эдгардо только благодаря советам Лепори. Однако Чезаре Лепори клятвенно отрицал, что когда-либо говорил с Анной о крещении. Больше того, он говорил то же самое другим свидетелям еще в 1858 году, когда у власти находилось папское правительство, так что дело здесь вовсе не в том, что он решил скрыть свой поступок теперь, после падения папского режима.
А что сказать о невежественной, глупой крестьянской девчонке, какой она была в 1852 году? Может быть, с годами она превратилась в зрелую женщину с сильным характером и ее достойное поведение заслуживает того, чтобы мы поверили в ее честность? “Оскверненная грязным дыханием и прикосновениями солдат-иностранцев, которые пятнали своим присутствием эти несчастные земли, она без стыда кувыркалась с ними в постели, а потом еще и похвалялась этим, демонстрируя порочность не только тела, но и души”. Без ведома хозяев она беспечно превращала их дома – и днем и ночью – в бордели и “дважды, еще до замужества, становилась матерью из-за блуда с этой солдатней”. Короче говоря, слово такой женщины не стоило ничего.
“Останется ли деяние отца-инквизитора Фелетти безнаказанным? – спрашивал прокурор. – Никто так не думает. Он уже подвергся осуждению со стороны общественного мнения, и не только в Болонье, не только в Италии и даже в Европе, а во всем цивилизованном мире”.
Но почему же инквизитор совершил такой поступок? Что заставило его поверить рассказу Анны Моризи, не проверив его истинность, или, хуже того, перейти к действиям, даже не поверив выдумкам бесстыжей служанки о внезапно напавшей на нее героической набожности? Прокурору казалось, что у него есть ответ на этот вопрос. Отцом Фелетти двигали “навязчивое рвение, маниакальная жажда славы и власти и, наконец, ненависть инквизитора к иудаизму”.
Собираясь заканчивать свое заключительное слово, Валентини призвал судей слушать голос совести, пожелал новому порядку восторжествовать над старым, новому светскому государству – победить старый режим. Нет среди людей ненависти более ужасной, сказал он, чем религиозная ненависть. “Частное лицо, которое ради удовлетворения своего каприза похитило бы ребенка… подлежало бы наказанию. Неужели мы согласимся поверить, что высокопоставленному чиновнику – лишь потому, что он внушает страх, потому что он инквизитор Священной канцелярии, потому что он может делать все втайне, потому что он не только может быть уверен в собственной безнаказанности, но даже рассчитывает на похвалу и вознаграждение, – что ему все должно сойти с рук?”
Прокурор заключил: за произвольно отданный приказ насильственно разлучить с семьей маленького мальчика Эдгардо Мортару, приведенный в исполнение в Болонье 24 июня 1858 года под предлогом якобы совершенного над ребенком крещения, и распоряжение отправить его в Рим, в Дом катехуменов, отец Пьер Гаэтано Фелетти обвиняется в нарушении действовавшего в то время свода законов. Он нарушил законы, направленные против чиновников, которые злоупотребляют своей властью, и “против тех, кто по собственному произволу арестовывает других людей и держит их в заточении”. Валентини просил суд о приговоре к трем годам общественных работ, возмещении судебных издержек и выплате ущерба, причиненного родителям Эдгардо.[325]325
Текст “Conclusioni fiscali” для суда над Фелетти был подготовлен в печатном виде, его можно найти в Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea di Roma как Misc. Risorg. с. 29. Кроме того, содержание запрашиваемого приговора можно восстановить из более позднего отчета самого Юсси в его Studi e ricordi, p. 219.
[Закрыть]
Теперь пришел черед велеречивого Франческо Юсси, который одиноко восседал за столом защиты. Он встал и обратился лицом к шести судьям в черных мантиях.
“Почтеннейшие судьи! – начал свою речь Юсси. – Кому не известно о том, что случилось в семье Мортара… о том, как у родителей отняли ребенка и как его потом увезли в Рим? Все это слишком широко известно, синьоры, и достаточно вспомнить о страданиях, о которых рассказывали слезы несчастной матери, чтобы без всяких слов понять эту историю”. И все же, добавил адвокат, человек, которого обвиняют в преступлении за то, что он совершил этот поступок, не нуждается в защите, ибо его невиновность демонстрируют простые факты.
В чем состоит преступление отца Фелетти? Он засвидетельствовал, что Священная конгрегация, узнав о крещении Эдгардо Мортары, приказала ему взять этого мальчика и отправить его в Рим, в Дом катехуменов. Еще инквизитор утверждал, что отправил соответствующий приказ подполковнику де Доминичису. “Разве у прокурора имеется доказательство, что это утверждение ложно?” Если прокурор не располагает копией того письма к де Доминичису, то в этом уж точно нет вины отца Фелетти. И нельзя было бы ожидать, что отец Фелетти предъявит ему письмо, полученное из Рима, так как инквизитор давал священный обет никому не раскрывать тайн, связанных с деятельностью Священной инквизиции.
И в любом случае, продолжал Юсси, факты говорят сами за себя. Отец Фелетти отправил мальчика в Рим, ни разу даже не увидев его лично. “На самом деле решение, конечно же, принимали епископы, входящие в состав Священной конгрегации, главой которой является сам папа римский”. В качестве дальнейшего доказательства Юсси ссылался на авторитет, которого не оспорил бы ни один из судей, – на маркиза Джоаккино Пеполи, одного из болонских лидеров движения за объединение Италии и родственника французского императора. Описывая дело Мортары, Пеполи написал: “Тем, кто обращался к Пию IX с просьбами об освобождении маленького Мортары, папа отвечал: «Non possumus» [ «Не можем»], и это было последнее слово, больше он ничего не мог предложить”. И Юсси аргументировал: “Раз его святейшество отвечал «Non possumus» тем, кто спрашивал его о мальчике, значит, он не мог не знать о приказе, который сам же и отдал или, в крайнем случае, будучи председателем Священной конгрегации, сам одобрил”.
Но если бы даже инквизитор действовал по собственному почину, спрашивал Юсси, то разве этот суд имел бы право судить его за это? “Являлся в ту пору отец Фелетти инквизитором Священной канцелярии или не являлся? Существовал тогда в Болонье такой трибунал или нет?” Действительно, добавлял Юсси, новое правительство двумя своими указами упразднило этот институт – декларацией, согласно которой всем гражданам гарантировалось равенство перед законом, а затем и постановлением Фарини, напрямую отменявшим суд инквизиции. “Но как можно обвинять чиновника в том, что он исполнял закон, который он обязан был исполнять, находясь в должности, еще имевшей законную силу?” Адвокат продолжал: “Новое правительство, приходя на смену старому, может отменять тот закон, который ему не нравится, но оно не вправе преследовать в судебном порядке выполнявших его людей единственно из ненависти к этому закону или к этой должности”.
Разделавшись таким образом с первым пунктом обвинения, Юсси обратился к обвинению отца Фелетти в том, что он плохо справился с возложенными на него обязанностями, а именно, будто он обманул Священную конгрегацию, сообщив ее членам, что установил факт действительного крещения, тогда как это было неправдой. В этом отношении, утверждал адвокат, церковный закон предельно ясен: судить о проведенной отцом-инквизитором Фелетти работе могут только Священная канцелярия и папа римский, а вовсе не светский суд вроде этого.
“Но предположим на минуту, что он взялся бы за это. Что доказал бы такой суд? Доказал бы он, что крещения вовсе не было? Или что оно было недействительным? Что оно не было совершено над умирающим? Напротив, синьоры, и я полагаю, что даже самого поверхностного и беглого знакомства с представленными суду записями показаний оказалось бы достаточно, чтобы убедить всех вас ровно в противоположном…”
“Я призываю в свидетели, – объявил Юсси, – евреев Падовани и де Анджелиса, которые, по их собственному рассказу, в конце июля 1858 года отправились в Персичето, чтобы встретиться с Моризи и узнать от нее самой о том, как все случилось”. Далее Юсси привел обширный кусок из показаний Анджело Падовани, вспоминавшего слезный рассказ Анны Моризи о том, как она крестила Эдгардо, и заключил свидетельством самого Падовани: “Ее слова, ее поведение и ее слезы, вначале мешавшие ей говорить, убедили меня в том, что она рассказала нам правду”.
В рассказе Анны, сказал Юсси, бесспорно, звучит правда. Ведь когда простая деревенская девушка ходила за покупками, что могло быть естественнее, чем ее желание посплетничать с лавочником о ее хозяевах? Да и бакалейщики, как известно, вечно пытаются разузнать побольше о том, что творится в домах соседей. Еще Юсси упомянул о выписке из полицейских протоколов, представленных суду, где Лепори назывался “близким другом” местного приходского священника, дона Пини – “иезуита, симпатизировавшего австрийцам”.[326]326
В действительности приходской священник, разумеется, не был иезуитом.
[Закрыть] Лепори явно был человеком, “который должен был очень хорошо знать, как крестят ребенка”. Юсси еще мог бы добавить (если бы знал об этом), что много лет одним из главных клиентов Лепори оставался монастырь Сан-Доменико – что само по себе было довольно удивительно, так как его лавка была далеко не ближайшей к монастырю.[327]327
ASB-CR. Здесь сохранилось несколько чеков от покупок в бакалейной лавке Лепори, относящихся к 1843 году.
[Закрыть]
Если же говорить о том, как инквизитор мог узнать о крещении, то найдется ли версия правдоподобнее, чем рассказ самой Анны Моризи о том, как она случайно встретила соседскую служанку и заговорила с ней о мальчике, который в ту пору умирал в семье Мортара? Или о том, как другая женщина, Реджина Буссолари, посоветовала ей крестить умирающего мальчика, а Анна отказалась и рассказала о том, что сделала пятью годами ранее, когда болел Эдгардо? Юсси попытался восстановить события: потом Реджина уходит – и “пересказывает этот разговор какой-то третьей женщине, та – четвертой и так далее, пока слух не доходит до инквизитора”. К тому же, отметил Юсси, сама Буссолари “состояла в дружеских отношениях со священниками, ее даже называли чрезмерно набожной женщиной и ханжой. Кроме того, комиссар полиции Мелони может рассказать о ней кое-что еще: он обвиняет ее в любовной связи с одним священником, который уже умер. Но, так как суд не располагает какими-либо иными данными, кроме слов комиссара, мы охотнее поверим синьоре Панкальди, которая под клятвой дала показания о том, что Буссолари – порядочная и очень религиозная женщина и что она часто (пожалуй, даже слишком часто) ходила в церковь”.
Но почему же тогда, спрашивал Юсси, и Лепори, и Буссолари опровергали рассказ Моризи? Ответ прост: оба боялись говорить правду. Они лгали, чтобы выгородить себя.
Поведение Лепори, утверждал Юсси, с самого начала говорило об этом. Сперва он обещал Момоло Мортаре, что подпишет заявление, где опровергнет рассказ Моризи, но потом отказался это делать. По какой же причине, спрашивал Юсси, Лепори отказался подписывать такое заявление, если оно было правдивым? Да и в позднейших показаниях Лепори не чувствуется правды. Неужели можно поверить, что он совсем не помнил девушку, которую в 1852 году Мортара посылали в его лавку чуть ли не каждый день?
Ну а Реджина Буссолари? Не подозрительно ли, что полиция с таким трудом разыскала ее?
Три месяца назад, как раз когда отца Фелетти посадили в тюрьму – какое странное совпадение! – она покинула свое бедное жилище в районе Сан-Лоренцо и переехала к племяннику, Джузеппе Росси, на виа Галлиера. Случайно ли это? Сделала ли она это из любви к родственнику? Или же из страха, что ее вызовут в суд как свидетельницу? Буссолари признает все обстоятельства, относящиеся к месту и времени того разговора [с Анной Моризи], и отрицает только ту часть, из-за которой ее могли бы привлечь к ответственности по закону.
Далее Юсси переключил внимание на саму Анну Моризи, потому что она явно была единственной свидетельницей крещения и отец Фелетти действовал, поверив ей на слово. Анна Моризи вела далеко не безупречную жизнь, признал Юсси. “Напротив, у нее было множество непозволительных любовных связей, она познала всяческие чувственные удовольствия. Но если мы откажемся верить всякому, кто пал жертвой человеческих слабостей, – спрашивал Юсси, – то кому же тогда вообще можно верить в этом мире?” Наверное, продолжал адвокат, у Моризи имелись и положительные качества, иначе супруги Мортара, вероятно, не захотели бы оплачивать ее расходы, когда та забеременела, и брать ее к себе обратно после того, как она родила и сдала ребенка в приют.
Что касается утверждения прокурора о том, что Эдгардо не грозила смерть в пору крещения, то, даже если это правда, это никоим образом не отменяет факта совершившегося крещения, а значит, инквизитор обязан был поступить так, как поступил. Да и насколько достоверно утверждение прокурора? Разве не явствует из записей доктора Сарагони, что за семь дней он посетил больного мальчика двенадцать раз?
Теперь Юсси готов был подвести итоги: отец Фелетти услышал о крещении Эдгардо, выслушал рассказ Анны – рассказ, который позднее выслушали и сочли убедительным евреи Падовани и де Анджелис. Что же сделал инквизитор? Он сделал лишь то, чего требовал от него служебный долг. “И это хотят назвать преступлением?” – спрашивал Юсси. Что же это за преступление? Сторона обвинения вначале “назвала его возмущением общественного спокойствия, затем – похищением, затем – насильственным разлучением и, наконец, злоупотреблением властью. Но все это не так, и это вовсе не было преступлением”. Он продолжал: “Это действие не было преступлением тогда, когда произошло, потому что не было закона, запрещавшего его. Наоборот, существовал закон, который требовал поступить именно так”.
Затем адвокат заговорил о своем многострадальном подзащитном.
Отец Фелетти не думал о себе, когда пришла пора готовиться к его защите, потому что не хотел подвергаться порицанию церкви и не желал нарушать клятвы, которые принес, вступая в должность. Проводя долгие часы в одиночестве, в мучительном тюремном заточении, в мертвой тишине, он не устает возносить славу творцу вселенной, чья благодать снизошла на этого маленького ребенка. Потому-то мальчик был так безмятежен, когда в доме появились полицейские и потом, когда он расставался с родителями. Это чудесное спокойствие… и, я бы сказал, явное удовольствие, которое он испытывал в поездке, подтверждает фельдфебель Агостини.
Когда, побуждаемый клятвой и служебным положением, отец Фелетти распорядился, чтобы ребенка забрали у родителей-иудеев и воспитали католиком, он всего лишь выполнил свой долг. Однако он сделал все возможное для того, чтобы разлука произошла как можно менее болезненно. Он поручил де Доминичису “отобрать самых человечных солдат из своего подразделения и объяснить им, что вести себя следует очень предупредительно, – и действительно, вся семья мальчика, даже его мать, подтвердили, что полицейские именно так себя и вели. А когда, – утверждал Юсси, – отец[328]328
Здесь Юсси немного запутался. В тот день свояка Марианны сопровождал не Момоло, а дядя Марианны.
[Закрыть] мальчика и его свояк отправились к инквизитору, чтобы попросить о небольшой отсрочке, тот приветствовал их добрыми словами и дал им еще сутки – если не на то, чтобы переубедить мать, то хотя бы на то, чтобы внезапная разлука с сыном оказалась для нее менее резкой и мучительной… На какие еще уступки, совместимые с его служебными обязанностями, – спрашивал Юсси, – мог бы пойти мой подзащитный?”
Юсси тщательно продумал заключительный образ, который он представит шестерым судьям, а также тем тысячам сторонников церкви, которые в скором времени будут читать речь адвоката. Это был образ мученика Божьего, вдохновляемого божественным светом, который пронизывал мальчика: “Внезапно настигнутый бедой, он послушался своей совести и не стал преступать клятву, которой связывала его должность. А потом мысленным взором он увидел благодать, которую Господь ниспослал Эдгардо, и, поглощенный мыслью об этом, решил предоставить себя судьбе, какую уготовало ему небо, и отказаться от всякой человеческой защиты, довольствуясь тем, что слезы его узрит один только Бог, а не люди”.[329]329
Francesco Jussi, Difesa del Padre Pier Gaetano Feletti (1860). Глава 22
[Закрыть]
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































