Текст книги "Похищение Эдгардо Мортары"
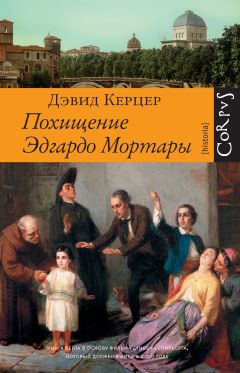
Автор книги: Дэвид Керцер
Жанр: Исторические приключения, Приключения
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Глава 5
Мезуза и крест – поездка Эдгардо в Рим
За те несколько столетий, на которые итальянских евреев заточили в гетто, они выработали особые каналы и механизмы для общения с органами государственной власти – нечто вроде еврейской дипломатической службы. Как правило, еврей обращался к представителям государства или к церковным властям не напрямую и не самостоятельно, а через представительства местной сплоченной еврейской общины, которые в лице своих официальных делегатов (исключительно мужчин) подавали петицию властям от имени любого из евреев, принадлежащего к этой общине.
В Болонье, где евреев было совсем мало и куда они вернулись лишь недавно, а главное, имели сомнительный легальный статус, у них вовсе не было никакой официальной организации. У них не было ни синагоги, ни собственного раввина, а потому их религиозным лидером считался раввин в Ченто – небольшом городке на полпути между Болоньей и Феррарой. В ту пору, когда папа Климент VIII изгнал евреев почти изо всей Папской области, этот город находился на земле герцогов д’Эсте, и потому там сохранилась маленькая еврейская община.
Из-за отсутствия официальной организации в Болонье дело Мортары взяла в свои руки группа влиятельных евреев, близких к этой семье. Это они первыми донесли тревожную новость до остальных еврейских общин Италии, они сообщали итальянским евреям о дальнейшем развитии событий, они бросили клич и организовали сбор средств, которые должны были пойти на кампанию по освобождению Эдгардо.
Итальянские евреи не раз сталкивались с подобными напастями и умели молниеносно распространять дурные известия. Брачные отношения, связывавшие еврейские семьи из разных гетто, перемещения семей из одного гетто в другое, искусное использование еврейских связей в торговых делах, помогавшее преодолевать устаревшие таможенные барьеры, и общая численность евреев, достигавшая на всем полуострове приблизительно 30 тысяч человек (чуть меньше населения небольшого города), – все это вместе помогло сложиться процветающей нелокализованной общине. Долгая история выживания во враждебном христианском государстве и запрет на установление связей с соседями-христианами заставили евреев крепко сплотиться против внешнего давления. Вдобавок их поддерживала вера в единство “народа книги” и в свою общность – во всяком случае, теоретическую – с евреями, рассеянными по всему свету.[51]51
То же самое в целом можно было сказать о европейских евреях до эмансипации евреев, см. Jacob Katz, Out of the Ghetto (1973).
[Закрыть]
Известие о беде, постигшей семью Мортара, быстро разошлось по старым еврейским гетто Италии, облетев Феррару, Анкону, Ченто и Рим, остававшиеся под папской властью, и Модену с Реджо-Эмилией (где продолжали жить многие из родни Момоло и Марианны) на территории герцогства Моденского. Новость быстро дошла до Флоренции и Ливорно – городов, находившихся под несколько более благосклонной властью Великого герцогства Тосканского, – и до Турина и других городов Сардинского королевства, где с недавних пор еврейские общины пользовались свободой наравне с прочими гражданами.
Итальянские евреи, которые жили на положении не слишком желанных гостей на землях, где по-прежнему действовала инквизиция, отнеслись к беде семьи Мортара как к своей собственной. Вкусив равноправия в годы французской оккупации и зная о недавней эмансипации своих собратьев в Пьемонте, Франции и Британии, они испытали не только страх, но и ярость, когда узнали о деле Мортары. Однако евреи, жившие в Папской области, не спешили во всеуслышание заявить о своем протесте, опасаясь навлечь на себя гнев правителей, – точно так, как много веков подряд вели себя все евреи, лишенные гражданских свобод. На Апеннинском полуострове публичные протесты ограничивались одним только Пьемонтом, потому что лишь там евреи получили основные конституционные права, да и то лишь десятью годами ранее. Но во Франции и Британии, не говоря уж о США, евреи имели все возможности вести политическую деятельность. Не менее важно было и появление относительно свободной прессы, адресованной массовому читателю: именно оно изменило к 1858 году динамику власти почти во всей Западной Европе. Частью этого движения стало и основание еврейских газет. Если некоторые из них, избрав торную тропу традиционной религиозной тематики, ограничивались обсуждением религиозных вопросов и оставались в ведении раввината, то другие издания, носившие светский характер, прокладывали совершенно новый путь. Вступая в широкую общественно-политическую полемику, они позволяли евреям обрести публичный голос, которого они до тех пор были лишены.[52]52
Об отношении евреев к своей эмансипации в XIX веке см. Andrew M. Canepa, “L’attegiamento degli ebrei italiani davanti alla loro seconda emancipazione: Premesse e analisi”, Rassegna mensile di Israel 43: 419–436, и “Emancipation and Jewish Response in Mid-Nineteenth-Century Italy”, European History Quarterly, № 16: 403–439.
[Закрыть]
Если случай Мортары сделался громким международным делом, то произошло это в значительной степени благодаря новообретенной способности евреев публично заявлять о своем недовольстве, а также быстро обмениваться сведениями и вступать во взаимодействие поверх государственных границ. Эмансипированным евреям пошла на пользу не только недавно предоставленная им свобода высказываний и свобода печати, но и возможность укрепить свое политическое влияние, так как идеи Просвещения, гласившие, что все граждане должны обладать основными правами, быстро набирали обороты. Европейские евреи давно уже ощущали себя единым народом, но в прошлом им было довольно трудно влиять на действия правительств собственных стран, а еще более безнадежным делом казались любые попытки заступиться за собратьев, живших в других странах. Но теперь еврейская солидарность приобретала совершенно новое измерение – политическое.
Уже через несколько дней после появления фельдфебеля Лючиди в доме Мортара по всей Италии были созваны срочные собрания руководителей еврейских общин. Отцы семейств рассказывали о похожих случаях, которые произошли в их общинах. Матери с возросшей тревогой смотрели на своих детей и с опаской – на прислугу.
В центральной синагоге Рима, в гетто на берегу Тибра, где с XVI века вела замкнутое существование старинная еврейская община (она насчитывала четыре тысячи человек и носила официальное название Università Israelitica), ее молодой секретарь Сабатино Скаццоккьо вскоре начал получать кипы писем от своих коллег со всех концов Италии с требованиями незамедлительно действовать. Одна такая просьба, датированная 7 июля 1858 года, пришла из Ливорно от синьора Алатри. Скаццоккьо хорошо знал этого человека, потому что тот состоял в родстве с одной из наиболее влиятельных семей в римском гетто.
“Я хочу довести до вашего сведения, – писал Алатри, – множество настойчивых просьб и советов, которые я получил от самых уважаемых людей – и из Флоренции, и отсюда. Они считают, что вы должны взять это дело в свои руки”. Далее он рассказывал римским лидерам, что именно следует делать, перечисляя восемь пунктов, которые должны фигурировать в петиции Ватикану: от напоминания церкви о верховенстве родительских прав на ребенка до требования раскрыть все факты, относящиеся к предполагаемому крещению.
Момоло узнал, писал далее Алатри, что каноническое право требует телесного наказания для всех, кто крестит еврейских детей без родительского разрешения. (Хотя это было правдой, он не упомянул о том, что очень трудно указать хотя бы на один случай, когда подобное наказание действительно применялось.) Момоло просил о том, чтобы этот закон был приведен в исполнение в его собственном случае, чтобы отбить у чрезмерно ревностных христиан охоту крестить еврейских детей в будущем. Далее Алатри докладывал, что кое-кто предлагает заручиться помощью иностранных правительств, однако лично он считает это не слишком удачной идеей. Лучше всего, если этим делом займутся римские евреи, как делалось уже не одно столетие.[53]53
Это и (если не оговорено иное) все письма еврейской общине Рима и от нее, цитируемые в этой книге, хранятся в ASCIR.
[Закрыть]
Через два дня после того, как было написано ливорнское письмо, семья Мортара направила секретарю римской еврейской общины собственное письмо. Писал его дядя Марианны Анджело Падовани, чьи дипломатические навыки произвели большое впечатление на фельдфебеля Лючиди. В первые же дни после похищения мальчика семья обратилась к Анджело, попросив его выступить посредником.
Зная о том, что Скаццоккьо уже известили о похищении, Падовани в письме из Болоньи не стал повторяться, а начал сразу с сообщения о том, какие именно попытки вернуть мальчика уже предпринимались. Так как семейное прошение, направленное болонскому инквизитору, было отвергнуто, писал он, вся надежда была теперь на Рим. Он продолжал:
Пока мы здесь занимались тем, что выискивали предписания в священных книгах, чтобы собрать материал для новой петиции, кое-кто посоветовал нам вместо этого обратиться в суд. Я уже говорил вам, что в городе возник большой шум [из-за похищения], и это отнюдь не преувеличение. Я знаю, что это событие стало (и остается) предметом ожесточенных дискуссий в верхах здешнего общества. А еще я узнал, что маркиза Дзампьери, прибывшая сюда в эту среду, сообщила, что об этом же все говорят в Риме и что это дело близко к сердцу принял [французский] генерал Гуайон, который к тому же сказал, что подобные вещи (поскольку тут затрагивается честь и слава церкви) заслуживают внимания министров иностранных держав, так как подобные гонения просто немыслимы в наше время.
Падовани спрашивал Скаццоккьо, будет ли лучше, по его мнению, если Момоло сам приедет в Рим. А так как Момоло отнюдь не богач, поспешно добавлял он, то нельзя ли в таком случае получить какую-либо поддержку от еврейской общины Рима? В заключение письма он спрашивал Скаццоккьо, можно ли успокоить обеспокоенных родителей, разузнав, все ли хорошо у Эдгардо, потому что мальчик уже несколько дней находится в Риме.
Неофициальный комитет болонских евреев занялся лихорадочными поисками советника, сведущего в каноническом праве: они надеялись сослаться на какой-нибудь закон, чтобы урегулировать свое дело и убедить папу римского освободить Эдгардо. Тем временем в римской синагоге тоже велись изыскания, и Скаццоккьо отослал болонскому комитету результаты предварительного исследования церковной доктрины, касавшейся крещения еврейских детей. Спустя две недели после отправки первого письма Падовани снова написал Скаццоккьо и доложил ему о своей растущей тревоге: как выяснилось, церковные законы отнюдь не благоприятствуют Момоло, а еще комитет обеспокоен молчанием государственного секретаря в ответ на жалобу Момоло.
Падовани писал и о том, что болонцы готовят Момоло к поездке в Рим, которая запланирована на конец июля. Чтобы возместить предстоящие ему расходы, они уже разослали всем еврейским общинам Италии письмо, призывавшее начать сбор пожертвований в поддержку дела Мортары. Кроме того, они все еще надеялись найти юрисконсульта (причем, по их мнению, лучшим вариантом был бы юрист-католик), который сопровождал бы Момоло и выступал бы его представителем в общении с папскими чиновниками. Однако они уже натолкнулись на непреодолимые трудности. В Болонье не нашлось никого, кто пожелал бы совершить эту поездку и представлять интересы евреев, а настоятельные просьбы к евреям в Анконе и Ферраре, Пезаро и Флоренции найти в этих городах такого человека тоже не увенчались успехом.
Скаццоккьо расстроило письмо из Болоньи. По его мнению, было бы лучше, если бы ему и его коллегам в Риме предоставили вести это дело по-своему, используя собственные каналы и собственные методы. Новость о том, что Момоло, возможно, приедет с собственным юрисконсультом – да к тому же христианином – и начнет самостоятельно обращаться к римским властям, глубоко встревожила его. Любой ценой следовало избегать всего, что может вызвать недовольство Ватикана, если там сочтут, что евреи не проявляют подобающего почтения к церкви, ведь от папского гнева пострадают в первую очередь римские евреи.
29 июля Скаццоккьо отправил в Болонью срочное письмо, в котором попытался убедить Момоло отложить поездку в Рим. В настоящий момент, писал он, нет неотложной необходимости в его личном присутствии здесь: дело “уже утратило свою первобытную девственность, случай разжалобить кого-нибудь видом родительского горя уже упущен, вряд ли можно надеяться на желаемый эффект”.
Внизу письма Скаццоккьо добавил тревожный постскриптум, рассказав о новости, которая в последние дни начала приобретать все большее значение. Сторонники церкви принялись распространять собственные рассказы о произошедшем событии. Согласно их версии, мальчик покидал родительский дом без протестов, напротив, он с большой радостью уехал в Рим в сопровождении полицейских. В постскриптуме Скаццоккьо говорилось: “Напишите мне немедленно, сегодня же, подробный отчет о том, как происходило похищение”. Он хотел в точности знать, какие слова произносил Эдгардо, когда его забирали.
Этот вопрос сделался настолько безотлагательным, что нетерпеливый Скаццоккьо отправил Падовани еще и телеграмму, несмотря на страх перед всевидящим глазом папской полиции. Оба корреспондента были крайне осмотрительны в выборе слов, стараясь по возможности зашифровать предмет своей переписки. В тот же день в Рим пришла ответная телеграмма Падовани: “Субъект молчал, судорожно рыдал, напуган. Вырван силой, рвался к родителям”.
Тем временем в Болонье, пока Момоло пытался уладить свои дела, связанные с торговлей, чтобы подготовиться к длительному (как ожидалось) пребыванию в Риме, выяснилось, благодаря исповеди Анны Моризи, важное обстоятельство, стоявшее за приказом инквизитора схватить Эдгардо. Сразу же после возвращения свояков Момоло из Сан-Джованни Анджело Падовани написал в Рим и пересказал услышанный ими рассказ бывшей служанки. На сей раз Падовани предпочел написать своему римскому родственнику Якобу Алатри, а не напрямую Скаццоккьо – отчасти потому, что ему не очень нравилось, как Скаццоккьо ведет это дело. По тону его письма от 30 июля можно понять, что родственники Эдгардо испытывали все большее раздражение.
Падовани сетовал, что ни он сам, ни его собратья в Болонье не понимают, почему Скаццоккьо отказывается подавать новые жалобы папским властям, хотя его об этом очень просили. А что касается всех материалов, относящихся к церковному праву, которые присылал им Скаццоккьо, то они совершенно бесполезны, поскольку никто из болонских евреев не владеет латынью и пока в Болонье не удалось найти ни одного адвоката, который взялся бы им помочь. Хотя они и разыскали двух знатоков канонического права, один из них, писал Падовани, безнадежно “погряз в суевериях”, а второй оказался другом инквизитора.
Затем он перешел к слезному признанию Анны Моризи, записанному рукой его племянника и приложенному к письму:
Излишне даже комментировать заявление этой женщины. Как видите, когда ей было всего 14 или 15 лет, она зачерпнула воды из ведра и разбрызгала ее над ребенком 12 или 14 месяцев от роду, который заболел какой-то обычной для младенцев и несмертельной болезнью (заключение врача мы прилагаем). Она не понимала важности того, что делает, а следовательно, ее действия могли не отвечать требованиям церкви. Она поступила так по совету (вероятно, шуточному) бакалейщика Лепори.
Понимая, что подлинность рассказа Моризи могут поставить под сомнение, так как он не заверен нотариусом и даже не подписан, Падовани предлагал предпринять попытку доставить молодую женщину в Рим, где она дала бы показания. Он заранее радовался возможности такой очной ставки и ее вероятного (как ему хотелось думать) результата: “Декрет об отмене приказа, возвращение сына к отцу и вдобавок – во имя самой церкви, в интересах общественной морали и ради всеобщего спокойствия – новый закон, направленный на порицание и наказание всякого, кто вот так исподтишка попытается красть детей у родителей”. В заключение письма он выразил надежду, что первым человеком, который предстанет перед судом по этому новому закону, станет “подстрекатель” Чезаре Лепори.
К тому времени, когда Момоло уехал в Рим, то есть к 31 июля, отношения между болонскими евреями и главами римского гетто уже сделались напряженными. Последнее письмо, полученное от Скаццоккьо, начиналось с такого замечания: “Я надеялся, что смогу сообщить вам уже сегодня некоторые сведения величайшей важности, однако теперь надеюсь сделать это в следующий понедельник”. В ответе болонцев сквозит явное раздражение: “Вы писали еще 27-го числа, что надеетесь в скором времени сообщить нам чрезвычайно важные сведения, что вселило в нас большую надежду, и мы стали с тревогой ожидать новостей, а теперь выясняется, что вы по-прежнему не можете ими с нами поделиться. Мы были бы очень благодарны, если бы вы сообщили нам, насколько это в ваших силах, о текущем состоянии дел и о предпринятых шагах”.
Момоло пустился в дорогу. По словам одного друга, он был подавлен и угнетен, его некогда безграничная энергия, похоже, иссякала.
Если римские евреи хотели взять все переговоры с папскими властями в свои руки и вести их по-своему, по накатанной колее, то болонские евреи выбрали более рискованный путь. В их письме, написанном в конце июля, предлагалась многосторонняя стратегия. Во-первых, приехав в Рим, за дело должен взяться сам Момоло. Во-вторых, авторы письма предлагали всем еврейским общинам Папской области объединить усилия и призвать папу римского к действиям, дабы “избавить тысячи самых мирных и законопослушных подданных его государства от такой тревоги, которая гораздо хуже, чем даже страх за собственную жизнь и сохранность имущества”. Но именно третий пункт изложенной программы привел болонских родственников и друзей Момоло к резкому конфликту со Скаццоккьо и его римскими коллегами, так как письмо призывало мобилизовать “наиболее известных и влиятельных евреев-иностранцев с тем, чтобы они привлекли на нашу сторону европейское общественное мнение и правительства разных стран”.
В тот же день, когда было написано это письмо, в римскую еврейскую общину было отправлено другое письмо. Прислал его Крещенцо Бонди – римский еврей, который оказался по делам в Сенигаллии, городе с населением в 24 тысячи человек на Адриатическом побережье Италии, на территории Папской области. Бонди рассказал о встрече, состоявшейся там днем раньше. Дело в том, что туда приехал Анджело Москато, зять Марианны, и увидеться с ним пришли представители всех крупнейших еврейских общин того района – из Анконы, Урбино, Пезаро и самой Сенигаллии. Москато коротко сообщил им о последних событиях и призвал присоединиться к кампании по сбору средств в пользу семьи Мортара. Зная о том, что к такой новости в Риме отнесутся с неодобрением, Бонди просил римских собратьев по-человечески понять своих болонских товарищей, которые испытывают отчаянную потребность действовать и потому организовали эту кампанию по сбору средств, “не проконсультировавшись сперва с вашей общиной, как это следовало им сделать”.
Еврейская община Рима по праву могла хвастаться званием самой древней общины во всей Европе, ведь евреи жили там непрерывно вот уже два тысячелетия. Ее местонахождение в самом центре столицы Папской области – по сути, в самом центре всего христианского мира – позволяло римским евреям гордиться своим особым положением перед другими евреями Италии. Однако это была привилегия из тех, за которые приходится расплачиваться. Римские евреи на собственной шкуре узнали, что такое могущество папы и власть церковной иерархии, и само их присутствие под самым носом у его святейшества оборачивалось тем, что они попадали под более жесткий надзор, чем евреи, жившие подальше.
У римских евреев были и собственные горькие воспоминания, которые заново разбередила новость из Болоньи. Самую жгучую боль вызывала история, которую рассказывали им родители и дедушки с бабушками, – о драматических событиях, случившихся вечером 9 декабря 1783 года, когда ворота гетто, уже запертые на ночь, неожиданно отворились вновь. В гетто въехала карета с многочисленным полицейским конвоем. Жители бросились надевать свои желтые шляпы, которые, согласно закону, они должны были носить не снимая, а экипаж катился по булыжным улицам, пока не остановился в центре гетто. Оттуда вышли два правительственных чиновника и потребовали, чтобы к ним явились раввины и другие руководители общины.
Когда удивленные раввины подошли к карете, причина визита сразу же выяснилась. Полиция искала двух сирот – одиннадцатилетнего мальчика и его семилетнюю сестру, которые жили с бабушкой. Власти собирались увезти их в Дом катехуменов и подготовить к крещению.
Задыхаясь от возмущения, еврейские лидеры потребовали объяснений, и тогда им рассказали, что произошло. Много лет назад двоюродная бабушка этих детей покинула гетто, приняла христианство и вышла замуж за католика. Теперь ее сын, приходившийся двоюродным братом отцу этих детей, был уже взрослым мужчиной. И вот он решил, что его давно утраченные родственники должны воспользоваться благами, какие полагаются обратившимся, и попросил представителей власти организовать их крещение.
Вооруженный полицейский конвой явился исполнить полученный приказ – найти детей и схватить их. К тому времени до родственников уже дошла новость о прибытии незваных гостей, и детей не могли отыскать.
Однако попытки спрятать их оказались напрасными. У полиции был и другой приказ: хватать всех детей подряд и держать их в заложниках, пока им не выдадут тех двух, за которыми они явились. И они захватили множество детей. Евреям не оставалось ничего другого, как вывести брата с сестрой из укрытия. Экипаж, увозивший растерянных детей, с грохотом покатился по булыжной мостовой обратно, и ворота вскоре с лязгом захлопнулись.
Но этим дело не кончилось. Когда начальник римской полиции услышал о дерзком сопротивлении евреев, он отправил в гетто вооруженный отряд, тот схватил 60 молодых евреев и, заковав их в цепи, бросил в тюрьму. Еврейской общине понадобилось целых четыре месяца, чтобы собрать выкуп, который требовали за их освобождение. Тем временем тех двух детей крестили, и они больше никогда не переступали порога гетто.[54]54
Cecil Roth, “The Forced Baptisms of 1783 in Rome and the Community of London”, Jewish Quarterly Review, 16 (1925—26): 105–110.
[Закрыть]
Подобные столкновения научили лидеров римского гетто крайне осторожно вести себя с представителями церкви, особенно когда затрагивались вопросы церковного учения. К тому же не все болезненные воспоминания были столь давними. Всего за девять лет до похищения Мортары, сразу после отвоевания Рима французскими войсками в 1849 году, евреев обвинили в том, что они якобы скупали священную утварь, украденную из римских церквей в предыдущем году, когда в городе творились бесчинства. Однажды вечером в гетто нагрянули солдаты, заперли всех евреев в их домах на трое суток и принялись обходить и обыскивать дом за домом, пытаясь найти расхищенное церковное добро. Не обнаружив ни одного предмета из тех, за которыми их послали, разозленные солдаты похватали золотую ритуальную утварь, принадлежавшую самим евреям, чтобы хоть как-то оправдать потраченные впустую силы и время.[55]55
Abraham Berliner, Storia degli ebrei di Roma (1992; оригинал на немецком, 1893), p. 302.
[Закрыть]
Несмотря на память о таких событиях, римские евреи испытывали к папе Пию IX благодарность за то, что он избавил их от ряда наиболее неприятных и унизительных требований, которые предъявлялись им из века в век. Вскоре после восшествия на папский престол он отменил так называемую predica coatta [ит. “принудительную проповедь”] – насчитывавшее уже много столетий правило, предписывавшее евреям являться в церковь на субботнюю проповедь, дабы священник мог, рассуждая о порочности иудаизма и радостях обращения в христианство, использовать их в качестве живой иллюстрации. А еще Пий IX, несмотря на активное недовольство римского плебса, приказал сломать ворота гетто.
И все-таки римские евреи продолжали жить почти исключительно в пределах старого гетто, и по-прежнему над ними тяготело множество запретов и ограничений. Из всех крупнейших еврейских общин Италии римская община оставалась самой бедной, и посетителей гетто пугали те условия жизни, которые они там видели. Испанский путешественник Эмилио Кастелар, сам неодобрительно относившийся к папскому правлению, оставил очень яркое (пусть несколько утрированное) описание тех картин, которые он застал в гетто в 1860-х годах. Для начала он решил дать представление об общем фоне. Он писал, что Рим, если не считать прекрасной площади Святого Петра, – “грязный город… На каждом углу валяются кучи мусора… Тибр – это просто открытая сточная канава, его болезненно-желтые воды выглядят в точности как блевотина с желчью пополам”.
Однако посреди всеобщего здешнего убожества, рассказывал Кастелар, римское гетто занимает совершенно особое место. Когда входишь туда, сразу же “ноги утопают в мягкой подстилке из испражнений, похожих на свиной или гиппопотамий навоз. Всюду копошатся полуголые дети, покрытые струпьями грязи, будто гангренозными язвами проказы. Кое-где изможденные старики с морщинистой, желтушной кожей, седыми космами, стеклянными глазами и зловещими усмешками стоят, как часовые, у дверей своих домов, а сами эти дома больше напоминают крысиные норы. И из каждого такого логова на улицу вырывается едкая вонь”.[56]56
Emilio Castelar, Ricordi d’Italia (1873), p. 96.
[Закрыть] Защитники церкви отметали как злостную антицерковную пропаганду все подобные жалобы на то, что римские евреи живут в чудовищных условиях и что виновата в этом церковь. В типичной апологии, появившейся в 1860-х годах, один биограф Пия IX даже доказывал, что во всем мире нет ни одного места, где бы евреи страдали меньше, чем в Риме. А после того как добрый папа открыл ворота гетто, писал он, евреи продолжают жить там до сих пор в силу одной-единственной причины – “их собственного изгнаннического и затворнического духа”. Далее апологет говорил: “Если в прошлом гетто было грязным и отвратительным, если даже сегодня оно остается нездоровой средой, то в этом уж точно нет ни малейшей вины папы”. И в этом, и во многих других подобных рассказах церковные отцы изображались настоящими благодетелями, которые оказали евреям великую милость, поместив их в гетто, ибо только так можно было оградить их от народного гнева. “Евреи жили в Риме мирно и счастливо, а их жизнь, их имущество, их вера находились под надежной защитой”.[57]57
Andrée Dufault, Vie anecdotique de Pie IX (1869), p. 129.
[Закрыть]
Приверженцы церкви и евреи смотрели на жизнь со столь разных позиций, что видели абсолютно разные миры, а потому вечно находились на грани столкновения. Везде, где затрагивались вопросы церковного вероучения и где заходила речь о его основном постулате – о превосходстве христианства над всеми иными религиями и о божественной благодати, лежащей на всех крещеных, возникали условия для противостояния, победить в котором евреи, в силу исторических причин, просто не могли.
В случае Мортары столкновение двух этих реальностей привело к возникновению двух диаметрально противоположных версий этой истории. Еврейская версия, которой придерживались не только сами евреи, но и другие противники мирской власти римской церкви, рассказывала о том, как любящую семью погубил религиозный фанатизм папского режима. В этом варианте истории папская полиция вырывала несчастного маленького мальчика из рук отца, не властного ему помочь, и, невзирая на душераздирающие мольбы ребенка вернуть его родителям, увозила его навстречу неизвестной судьбе. Хотя главную роль в этой истории играет сам мальчик, его родителям отводится роль не меньшая, потому что они – главные жертвы в этой драме.
Когда первые протесты в связи с делом Мортары начали выходить за пределы гетто, защитники церкви поспешили опровергнуть рассказ о похищенном насильно ребенке и его убитых горем родителях, подавая всю эту историю под совершенно иным углом. В версии церкви родителям отводилась лишь второстепенная роль. В фокусе внимания находился один Эдгардо. Здесь не осталось и следа классической истории похищения, когда вооруженные до зубов коварные незнакомцы врываются ночью в дом и отнимают дитя у любящих родителей. Нет, это была трогательная история спасения, вдохновляющий рассказ о чудесном избавлении мальчика, который дотоле был обречен на жизнь во мраке заблуждений, а потому и на грядущее вечное проклятье. И вот наконец-то мальчика вырвали из тисков зла, одарили радостями вечного счастья и уготовали ему место не где-нибудь, а возле самого святого и достопочтенного в мире духовного предводителя – самого папы римского.
Однако если Эдгардо действительно сподобился того чуда, которым бывает отмечено крещение, то ему должно было сопутствовать какое-нибудь знамение. В конце концов, все это происходило в 1858 году – том самом году, когда в Лурде впервые произошло явление святой Марии. Господь наверняка дал бы понять, что доволен.
Когда Скаццоккьо просил в июле семью Мортара прислать подобный рассказ о том, как вел себя Эдгардо, когда его уводили, причиной его просьбы стали первые распространенные церковью рассказы о том, будто бы Господь и вправду послал особое знаменье, да такое необычное, что это граничило с чудом. Слухи гласили, что сверхъестественные изменения произошли с мальчиком уже по пути в Рим, а сама эта поездка очень быстро обрастала мифическими подробностями, превращаясь в некое аллегорическое странствие от заблуждения к просвещению. Ребенок уехал из Болоньи иудеем, а уже через несколько дней прибыл в Рим благочестивым католиком.
Хотя до Скаццоккьо подобные толки доходили еще в июле, первые письменные рассказы о “чуде” в католической прессе появились только осенью. В длинной статье, которую напечатала газета L’osservatore bolognese, основанная архиепископом Вьяле-Прела для защиты веры в полемике с либералами, особенное внимание уделялось чудесному преображению мальчика по дороге в Рим. Статья начиналась с рассказа о том, как Эдгардо забирали из дома. “Можем заверить читателей, – писала газета, – что, когда выполнялся приказ, полученный из Рима, не применялось никакого насилия. Все делалось очень деликатно, исключительно при помощи убеждения”. Правда, вначале, когда родители только услышали, что у них хотят забрать Эдгардо, они огорчились, но в итоге отец убедил жену отпустить сына, и Эдгардо сам “вошел в карету, которая его поджидала, и держался спокойно и безмятежно”.
Газета взволнованно раскрывала “трогательные подробности”, которые будто бы наблюдали очевидцы во время поездки в Рим. Две набожные женщины, сопровождавшие мальчика, дали ему почитать молитвенник. “Он принялся читать молитвы с большим удовольствием и каждый раз, когда заходил разговор о христианской религии, слушал очень внимательно. Он часто задавал вопросы о тех или иных сторонах нашей веры и выказывал такой интерес к ней, что можно было не сомневаться: ему чрезвычайно важно было узнать правду о нашей святой вере”. Но это еще не все. “Всякий раз, когда карета останавливалась в каком-нибудь городе, он первым делом просил отвести его в церковь, а входя туда, оставался там долгое время и выказывал величайшее почтение и самое трогательное благочестие”.[58]58
L’osservatore bolognese, 29 октября 1858, с. 3.
[Закрыть]









































