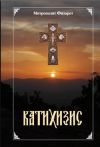Текст книги "Самоуничижение Христа. Метафоры и метонимии в русской культуре и литературе. Том 1. Риторика христологии"

Автор книги: Дирк Уффельманн
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 23 (всего у книги 27 страниц)
Если парадокс является единственной адекватной фигурой стиля для мышления, которое понимает истину всегда как соединение противоречий, тогда фрагмент – это единственная адекватная форма выражения для такого произведения, важнейшая идея которого заключается в том утверждении, что человек есть существо парадоксальное: одновременно великое и мелкое, сильное и слабое.
[Goldmann 1955: 220]
В литературном плане апофатическое внушение более высокого посредством перечеркивания менее ценного выступает прежде всего в стратегиях пропуска, неясной обрисовки (см. 6.7.3) и умолчания. Великие молчальники у Достоевского именно благодаря недостаточной конкретизации обретают нимбы святых[708]708
Молчание применяется, чтобы ex negative заявить о суверенитете, будь то Бог в «Великой импровизации» (Wielka Improwizacja) Мицкевича (1832) или Христос в «Легенде о Великом Инквизиторе» из романа Достоевского «Братья Карамазовы», см. [Мацейна 1999: 349–358].
[Закрыть]. Обобщим наоборот: все чрезмерно позитивное с литературной точки зрения легче поддается выражению, если его не выражать. Та же суть наоборот: недостаток дискурса должен ех negative порождать святость.
Так, апофатика может определить себя всегда практически только через зачеркивание конкретной характеризации, ср. [Hansen-Love 1987: 44]; убирается одна деталь, чтобы она как «трамплин для фантазии» [Dallenbach 1984: 15] внушала необъятную величину предполагаемого целого. Однако, как только невозможность позитивной репрезентации (Божественного) эксплицитно постулируется, последовательной апофатики быть уже не может. Настаивание на несказанности само по себе еще не представляет собой негативного обозначения, а является позитивным обозначением негативного. Адекватное оформление придает отрицанию только одно средство – перформативное умолкание.
Несказанность может быть создана окольными путями и безо всякого уточнения: концентрация на низменном, на плохом, чудовищно расписанном средствами человеческого языка, «катафатика ничто» и «негативная катафатика» [Hansen-Love 1997: 188, выделено в ориг.] могут нести убежденность в том, что там должно быть нечто другое. Самый яркий пример – это барочный топик vanitas vanitatum («все суета»). При этом речь идет о риторике диалектической апострофы – об обращении к низменному, которое одновременно становится отторжением от него (в прямом смысле слова «άπο-στροφή»).
Тем же эффектом отторжения от дурного земного путем обращения к нему может обладать форма изображения, которая – на уровне знаков – представляется намеренно неумелой, плохой и/или избитой. Это та самая эстетика, которая характеризует прежде всего неопримитивизм рубежа веков и в ходе утверждения которой заново открыто было эстетическое качество православных икон (см. 4.6.7.3). И они казались особенно ценными в том случае, даже могли казаться святыми, если отличались ветхим состоянием и их художественная ценность была сомнительной (см. 4.6.7.2). Аналогичным образом опыт социального падения, как, например, бездомность, обездоленность и алкоголизм, выступают в качестве внушения катафатически плохого в обратном смысле, как сверхположительного (9).
В конце XX века – причем именно в русистике – апофатика мыслится неотделимой от кенозиса. Наиболее причудливым образом фигуры апофатики с фигурами кенозиса в историческом авангарде соединяет Эпштейн в своем определении элементов религиозной репрезентации:
Авангард – это юродствующее искусство, сознательно идущее на унижение, на уродование своего эстетического лика… смысл авангарда как религиозного отрицания искусства средствами самого искусства. <…> Самоуничижение искусства – это акт религиозный, придающий самому искусству новые, парадоксальные, свойства антиискусства [Эпштейн 1989: 223, выделено в ориг.].
Эпштейн отчетливо возводит все это к кенозису Христа в качестве праформы антиэстетического скандала:
По сути, скандалом… было поведение Христа: тот, кто объявлял себя Сыном Божьим, явился в облике нищего странника и водил дружбу с мытарями, рыбаками, блудницами. Сам феномен юродства основан на этом изначальном парадоксе христианской религиозности, и искусство авангарда вновь возрождает во всей остроте кризисное переживание эстетических, моральных ценностей, которые отбрасываются перед Сверхценностью чего-то нелепого, немыслимого [там же].
Здесь отсутствует необходимое отграничение супрематистской апофатики от футуристико-виталистического снижения, которое сам Эпштейн намечает, но не формулирует: «Авангард тяготеет подчас и к отрицательным формам выражения: косноязычию, зауми, а в пределе – к молчанию, к освобождению от знаковости» [там же: 224][709]709
В своем «учебнике» «Слово и молчание» Эпштейн еще раз расширяет простирающийся через эпохи этот жест объятия, доводя его до состояния, когда апофатика возводится вообще в ранг основного жеста русской культуры [Эпштейн 2006: 519].
[Закрыть]. Молчание и запинки – это ни в коем случае не одно и то же. Однако Эпштейн прекрасно видит, что радикальная апофатика представляет собой пограничную ценность, которая постоянно требует компромисса; полностью негативное обозначение не работает: «Образ стирает в себе черты образа. Бесплотное должно явить себя во плоти – распятой и уязвленной» [Эпштейн 1989: 225]. Логический разрыв между двумя фразами не случаен. В первой Эпштейн описывает, как рушится апофатическая репрезентация, во второй пунктирно обозначает, как удается кенотическая репрезентация, опирающаяся на несходство, на обезображивание.
Однако последнее есть сфера не радикального иконоборческого исторического авангарда, а сфера концептуализма, которую Эпштейн квалифицирует слишком глобально как «направление современного авангарда» [Эпштейн 1989: 227], подводя его под мнимое понятие «всеобщего авангарда»[710]710
Каким бы метким ни было разграничение различных ступеней авангардного искусства и каким бы продуктивным ни было его замыкание на теологические концепции обозначения, все равно импорт ересиологического балласта был бы здесь ошибочным. Это созвучно мнению Эпштейна, когда он, ссылаясь на Аверинцева, утверждает, что апофатика поначалу несла на себе родимое пятно ереси монофизитства [Эпштейн 19996:350 и сл.] и находилась в непростых отношениях с теологией репрезентации [там же: 353], к которой, собственно, относится и кенозис.
[Закрыть]. Концептуалистская автоматизация чужих приемов [Эпштейн 1989: 228] и банализация вещей [там же: 230] осуществляет амбивалентный жест сохранения и преодоления [Эпштейн 1989:233][711]711
См. об этом далее в главе о Сорокине 10.9.1.
[Закрыть]; он базируется на воспроизведении и глумлении, на повторении под эгидой несходства. «Белый квадрат» Малевича, напротив, – есть тотальное отрицание, апофатическая сигнификация через не-сигнифика-цию (см. 4.6.7.3). Нужно более точное разграничение, чем то, которого достиг Эпштейн.
В отличие от Эпштейна Ханзена-Лёве и Голлер меньше интересует дефиниция эпох в духе апофатики и в большей степени – типология различных видов невоплощенного говорения. Оге А. Ханзен-Лёве ведет дискуссию по поводу возможности переноса понятийной пары «апофатический»/«катафатический» на различные подвиды поэтики модерна, авангарда и постмодерна [Hansen-Love 1991; Hansen-Love 1993; Hansen-Love 1994; Hansen-Love 1997; Hansen-Love 2002]. При этом он подробно останавливается на основополагающей проблеме метафорического скачка, который поневоле вынужден лишать апофатику как предикат – ее объекта, теологии [Hansen-Love 1991:168; Hansen-Love 1994:313 прим. 11], чтобы, как в случае с Малевичем, достигнуть «чистой формы воздействия» [Hansen-Love 2002:162]. Голлер говорит о «секуляризированной версии сакральных языковых отношений» [Goller 2003: 67].
Ханзен-Лёве различает не только разные типы катафатики (см. 3.5.7), но и отличает конвенциональную, негативно-теологическую апофатику, которая оперирует «пустой речью» [Hansen-Love 1991: 168], от «радикальной апофатики или иконоклазма» [там же: 171, выделено в ориг.]. Голлер, со своей стороны, подхватывает в своей работе – кружащей вокруг умолкания [Goller 2003: 44], «сродного» с апофатикой – ссылку, уточненную Ханзеном-Лёве, на отрицание и сдвиг в усвоении апофатики Деррида, и описывает спектр того, что может считаться апофатическим, с помощью триады «постоянно отодвигающего, перевертывающего, искажающего движения» [Goller 2003: 43] – за которым скрываются временная, логико-контрадикторная и логико-контрарная концепции. В то время как темпорализация и апозиопетическая апофатика принадлежат другому регистру, контрарное отрицание («искажение») должно и дальше представлять интерес, ведь после удаления отрицания все же остается несоизмеримый остаток.
Несказанность, инсценированная с помощью апозиопезиса, если ей доводится что-либо высказывать о Христе, в той же мере недостаточна, как и грубое испытание скудного земного «рабского начала». Христианская догма воплощения требует вдвое больше – одновременно апофатики возвышенного и катафатики ничтожного[712]712
В смысле поссибилизма Эпштейна также есть нечто третье между банальной катафатикой и радикальной апофатикой [Эпштейн 2001:263 и сл.]. Впрочем, это третье – для целей данной работы – в меньшей степени следует усматривать в возможном, нежели в несходном.
[Закрыть].
Лютеровское представление о кенозисе как об обозначении «Deus absconditus» [скрытого Бога] по отношению к этой реабилитации несхожести еще слишком близко к изображению через абсолютно несходное, через контрадикторную противоположность: «Necesse est enim opus Dei abscondi et non intelligi tunc, quando fit. Non autem absconditur aliter quam sub contraria specie nostri conceptus seu cogitationis»[713]713
«Деяния Господа именно и должны по необходимости быть скрыты и не познаваемы, когда они свершаются. Но они скрыты не иначе как исходя из обратной перспективы нашей способности восприятия и нашего мышления» [Luther WA 56,376,31-377,1, выделено Д. У]. Ср. также связь кенозиса и креста у Лёвениха, согласно которой лютеровская «theologia crucis [означает] косвенное познание Бога; deus absconditus – это Бог, сущность и деяния которого могут быть постижимы только sub contraria specie» [Loewenich 1954:25].
[Закрыть]. Однако выделение «contraria species» – это метод апофатики, тогда как кенозис представляет собой логически менее радикальное, контрарное отрицание[714]714
Попытку дифференциации различных видов отрицания в типологии божественных речей Псевдо-Дионисия Ареопагита предпринимает Земмельрот [Semmelroth 1950: 224] в своем переводе De Divinis Nominibus VII, 1 [PG 3,865B]: «…σύνηθές έστι τοις θεολόγοις, άντιπεπονθότως έπι Θεού τά τής στερήσεως άποφάσκειν». Земмельрот: «…Святым Отцам-писателям свойственно совершать высказывания лишения (^контрадикторные обороты, негативная теология) о Боге в противоположном смысле (=через контрарное противоречие)» [Semmelroth 1950: 224].
[Закрыть]. А изображается не через А, а через В, которое в равной мере причастно как к А, так и к А.
Тот же упрек можно отнести и к тезису Эпштейна о «бедной» репрезентации в том его виде, в каком он видит его реализацию в постсоветской «минимальной религии» [Epstein 1999а: 164]. «Минимальная религия», по мнению Эпштейна, не обязательно должна осуществляться полностью негативно и может оборачиваться просто пустыми местами [Epstein 19996: 385]. Так или иначе, Эпштейн смешивает с «минимальным» и «бедным» апофатико-негативную и несхожую репрезентацию, определяя исторический авангард и концептуалистский поставангард в равной степени через апофатический жест анти-искусства [Эпштейн 1989]. Если форма сигнификации «обращается к Богу в бедности Его проявления» [Epstein 1999а: 165, выделено в ориг.], то привязка к кенозису напрашивается в качестве образного становления Божественного. «Бедность» явления может парадоксальным образом действовать в таком случае как свидетельство величия Божия. В христологии апофатика тем самым подходит к своим границам:
Поскольку апофатическое богословие все еще остается христианским богословием, оно не может отрицать положительное проявление Бога в образе Его Сына, посланного во плоти и крови для искупления грехов человеческих [Epstein 19996: 353].
Таким образом, граница апофатики именуется кенозисом. Апофатическая сигнификация граничит с некоей кенотической формой изображения, которую еще предстоит описать[715]715
При этом кенозис и апофатика далеко не всегда идут рука об руку (как показано в 9.7.9).
[Закрыть].
Семантика сигнификациирег negationem в каждом случае сама по себе парадоксальна; она образует – по словам Эпштейна – «апофатический парадокс познания Бога через отсутствие познания Его» [Epstein 19996:350]. Однако парадокс, порождающий негативную сигнификацию, – другой, чем христологические парадоксы. Если, например, Григорий Нисский прибегает к речи о тайне и «несказанном» («άφραστον» [PG 45,1164С]), то эти священные стенания замещают для него христологический парадокс, см. [Henry Р. 1957: 82]. Таким образом, апофатика вступает здесь в конкуренцию с породнившимся с кенозисом парадоксом (ср. 9.7.9). В пользу конкурентных отношений кенозиса и апофатики говорят также монофизитские корни апофатики, поскольку монофизитство пытается снимать христологические парадоксы, делая главный акцент на божественной природе[716]716
См. 2.7.4.2. В этом отношении Эпштейн [Эпштейн 19996: 350] ссылается на Аверинцева. Опираясь на функцию подтверждения правильности апофатика действует по аналогии с парадоксом: она перечеркивает земные компетенции – речь, познание, – чтобы противоходом воздвигнуть другое, высшее. Религия – это столь же (среди прочего) эффект установки на не-сказанность, сколько она стабилизируется и габитуализируется негативными практиками репрезентации.
[Закрыть].
Ни апофатическая, ни катафатическая, ни даже символическая речь Дионисия Ареопагита о не-воплощенном, сокровенном, потустороннем божественном не являются к христологии полностью применимыми; воплощение божественного Слова в образе раба не представляет собой ни позитивного наименования Божьего, ни умолкания и не понимается как просто символический «образ Господа». Поскольку кенотическая христология исходит из Слова и прогрессирует до «образа раба», ей еще, скорее всего, по пути с катафатикой в ее следовании дорогой дедуктивного познания[717]717
Ср. [Theill-Wunder 1970: 162]. Семантическая связь, идущая от кенозиса к катафазису (нисхождение; см. [Hart 1989:175]), является для этого, впрочем, скорее слабым, второстепенным аргументом.
[Закрыть], но не с позитивным именем Господа, а с несхожим образом Господним.
Кенотической сигнификации необходимо сделать еще один шаг вперед и выдержать несоизмеримость, которую хочет преодолеть определенная разновидность апофатики, – с помощью умолкания[718]718
Эпштейн превращает разграничение между апофатикой и кенозисом в одном пункте даже во взаимоисключающие отношения: «Формулировки Псевдо-Дионисия… растворяют самое ядро [ядро позитивной религии, христианства], человечность Христа, его “сыновство”, его существование во времени и обладание речью. Потенциально они граничат с атеизмом. <…> Отрицание положительных атрибутов Бога, явившегося во плоти и продолжающего питать верующих своей плотью, уже является атеизмом.» [Эпштейн 19996: 354 и сл., выделено в ориг.].
[Закрыть]. Намеренное применение несообразности (будь то в качестве катафатики плохого, или же плохой катафатики), является, таким образом, – и здесь нам Эпштейну есть что возразить [Epstein 1999b: 368] – не апофатической, а кенотической сигнификацией. Имеет смысл обозначить христологический кенозис и риторический тапейнозис с точки зрения теории литературы как наброски запрограммированно нечистого и косвенно-несходного, ср. [Onasch 1976: 195 и сл.], произнесения несказанного (несказанного, которое апофатика хочет сохранить в чистом виде, чего она может добиться только умолканием).
Тем самым кенозис находится в более близком родстве с «искажающей» (Голлер) апофатикой, нежели с апозиопетической. Знаменательно, что Дионисий Ареопагит сам заносит вопрос о кенозисе Христа – «πώς ό ύπερούσιος ’Ιησούς άνθρωποφυϊκαϊς άληθείαις ούσιωται»[719]719
«…почему пресущественный Иусус восуществляется естественными для человека истинами» [PG ЗДОЗЗА; рус. пер.: Дионисий 2002: 751].
[Закрыть] – в список явлений катафатики[720]720
Ср. [Hochstaffl 1976:133 и сл.]; о христологии Псевдо-Дионисия см. [Hausam-mann 2004: 111–117].
[Закрыть]. Тем самым кенотическая сигнификация являет собой сначала катафатическую операцию, за которой в обязательном порядке последует апофатическая корректура. «Но эти черты [указывающие на Бога] всегда несут на себе отпечаток несходства символа и поэтому должны быть исправлены отрицанием» [Semmelroth 1950: 222 и сл.]. Это происходит с помощью того, что говорящий катафатико-кенотическим образом по-прежнему осознает несказанность как несоразмерность и выставляет эту несоизмеримость напоказ[721]721
С этим выводом эстетики несхожести из фигуры кенозиса не должны утверждаться никакие взаимно-однозначные отношения; хотя инкарнационная логика кенозиса генерирует несхожие отношения отображения или ведет к их обоснованию, тем не менее существуют также и эстетики несхожести, которые обходятся без кенозиса; но это – например, исламская эстетика несхожести – не является темой данной работы.
[Закрыть].
Такая саморефлексирующая несоразмерность находится, таким образом, между via negationis (через отрицание) негативной и via affirmationis (через утверждение) позитивной теологии; в то время как мышление, скажем, с помощью analogia ends (бытийная аналогия)[722]722
Фигура analogia entis находится в конкурентных отношениях с христологическими парадоксами, которые как раз-таки подчеркивают пропасть между человеком и Богом, а связь между ними передает конкретизации реципиента парадоксов, или communicatio idiomatum [взаимное сообщение свойств], в то время как онтологическое представление аналогии – при всей полноте признания заключенного в ней несходства [Stertenbrink 1971: 79] – выдвигает сходство на передний план.
[Закрыть] тяготеет к преодолению пропасти между земным Внизу и божественным Наверху к возвышающимся сравнениям («ύπεροχή» соотв. via eminentiae или excellentiae[723]723
См. Дионисий Ареопагит [PG 3,589ВС и 646В] и Фома Аквинский [S.th. I q. 13 art. 1]; ср. [Semmelroth 1950: 222 и сл.].
[Закрыть]), кенозис представляет собой сравнение, влекущее вниз. Скоплению «υπέρ» в речи о Боге [Semmelroth 1950: 217 и сл.] кенотический тип изображения противопоставляет массированное употребление предлога и префикса «ύπό-» (ср., напр., 2.6.1.1 и 2.9.4.4). Божественное парадоксальным образом делается неуловимо-уловимым, путем снижения его статуса: via degradations или via humiliations. Отношения между земным означающим и божественным означаемым в таком случае могут быть задуманы как целенаправленно хромающая метафора или как бледный след (метонимия), как это предпочитает Левинас[724]724
Впрочем, без кенотико-христологической увязки: «Бог, который ушел, не является прообразом, отображением которого был бы образ. Быть по образу Божьему не означает быть иконой Господа, но – находиться в его следе» [Levinas 1963: 623].
[Закрыть]. Однако альтернатива не является дизъюнктивной, потому что между метафорой и метонимией имеется tertium — несхожесть.
…Человеком было осознано и стало достоверностью единство божественной и человеческой природы, было осознано, что инобытие, или, как это еще называют, конечность, слабость, ветхость человеческой природы не является несовместимой с этим единством, подобно тому как в вечной идее инобытие не наносит никакого ущерба единству, каковое есть Бог.
[Гегель 1975–1977, 2:279]
Иисус Христос в строках апостола Павла в (Флп 2:6 и 7) описан в двух схожестях, которые исключают одна другую, однако эндоксализированы в качестве парадокса (см. 2.10.4): Христос должен быть сущностно подобен Богу Отцу (А ~ В), его человеческий облик – опять-таки подобен человеку (А ~ С), притом что человек и Бог Отец между собой принципиально несхожи (А # С). Но если эти две схожести, приписываемые А, противоречат одна другой, то несхожесть поневоле должна занять свое место в самом Иисусе Христе, мыслимом как парадокс.
Но могут ли при такой несхожести между природами вообще существовать отношения отображения? Не связаны ли схожесть и образ между собою так тесно, что задача уз схожести подрывает референциальность образа? Намек на это содержится уже в этимологии греческих корней, точнее: в спектре значений встречающихся в патристике слов: «όμοιότη» – от «образ, слепок» до «подобие, схожесть» [Lampe 1961: 955] и «ομοίωμα», ср. (Флп 2:7), как «подобие, образ» [там же: 956]. Схожесть как sine qua non отношений изображенности отчетливо отстаивает Ириней Лионский, а именно со ссылкой на «imago» [образ] «Unigenitus» [Единорожденного], под которым Ириней в отличие от оппонирующих ему гностиков, говорящих о демиурге, понимает Воплотившегося:
Non enim possibile est, cum sint utrique spiritualiter, neque plasmati neque compositi, in quibusdam quidem similitudinem servasse, in quibusdam vero depravasse imaginem similitudinis, quae in hoc sit emissa ut sit secundum similitudinem eius quae sursum est emissio. Quod si non est similis, Salvatoris erit incu-satio, qui dissimilem emisit imaginem, quasi reprobabilis artifex. <…> Si igitur dissimilis est imago, malus est Artifex…[725]725
«Ибо невозможно, чтобы когда они оба [Единорожденный и Демиург] были произведены духовным образом, а не образованы или составлены, в одном удержалось подобие, а в другом утратился образ подобия, который для того и был произведен, чтобы быть сходным с образом горнего произведения. И если он не сходен, то вина падет на Спасителя, Который произвел, подобно негодному художнику, несхожий образ… Если же поэтому образ несходен, то плох художник…» [Adv. haer. II 7, 2; рус. пер. Н. И. Сагарды: Ириней 2008: 128 и сл.].
[Закрыть]
Постулат схожести действует, следовательно, и за пределами онтологической пропасти, каковой является пропасть между Богом и человеком:
Typus enim et imago secundum materiam et secundum substan – tiam aliquotiens a veritate diversus est; secundum autem habitum et liniamentum debet servare similitudinem, et similiter osten-dere per praesentia ilia quae non sunt praesentia[726]726
«Ибо образ и тип могут быть не сходны с истиною (ими знаменуемой) относительно материи и субстанции, но по форме и виду должны иметь сходство с нею и посредством настоящего представлять то, чего нет на виду…» [Adv. haer. II 23, 1; рус. пер. Н. И. Сагарды: Ириней 2008: 179].
[Закрыть].
Бычков показывает, что – начиная с Иринея – постулат схожести остается основополагающим для дальнейшей византийской и русской концепции образа [Byckov 2001: 106–117] – скажем, для Никифора Константинопольского [там же: 231–234], а также и для Зиновия Отенского [там же: 289 и сл.]. Исторические свидетельства допускают то, на чем делает акцент Диди-Юберман: «На первый взгляд, у несхожего скорее оттенок чего-то дьявольского» [Didi-Huberman 1990: 51].
Так что онтологическая пропасть – это латентная проблема, но поборники христологии forma Dei (см. 3.1.3) чувствовали себя тем самым, скорее, дополнительно побужденными аргументировать категориями образа. К тому же для христологической выразительной формы парадокса и в еще большей степени для communicatio idiomatum (общение свойств), в том виде, в каком ее основательно применяет новохалкидонская, а позднее также и лютеранская христология (см. 2.8.5), знание о несхожести свойств божественной и человеческой природы Христа является основополагающим; ведь вся привлекательность этой фигуры как раз и состоит в том, чтобы одной из этих природ приписать нечто ей не свойственное (как Богу – смертность), нечто такое, что не схоже с нею, исходя из внешнего «оформления» (как Богу – жалкий облик «раба», младенца или же истязаемого распятого). Следовательно, эстетика схожести не обладает ни панхронией, ни всеобщей увязанностью с конкретной эпохой[727]727
Против панхронии нормы схожести говорит то, что, согласно труду Фуко «Слова и вещи» (Les mots et les choses), эпистема схожести действует начиная с эпохи Ренессанса [Foucault 1966: 81 и сл.], а против увязанности с конкретной эпохой – сформулированная у Лютера в его communicationes idiomatum «эстетика несхожести» (см. 2.10.2). А может быть, дело обстоит и ровно наоборот: христологическая эстетика несхожести функционирует в европейской религиозной истории стабильнее, чем эпистема схожести, и оказывается долговечнее, чем смена эстетических парадигм, как та, которую утверждает Лотман, говоря об «эстетике тождества» и «эстетике противопоставления» между средневековым искусством, фольклором и классицизмом, с одной стороны, и барокко, романтизмом и реализмом, с другой [Лотман 1968:197].
[Закрыть].
Если в духе genus majestaticum (см. 2.8.5.4) Хемница человеческой природе Христа приписывать свойства божественной природы (такие, как всесилие) – не порождает ли это неизбежным образом комический эффект, потому что в понимании классической теории комического речь может идти о случае сниживающего комизма [Greiner 1992: 97 и сл.]? Не вторгаются ли комическое и карнавал в серьезный религиозный мир, от которого они отталкиваются с помощью механизма унижения? Не становится ли тем самым карнавал – всесильным? И не напоминает ли сведение божественного Слова к истечениям из бедра Иисуса после тычка копьем (см. 2.7.1.2) прорыва всего антропологического в карнавале вниз, до живота, половых органов и т. п.[728]728
Ср., напр., [Бахтин 1972: 28 и сл.]; см. также 9.3.2.2. Возможно, эту контаминацию скорее следует расположить противоположным образом, поскольку и для Бахтина в карнавале возвышение = унижению, ср. [Lock 1991: 74 и сл.], а через принижение возвышенного оценивается низменное – что по структуре сродни обожению человека и его физической природы [Ugolnik 1984: 289]; [Lock 1991: 72].
[Закрыть]? Почему все христианство в целом не производит впечатления пародии, как цитаты из габитусных моделей у Ивана Грозного (см. 5.4.1.4 и 5.5.3.4) или шутовские ритуалы Петра Первого[729]729
В особенности – учрежденное в начале его царствования питейное собрание «Всешутейший, всепьянейший и сумасброднейший собор».
[Закрыть]?
Все дело прежде всего в дозировании и инструментализации потенциального комического эффекта. Как отчетливо показывает Анзельм Штайгер [Steiger 1996: 27], в увлечении Лютера communicatio idiomatum присутствует доля юмора (см. 2.10.2), которая в отношении Христа оказывается утверждающей, а не ниспровергающей. Онаш в своих книгах утверждает, что даже в русских православных иконах может содержаться нечто юмористическое (см. 4.6.3.1). Ответ на вопрос о вероятности комического и не-ко-мического восприятия следует тем самым искать в прагматике: конечно, инкарнационное нисхождение Слова до «образа раба» может быть истолковано как комизм (так поступает Цельс; см. 2.7.2.5); из-за канонизации этой фигуры и ее усиления с помощью репрессивных мер, таких как наложение социального запрета через отлучение от Церкви или казнь после суда инквизиции, христианское ниспровержение – в отличие от представляемого как противоположный мир ниспровержения во время карнавала – в культурной истории христианства в подавляющем большинстве случаев рассматривалось не как комизм и разрушение, а как возможность спасения и как высшее (парадоксальное) утверждение божественного.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.