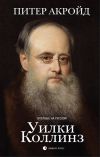Текст книги "Биографический метод в социологии"

Автор книги: Елена Рождественская
Жанр: Социология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 29 страниц)
Возражения и открытые вопросы. Ф. Шютце предполагает, что полученный с помощью нарративного интервью материал обеспечивает доступ к изменившейся с течением жизни биографической идентичности, а текст рассказа свободен от влияния метода замера и от теоретических предпочтений. Тем не менее этот подход не лишен критики, и она может быть сформулирована по следующим основаниям:
ситуация интервью;
как рассматриваются и конструируются сами рассказчики;
как соотносятся сознание и действительность;
как соотносятся рассказ и жизнь.
1. Ситуация интервью, которая может оказывать влияние на рассказ, игнорируется Ф. Шютце, как и факт, что влияние интервью должно быть измерено. Ф. Шютце также предполагает, что актуальная ситуация, как и ситуация интервью, имеет исключительно поверхностное влияние на рассказывающего и его рассказ. И при спонтанных рассказах о лично пережитых действиях рассказчик вовлекается в поток собственных опытов таким образом, что возникает и господствует гомология между потоком опыта и потоком актуального рассказа. Влияние этой гомологии обусловлено властью трехкратного цугцванга, который выступает как обоснование для осуществления гомологии пережитого и рассказанного. Вопрос лишь в том, почему при этих цугцвангах должна идти речь об особенностях наррации и почему эта форма речи должна отделяться и испытывать столь малое влияние со стороны ситуации интервью?
Если рассказ о действиях (пережитых или нет) со стороны рассказчика преследует цель быть понятым, тогда ближе предположение, что цугцванги сводимы точнее к таким внешним/экстернальным факторам, а именно к ситуации интервью и влияющим на нее правилам интеракции, от которых Ф. Шютце хочет освободить нарративную речь. Цугцванги были бы знаками языковой коммуникации, отсылающими к действиям. Но в этом случае разрушилось бы обоснование вывода от актуального потока рассказа к тогдашнему потоку переживания.
При цугцвангах речь идет, скорее, об экстернальных по отношению к тексту факторах, которые просто могут опускаться в тексте. Но вопрос тогда в следующем: о каких структурах, которые Ф. Шютце идентифицирует как поток пережитого и классифицирует как процессуальные структуры, идет речь?
2. Как рассматриваются сами рассказчики? Ф. Шютце понимает автобиографические рассказы как процесс переживания, запускаемого вновь, и его аутентичного/подлинного воспроизводства [Schuetze, 1987, S. 38]. Субъект прошел через различные события и состояния и прожил соответствующую внутреннюю реальность. В нарративной речи трехкратный цугцванг оказывает влияние на вновь переживаемое таким образом, что рассказчик передает пережитое в форме рассказанного времени. При этом прием гомологии имплицитно действует так, что автобиографическое рассказывание понимается и исследуется как прямое отражение истории жизни. Термин «носитель биографии» это ясно выражает. Так, «носитель биографии» всегда «носит» с собой свою биографию, которая может быть вызвана в процессе спонтанного рассказа и сформирована цугцвангами. Пребывая в этой модели, люди «имеют» биографию, которую они воспроизводят по заказу в форме автобиографических спонтанных рассказов. Тем самым мы наталкиваемся на парадокс такого исследования, которое требует принять во внимание социальную действительность, исходя из перспективы субъекта, и обращаться к опытам историй жизни субъекта. Чтобы реализовать это притязание – реконструкции опытов истории жизни и идентификации «биографического развертывания потенциалов креативности и самоидентичности» [Schuetze, 1981, S. 70], – рассказчики должны быть концептуализированы определенным образом. Для этого необходимо стилизовать их как плоских производителей собственной жизни, которые становятся марионетками собственной субъективности. Автобиографический процесс понимается вследствие этого не как творческий и конструктивный процесс, в рамках которого предпринимается самоконструирование с переформулированием, упорядочением и интерпретацией прожитых опытов и установлением новых связей между ними, так что возникает биография, указывающая или несущая определенный смысл. Мы здесь не находим таких рассказчиков, которые в процессе рассказывания изобретают свою биографию и ведут конструктивистскую работу по поиску смысла своей истории жизни, выносимого в рассказе на основе опытов и переживаний, а также социальной позиции в социальном пространстве.
3. К отношению сознания и действительности. Ф. Шютце формулирует предпосылку, согласно которой социальные процессы развития и изменения биографической идентичности могут быть эксплицированы зеркально на основе текстов рассказа. Это предполагает, что могут быть вспомнены все процессы, которые были релевантны для идентичности носителя биографии в процессе жизненного пути; это снова предполагает их точность в сознании и равно имеет условием, что могут быть рассказаны все важные для идентичности события и факты. Здесь речь идет как о проблематике памяти и селекции, так и о проблематике отражаемой в языке и «не-языке» реальности. Ф. Шютце поверхностно тематизирует проговоренные пункты, если вообще принимает их во внимание. Он просто исходит из того, что рассказчики такие действия облекают в нарративную форму, которая обладает значимостью для их биографической идентичности и ее изменения на жизненном пути, и приписывает значимость для идентификации исключительно языковым способам отражаемой действительности. Все подобные практики, которые не входят в языковой дискурс и все же релевантны для идентичности, опускаются. Какое значение имеют эти практики, остается неясным. Миметические процессы, которые не являются предметом усилий сознания, но могут быть релевантными для идентификации, не учитываются. Социальные явления, которые презентируются в символическом порядке и не опосредованы языком, исключены из этой модели. Упомянутые моменты, не получившие развития, указывают на границы этой нарративной модели, тем не менее невероятно популярной. Возникают вопросы: какого рода идентичность вообще измеряется с помощью нарративного интервью, претендующего на проговаривание всех релевантных для идентичности сюжетов, и где лежат возможности и границы подхода, который бы мог отображать идентичность?
4. Как соотносятся рассказ и жизнь в этой модели? Этот вопрос нацелен на реконструкцию отношения между нарративной речью и прожитой жизнью и тем самым на основополагающий прием «гомологии актуального потока рассказа потоку тогдашних опытов в течение жизни» [Schuetze, 1984, S. 78]. Этот прием обусловливает, что в нарративной речи опосредованно через отображение пережитых действий достигается передача пережитого в рассказываемое время, поэтому возможно идентифицировать структуры пережитого, которые мыслятся гомологичными структурам рассказа. Если быть точными, то это теоретическое фундирование цугцвангов автобиографического рассказывания, предпринятого Ф. Шютце. В предпосылке модели уже выведены различение внутреннего и внешнего мира и сплетаемая с ними конструкция субъекта. Эта первая предпосылка упоминает, что имеется внутренний мир субъекта. Вторая предпосылка, прием гомологии, соотносится с темпоральным воспроизводством развития этого внутреннего мира на основе рассказов и имеет предпосылкой первую. С приемом гомологии поднимается и падает такая архитектура модели, которая претендует на возможность измерить процесс внутреннего течения жизни субъекта и тем самым идентифицировать ее процессуальные структуры.
Социологи, которые используют подход Ф. Шютце, упоминают в своей критике о неточностях и недоразумениях. Так, В. Фишер-Розенталь пишет, что текстуальная оформленность, сформированность социального мира – недоразумение, «если она идентифицируется с дуалистичной схемой отображения или гомологии текста действительности» [Fischer-Rosenthal, 1991, S. 87]. Но объяснение, откуда возникает это недоразумение и как его ограничить, отсутствует. Г. Розенталь также критикует принцип гомологии: «Шютцевские анализы показывают корреспонденцию структур рассказа со структурами пережитого, структур наслоения опыта с таковыми по построению рассказа, что ни в коем случае не имплицирует гомологии рассказанного и пережитого» [Rosenthal, 1995, S. 17]. Тем самым проблема не решена, а отодвинута. Неясным остается, как должны быть связаны структуры рассказа со структурами пережитого и как отношение между темпоральным наслоением опыта и построением рассказа соотносится с современной ситуацией рассказа. Г. Розенталь выражает сомнение, но не объясняет. Таким образом, положение о том, что из текста можно заключать о жизни, является центральным критическим пунктом этой модели. В немецкой нарративистике критиковали эту модель еще Х. Буде и У. Герхардт в 80-х годах, затем, в 90-х, – Р. Кокемор, Х.С. Коллер, А. Нассеи, О. Зилл. При этом «эпистемологическое закорачивание» вывода о том, что из рассказа можно заключать о жизни, выводит на свет связанное с этим отсутствующее различение между биографией и жизненным путем [Nassehi, 1994]. То, что в жизненных историях всегда идет речь о процессах конструирования, так же критикуется, как и прием рассмотрения с точки зрения современной перспективы рассказа [Koller, Kokemohr, 1995, S. 95]. Также и цугцванги вызывали критику как особенность нарративной речи и обоснование принципа гомологии. «Каждый автобиографический текст, нарративное интервью, равно как и «Поэзия и правда» Гете, характеризуется как языковое опосредование пережитой реальности через элементарные нарративные принципы организации, с помощью которых жизненные опыты могут быть превращены в рассказы» [Sill, 1995, S. 33]. Принцип гомологии, который назван в качестве второй основной предпосылки модели и призван обосновать возможность обнаружения аутентичного внутреннего мира субъекта и обеспечения исследователю взгляда во внутренний мир рассказчика, обрастает разнообразными неточностями и эпистемологическими сомнениями. Это требует прояснения.
С анализом нарративного интервью связано представление о тех структурах, которые лежат за рассказом и идентифицируются как процессуальные структуры жизненного пути, описывают взлеты и падения в пережитом. Это, скорее, похоже на веру, чем на обоснование. В то же время все упомянутые возражения относятся к фундаментальной предпосылке о конструкции внутреннего мира субъекта, которая позволяет концептуализировать внутреннюю действительность, отличать ее от внешнего мира и соотносить ее с такими феноменами, как субъективность, идентичность и принцип интенциональности.
Следующие открытые вопросы связаны с судейской функцией исследователя, который судит о том, «не следует ли носитель биографии иллюзорному жизненному представлению» [Schuetze, 1981, S. 131], о терапевтической функции нарративного интервью [Schuetze, 1983, S. 292–293], об имплицитном приеме концепта линеарного времени, а также об отсутствующей тематизации социальных неравенств [Фукс-Хайнритц, 1984] и об их возможном влиянии на нарративную речь. При работе с этой моделью легко возникает опасность безнадежно увязнуть в лабиринте вопросов теоретико-языкового, субъект-теоретического характера. Несмотря на это, важно подчеркнуть, что различение внутреннего и внешнего мира субъекта с его идентичностью, субъективностью является важной предпосылкой. Если игнорировать все упомянутые против модели Ф. Шютце возражения, то можно констатировать, что без внутреннего мира цугцванги не могут выполнить свою функцию – генерировать освобожденное от настоящего внутреннее переживание. Без этого внутреннего мира нет субъективности, которую можно осуществить во внешнем мире.
Процессуальные структуры как модель потоков жизненной истории.
Ф. Шютце стремится развить процессуальную модель жизненного пути в целом. При этом он придерживается мнения, что кристаллизируемые принципы (когнитивные фигуры) наслоения опыта в жизненной истории обнаруживаемы не только в анализируемых им историях, но и в культурах и обществах [Schuetze, 1984, S. 116].
Он это не доказал, но можно задаться вопросом: как эти процессуальные структуры создаются и какое понимание субъекта они транслируют? Ф. Шютце хочет понимать под процессуальными структурами «основополагающие способы действия в отличие от событий в жизненной истории» [Schuetze, 1984, S. 92]. Он различает четыре элементарных вида этих структур, которые в различных образах и доминантности присутствуют в каждой истории жизни. Они соответственно подчинены внутреннему и внешнему миру.
Начнем с внутреннего мира. Здесь имеются биографические процессы изменения (1), вследствие которых изменяется идентичность субъекта и открываются новые возможности для действия. Далее имеется «биографическая схема действий» (2), с помощью которой можно отразить течения в изображаемой истории жизни и свести их к интенциональному действию и собственным биографическим попыткам.
Внешний мир репрезентируется институциональными образцами протекания (3), которые основываются на социальных институциональных данных жизненного пути (детсад, школа, образование, профкарьера) и частью на жизненных кривых (4). С помощью процессуальной структуры последних Ф. Шютце пытается ввести в модель внешние события, которые толкают носителя биографии к тому, чтобы следовать своей схеме действий и реализовывать ее.
Преимущество и пользу этих четырех категорий Ф. Шютце видит для такого социологического биографического исследования, которое нацелено на субъективную реальность членов общества, но концентрируется все же на биографически релевантных феноменах социального действия и обусловленных действием изменениях идентичности [Schuetze, 1984, S. 88]. Ф. Шютце утверждает, что можно определить секвенции событий в жизни, которые не могут быть обозначены в терминах социального действия.
С помощью процессуальных структур в его модели можно проводить различие между внешним социальным развитием и такими событиями, которые произведены субъектом. Отсюда следует вывод: биографическая идентичность сводима как к собственной активности субъекта, так и к внешним факторам. Дуализм внутреннего и внешнего, возникающий в автобиографических рассказах в форме самоописаний, повторяется в процессуальных структурах и через них воспроизводится. Остается неясным, как возникает субъективность, какую роль играют социальные отношения, когда различные индивиды приобретают различные субъективности.
Итак, критические замечания к концепции Ф. Шютце обнаруживают необходимость методологического пересмотра посылки гомологии пережитого рассказанному как открывающей путь к онтологизации событийного ряда биографии. Как говорилось выше (глава 2), нам близка позиция деонтологизации, в рамках которой событие рассматривается как герменевтический конструкт, выстраиваемый рассказчиком в нарративе на основе сырых данных опыта или воображения и превращаемый в вербальные структуры с целью оречевления и осмысления опыта. Речь не идет о гомологии и сближении рассказа с реферируемой реальностью («как это все было»), для анализа продуцируемой здесь нарративной идентичности – частичной, неполной – биография, скорее, рассматривается как медиум самопрезентации, в котором она, с одной стороны, работает как хронологический лейтмотив, а с другой – создает «нарративную среду рефлексии» через отсылки ко времени, действию, событиям. Так, собственная личность может быть изображена в исторически развертываемом действии-событии-переживании. Эффект осмысления актуально развертываемой идентичности рассказчика достигается им в ситуации интервью «здесь и теперь». Как продукт нарративного интервью нарративная идентичность возникает в процессе рассказа в форме самообоснования и придания смысла. Она обосновывается через рефлексивное обращение к собственной личности, нарративное упорядочение собственных опытов и соотнесение со слушателем/интервьюером как социальной инстанцией ратификации. Таким образом, интервью становится методом воспроизведения частичных идентичности и субъективности рассказчика, в котором автобиографическое изображение идентичности связано с перформативным и интерактивным ее производством. Проблема дуализма внутреннего и внешнего снимается за счет отказа от претензий на полноту отражаемого и вербализуемого внутреннего мира рассказчика, а центр тяжести смещается на проблематику соотношения индивидуального и жанрового нарративов как языковых фреймов, диктующих/предписывающих формы рассказывания и презентации событий, в которых заключены социальные действия.
§ 3. Г. Розенталь и ее версия биографическо-нарративного интервью
В данном параграфе мы представим иную версию биографическо-нарративного интервью, которая была выработана с учетом критики методологической позиции Ф. Шютце, правда, концептуальные новшества коснулись в основном схемы самого интервьюирования и оценивания. Эпистемологические вопросы остаются за скобками. Г. Розенталь многие годы возглавляла частный научно-исследовательский институт Quatest, предлагавший различные формы качественных исследований вплоть до психоаналитических услуг. Это обстоятельство, безусловно, сказалось на исследовательском акценте: тщательная герменевтическая работа с текстом и внимание к конверсационным структурам. Мы процессуально рассмотрим ту схему интервьюирования анализа биорафических данных, которую применяет Г. Розенталь [Rosenthal, 1995].
Итак, в задачи биографическо-нарративного интервью входит стимулирование респондентов на рассказы о своем жизненном опыте и предоставление им свободы в выборе тем и сюжетов рассказывания. Коммуникация в процессе нарративного интервью сходна с коммуникацией в повседневности: с одной стороны, обеспечивается понимание, с другой – поддерживается и развивается структура разговора. Требование рассказывать о собственных опытах апеллирует к определенному типу действий – рассказыванию, которое знакомо каждому социализированному члену общества. Таким образом, нарративное интервью обращается к действиям, компетентность которых ограничена повседневностью, чтобы сделать их целью социально-психологического анализа. При этом рассказ – как разновидность ретроспективного пересмотра опыта – выходит на первое место. Методическую проблему здесь представляет заказ интервьюера/исследователя респонденту рассказывать о своей жизни под углом определенной тематической перспективы, что ставит особенно высокие требования к «ретроспективной компетенции». Последняя понимается как способность к образованию смысловых связей и их мысленному взвешиванию, к изображению мотивов и намерений, их оценке и оправданию, здесь Г. Розенталь солидаризируется с Ф. Шютце. Тем не менее из этого не вытекает, что рассказчики могли бы предлагать любые версии своих жизненных историй. Несмотря на то что рассказы о жизни создаются в процессе интеракции между рассказчиком и слушателем, селекция рассказанных жизненных историй не происходит произвольно и в малой степени зависит от ситуации. В большей степени имеет место селекция рассказов на основе актуального общебиографического конструкта. Эта позиция Г. Розенталь свидетельствует о значительном пересмотре шютцевских взглядов и о введении в теоретическую модель актуальной Я-концепции. «Собственная жизненная история создается с ретроспективной оглядкой на общую структуру, зависящую от определенного образа «настоящего» [FischerRosenthal, 1995b]. При этом, как правило, высвечиваются возможные, но нереализованные в прошлом альтернативы поступков, а одновременно происходившие события выстраиваются в последовательность рассказа.
Необходимость селекции вызывает вопрос: что рассказчики считают ценным для рассказывания или каким должен быть качественный рассказ? По мнению У. Квастхоф, необходимое условие рассказывания – необычность происходившего [Quasthoff, 1980]. Аналогично, кстати, полагает и М. Бургос [Бургос, 1992]. Но что это означает в плоскости жизненной истории, о которой идет речь в биографическом интервью? Это означает, считает Г. Розенталь, прежде всего то, что повседневная рутина в рассказ не попадает. В большей степени рассказывают – с помощью таких типичных для рассказов средств сценическо-драматического изображения, как прямая речь, оценочные и экспрессивные языковые формы, – кульминационные или поворотные моменты в цепи событий, благодаря которым изменилась прежняя система значений и толкований. События, которые лежат между этими кульминационными ситуациями, опускаются.
Биографическо-нарративное интервью, по версии Г. Розенталь, содержит в основном две фазы: основной автобиографический рассказ и фазу нарративных расспросов, уточняющих обстоятельства как внутри, так и вне рассказа. Значимо опускается третья фаза, по Шютце, – предложение рассказчику сформулировать абстрагирующее представление о собственной жизни.
Основной автобиографический рассказ
В начале интервью потенциальные рассказчики мотивируются к рассказыванию вводными предложениями или вопросами. Вводное предложение или вопрос тематически ограничивает рассказчика, однако они не должны препятствовать свободе его наррации. Тема, заявленная во вводном предложении, должна оказывать стимулирующее или генерирующее рассказ воздействие, т. е. затрагивать важные аспекты жизнеописания, «рассказывать о том ценном, для чего не жаль прикладывать усилия», словами Ф. Шютце. Формулирование вводных предложений должно носить непроблематичный характер, чтобы не вызывать чувства стыда или смущения, тормозящих процесс рассказывания.
По мере развертывания биографического рассказа партнеры по интеракции прилагают усилия по поддержанию и развитию реципрокной (взаимодополняющей) интеракции. Так, например, рассказчики сворачивают рассказ, содержательно его обедняют, если интерес и потребности слушателей понижаются, и, напротив, наррация обогащается, если слушатель демонстрирует свой интерес и способность к эмпатии. Это осуществляется в первую очередь паралингвистическими средствами (мимика, жесты, междометия, симметричное расположение тела, отзеркаливание и т. д.). Во время интервью рекомендуется сидеть не фронтально, а несколько под углом, что дает респонденту выбор смотреть не только на партнера по разговору.
Фаза нарративных распросов
Во время основного рассказа интервьюер внимательно слушает. Как только рассказчик сигнализирует об окончании основного автобиографического рассказа (например: «Ну, вот, пожалуй, и все»), начинается вторая фаза нарративного интервью, во время которой заполняются информационные лакуны, делаются уточнения, еще раз проговариваются неясные для слушателя моменты. Это фокусирование на отдельных темах через уточняющие вопросы должно направить рассказчика в новое русло рассказа и спровоцировать дальнейшее рассказывание. Этой цели не достигают прямые вопросы о личном мнении или установках (например, вопрос «почему?»), поскольку провоцируют аргументацию и легитимации. Расспрашивания должны следовать приблизительно такой форме: «Вы говорили о первой встрече со своим мужем. Не могли бы вы еще раз вспомнить ту ситуацию и рассказать немного подробнее?».
В биографическом интервью предлагается ориентировать уточняющие вопросы на хронологию предыдущего рассказа. При таком подходе существует шанс, что опрошенный получит еще раз мотивацию к более углубленному рассказыванию об определенных периодах жизни. Часто в этой ситуации получают дополнительное освещение события, о которых в начале рассказа было лишь заявлено. Разумеется, не все исключения и неясности основного рассказа могут быть прояснены, выбор уточняющих вопросов диктуется темой исследования.
Г. Розенталь предлагает следующую типологию основных нарративных вопросов:
Обращение к определенному периоду в жизни: «Не могли бы вы подробнее рассказать о том времени, что провели в доме ваших приемных родителей?».
Обращение к теме, упомянутой в рассказе: «Вы говорили, что вам пришлось сменить школу. Расскажите, пожалуйста, что этому предшествовало, как это произошло и какие воспоминания у вас связаны с новой школой».
Обращение к упомянутой ситуации: «Вы коснулись тяжелой ситуации, в которой оказались после развода родителей. Расскажите, пожалуйста, подробнее, как это было».
Обращение к упомянутому в рассказе аргументу с целью уточнения: «Вы можете припомнить конкретный случай, когда ваша мать манипулировала вашими чувствами?».
Вступление к сценическому воспоминанию: «Давайте еще раз вернемся к ситуации, когда вы так испугались. О чем вы еще можете вспомнить? (Только шум дождя, раскаты грома и предчувствие, что…). Вы снова слышите шум дождя (пауза 3 секунды), вы слышите раскаты грома (пауза 3 секунды), что еще вы слышите /что еще было/что еще вы чувствовали?».
Проведение интервью
Процедура непосредственного проведения интервью представлена у Г. Розенталь следующим образом. Подготовка к интервью требует тщательности и тренировки в ролевых играх (ситуация «интервьюер – интервьюируемый»). Это делается с целью овладения техникой ведения как разговора, так и тематического содержания, а также умением эмпатически поддерживать рассказчика, если воспоминания приобретают эмоционально тяжелый характер. Поскольку в процессе интервью затрагивается частная жизнь, это востребует определенную этику поведения интервьюера: уважение к личности рассказчика, доверившего часть своей жизни, его право на пределы обсуждаемого и степень интимности, предварительная договоренность по поводу дальнейшей научной и публичной судьбы полученной информации.
Договариваясь о времени и месте интервью, исходят из удобства для интервьюируемого. Тем не менее необходимо оговорить как минимум два часа для интервью и обстановку без отвлекающих факторов (телефон, соседи, родственники, домашние животные, дети и т. д.). Респондент должен сам решить, в какой ситуации – дома, в кафе или в пустом офисе – он/она будет чувствовать себя комфортно и сможет настроиться на работу памяти и рефлексии о прошлом. В целях сотрудничества интервьюер придерживается благожелательной и корректной манеры поведения, избегает одежды ярких цветов, необычного покроя, вызывающей косметики, не надевает дорогих украшений, политических значков, эмблем. Его желание пить, есть, курить может отвлечь или вызвать раздражение респондента.
Наличие записывающей техники (диктофон) следует также оговорить заранее, нельзя пытаться применять ее тайно. Это недопустимо по этическим соображениям. Время от времени интервьюер должен проверять наличие записи, поднося наушники к ушам, не стоит полагаться на легкий шум и горящие индикаторы, любая техника иногда дает сбой.
Для завязывания доверительного контакта и психологического настроя рассказчика помогает следующая процедура. Респонденту предлагают нарисовать свое генеалогическое дерево, упоминая имена, годы жизни и места рождения/жизни, миграции своих родственников, следуя логике восхождения от себя лично к тем, кто старше. Подобная визуализация системы родства стимулирует воспоминания, настраивает на ретроспективу, облегчает момент первого контакта. Интервьюер, в свою очередь, получает бесценный материал для дальнейшего анализа, поскольку собственно история жизни, возможно, будет содержать историю коммуникации с одними и исключение других.
Практичнее записывать (после упражнения в генеалогии) имена участников разговора, дату и место проведения на пленку, в начале или в конце интервью – это решается по ситуации.
После первого знакомства интервьюируемому предлагают, концентрируясь на детских воспоминаниях, рассказать свою жизнь.
Здесь роль интервьюера ограничивается краткими вопросами, стимулирующими к наррации, рассказыванию, и сводится к фигуре заинтересованного благожелательного слушателя. Вводное предложение могло бы звучать приблизительно так:
«Мы интересуемся тем, какой личный опыт вы приобрели за свою жизнь, особенно в детстве, и какое влияние оказали события детства на вашу жизнь. При этом речь идет не о больших исторических событиях, а о глубоко личном их переживании. Таким образом, мы просим вас рассказать о пережитом вами, как это начиналось, происходило и заканчивалось. Вначале мы не будем задавать никаких вопросов и не будем вас прерывать. Во время вашего рассказа мы будем только помечать некоторые моменты, к которым затем еще раз вернемся».
Эта формулировка не дает никакого «объективного» исходного пункта (например, год рождения), с которого мог бы начаться рассказ. Напротив, рассказчику предоставляется право решить самому, с какой даты начать основной биографический рассказ. Таким образом, исследователю важно обнаружить, с какой временнóй точкой у интервьюируемого – из перспективы настоящего или прошлого – ассоциируется начало детства или начало истории жизни. Так, начало детства может рассказываться с первых ощущений, а может – с передачи семейных легенд и желания родителей обзавестись ребенком и т. д.
Помощь рассказчику может выражаться в поддерживающей «симметричной» мимике, языке тела, кивании, междометиях и кратких поощрительных выражениях типа «как интересно», «понимаю», «да, конечно», «м-да» и т. д., за исключением суждений, нарушающих нейтральный баланс разговора. Появление пауз в разговоре и реакция на них интервьюера требуют творческого подхода, когда необходимо умение распознавать паузу – предвестник тяжелой неуверенности, мучительного подбора слова или исчерпанности сюжета. Призыв «держать паузу» здесь более чем адекватен, он стимулирует респондента на припоминание или самостоятельный выбор следующего сюжета. Вообще, наличие пауз, обрывов речи, манипуляции голосом, интонацией представляют собой индивидуальный ритм рассказа, прислушивание к которому и овладение которым важны для интервьюера. Обнаружение таких личностных особенностей в начале разговора – сигнал для интервьюера и повод для отметки в блокноте.
После фазы уточняющих вопросов задаются те уже сформулированные вопросы из подготовленного «гайда», которые получили какое-то упоминание в основном рассказе и отвечают тематическому интересу исследователя (например, проблематика страхов, игрушки, еда и т. д.). При формулировании этих вопросов ориентируются на то, что первые впечатления или новые фазы/стадии жизни как смена прежней рутины действий особенно прочно запечатлеваются в памяти.
Интервьюер задает вопросы таким образом, чтобы они направленно возвращали рассказчика к интересующей теме и фокусировались на его личном опыте, а не на теме «вообще». Речь респондента, которая отражает расхожие образцы массового сознания, растиражированные в СМИ, желательно прервать. Интервьюер в данном случае, руководствуясь памятью или письменными заметками, тактично возвращает рассказчика к последнему нарративному сюжету либо провоцирует на воспоминания вопросами ассоциативного или сценического представления.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.