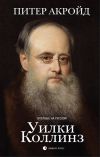Текст книги "Биографический метод в социологии"

Автор книги: Елена Рождественская
Жанр: Социология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 24 (всего у книги 29 страниц)
В этом длинном нарративе тесно переплетены время социальное и время биографическое. Причем где-то оно схлопнуто (прошло 15 лет), а в конце рассказа насыщено изменениями: когда социальная ситуация открыла ранее недоступные возможности для заработка, рассказчик переходит от пассивного ожидания «кроличьей шапки» в профкомовской очереди к постановке целей, которые воспринимаются им и членами семьи как программатические. Поставить себе цель заработать на квартиру в Москве и реализовать эту цель выглядит куда более сильным (мужским) поступком, чем унизительная конкуренция с женщиной-сотрудницей по поводу мебельной стенки. При этом пример и предложение отца структурируют в определенной степени и жизненные стратегии детей.
В последующих репликах и кратких нарративах прослеживается определенная преемственность с предыдущим: почти все участники дискуссии имели общий жизненный опыт смены профессии/работы в эпоху радикальных экономических перемен.
«Мы все прошли через вариант смены работы, чтобы улучшить благосостояние семьи, даже не свое. Хорошо помню то время, когда я работал на кафедре научным сотрудником. По тем, еще советским, временам кем можно было стать – кандидатом наук, доктором, преподавателем. Но грянула перестройка, и я понял: буду зарабатывать очень мало, и моя семья, за которую я отвечаю, будет жить очень плохо. Таким образом, основной толчок был: надо менять работу, надо что-то делать, раз такая ситуация. Оно во мне внутри было – какое-то чувство ответственности, не только за себя, но за своих близких. Наверное, это почти у всех мужчин так».
Ключевое выражение «ответственность за семью» получает здесь коллективную валидизацию благодаря поддержке и развитию последней фразы («почти у всех мужчин так»).
«Все мы оказываемся в такой ситуации, когда мужчина кардинально меняет работу, насколько я знаю по своим знакомым, а женщины в основном остаются на прежней работе и ищут дополнительные заработки. Мужчины же в основном бегают в связи с тем, что на них ответственность за семью, им надо корм тащить домой».
Но эта генерализация одних рассказчиков наталкивается на жизненный опыт других мужчин, жены или знакомые которых испытывают не менее серьезные изменения в жизни, приводящие к подвижке гендерного контракта полов.
«Сейчас многое меняется. Если в совдепии, скажем, мужчина был добытчиком, изначально сверху все воспринималось и делалось, то сейчас, в этот переходный период, все меняется коренным образом, хотя психология людей, конечно, осталась прежней. Женщина-бизнесвумен блестяще справляется с этим и становится этим добытчиком. Поэтому все это перетекает, меняется. Пока еще это устаканится… Да и смотря что женщина выбирает. Одной нужно детей рожать, другой – свое.
Признание плюрализма призваний независимо от половой принадлежности является здесь не отвлеченной метафизикой пола, а конкретным жизненным опытом. Тот же рассказчик:
«Мой личный опыт связан с тем, что жена зарабатывала больше. Она тысяч в 10 больше зарабатывала, чем я. Сначала я чувствовал себя спокойно. Я всегда спокойный. Я ведь тоже до перестройки зарабатывал какие-то деньги, ну, а потом, наверное, когда супруга получает в тысячи раз больше, а не наоборот, то постепенно чувствуешь себя… (замолкает с горьким выражением лица)».
В этот момент происходит показательный обмен репликами:
– Я думаю, прежде всего меняется отношение самой женщины.
– Конечно, и кардинально.
– Или мужчине так кажется.
– Эти женщины ведь тоже воспитывались в то время, когда мужчина был добытчиком. И получается: папа был добытчиком, у всех знакомых дядь и теть – тоже. А мне не повезло, накладка вышла.
В этом кратком диалоге раскрывается непростая картина перевернутой пирамиды властных отношений в семье. Женщина акцептирует роль главы семьи в том случае, если им выполняется функция добытчика (вполне традиционный образ). Но эмансипированная женщина, выстраивающая жизненную стратегию на основе карьеры с видимым материальным успехом, является носительницей тех же традиционных гендерных ожиданий по отношению к партнеру. Собственно, это и становится версией причины развода одного из собеседников.
В заключение дискуссии происходит показательный диалог между одним из собеседников (С) и ведущей (В).
С.: А вообще, мужчина должен… как это… воспитать сына, посадить дерево, построить дом.
В.: Вам это удалось?
С.: Если воспитать ребенка – это мы еще смогли; дерево посадить – наверное, тоже сможем. А вот дом построить – это да-а-а.
В.: Значит ли это, что вам тяжело состояться как мужчине?
С.: Получается: да.
В.: Но вы сами выбираете эту формулу!
С.: Получается. А кто виноват? Я виноват, не раскрыл свои возможности. Не было такой цели или мне не дали.
Группа приходит на помощь моему собеседнику и резюмирует:
«Если вообще ставить реальные цели, они должны быть ступенчатыми. Когда реальная цель достигается, надо ставить следующую».
Этот диалог высвечивает, на наш взгляд, очень важное обстоятельство, влияющее на конструкцию маскулинности, – это глубинная потребность в идеологии или этике маскулинности. Ее формулирование чрезвычайно затруднительно, для этого привлекаются источники ушедших культурных эпох (например, «Мыслящий тростник» Б. Паскаля). Но они же, эти готовые формулы, являются ловушкой и источником фрустрации («я виноват»), поскольку реальная фоновая практика гендера и социально-культурные рамки настолько противоречивы, что конкретная биография мужчины не укладывается в это прокрустово ложе. Что же остается в непротиворечивом «сухом остатке» групповой дискуссии? Что наполняет содержание коллективно разделяемого маскулинного хабитуса?
Мужчине легче себя определить или позиционировать в отношении с женщинами, мужчина per se загадочен и архаичен.
Жизненные миры мужчины и женщины разнятся, как две Вселенные.
Свое предназначение мужчины формулируют как чувство ответственности за близких/семью, что одновременно порождает иерархическую систему, в которой ответственность сопряжена с правом.
Современные трудности гендерной идентификации мужчины или маскулинного хабитуса сопряжены с хабитусной же неуверенностью, порождаемой проблематизацией роли добытчика/кормильца, а также с возросшими гендерными ожиданиями со стороны женщины.
Гендерный контракт не имеет характер незыблемого, он подлежит пересмотру в повседневной практике взаимоотношения полов, что отзывается повышенным напряжением и фрустрациями в случае неоправданности ожиданий.
Наблюдается определенный кризис маскулинной идеологии, когда классические формулы не выдерживают проверки социальным временем и концептуализация спускается на уровни, близкие социальной практике с ее пргматизмом и рациональностью (ставить реальные цели).
Гомосоциальность играет чрезвычайно важную роль в коллективном построении баланса между коллективным маскулинным опытом и моделями объяснения в повседневности, т. е. в выработке стратегий нормализации по защите гендерного порядка.
Дискуссия с представителями рабочего класса
Дискуссия была проведена на одном из московских заводов металлургической промышленности. Группа состояла из десяти человек и представляла тот же возрастной диапазон, что и первая, большинство членов группы состояли в браке/партнерстве. Наконец, это был тот же тип «естественной» группы, спаянной общим опытом интеракции.
Как и в предыдущей группе, вопрос о том, что для них значит быть мужчиной, казался странным, хотя эмоционально и в меньшей степени. Сходным образом приближение к совокупному ответу на этот вопрос темпорально растягивалось и развивалось через тематизацию сначала роли женщины на работе и в семье, и лишь затем подходили к описанию роли мужской. При этом в рассуждениях рабочих было значительно меньше идеологии взаимоотношения полов, чем у представителей среднего класса.
«Если женщина умная – почему она не должна сделать карьеру? Если она работоспособная, с людьми в хороших отношениях – почему бы ей не стать начальником цеха? Человек неглупый, грамотный – я за, чтобы такие люди были. Если женщина справляется лучше, чем мужчина, то начальник ее оставит. Ведь он старается оставлять тех людей, которые будут работать».
Вот так, исподволь, не выходя за рамки контекста, собеседник подходит к оценке женщины, прежде всего работницы, с точки зрения выполнения ею трудовых обязанностей. Пока здесь просматривается только функциональный аспект, но также намечено обстоятельство конкуренции и оценивания функциональности женского труда со стороны мужчины-начальника. Их формальные отношения отмечены рациональностью (отбор тех, кто работает) – со стороны, разумеется, начальника.
«Если бы мне платили приличные деньги, то жена могла бы и дома сидеть с ребенком, как это и полагается, – уделять внимание ребенку, домашним делам и всему остальному. Но сейчас ведь рабочий не может содержать семью полностью. Может быть, и может, но это внатяг жить».
Эта секвенция составляет контраст с аналогичным сюжетом в первой группе, где один из участников испытывал чувство фрустрации, личной вины из-за невозможности выполнить соответствующую мужскую роль. Здесь собеседник лишь отмечает в сослагательном наклонении, что неплохо бы реализовать традиционную модель семьи: муж – кормилец, а жена – домохозяйка. Но к невозможности такой жизни он подходит вполне прагматично, не интернализуя вину за социальные обстоятельства.
Вообще, рассказать об отношениях прежде всего мужчины и женщины вне социального контекста участникам этой группы было очень непросто. Им проще говорить о том, что наполняет их повседневность: это не перипетии отношений, а реальность трудовых дел и коммуникация по их поводу в основном гомосоциальном сообществе. Так приблизительно выглядит типичный день рабочего:
«У нас второй корпус, человек 5 слесарей. Утром приходишь, обходишь все. Что поломалось за смену, начинаешь делать. Потом текучку начинаешь делать. Обед у нас 45 минут. После обеда то же самое, делаешь запасные детали, если в смену что полетит, чтоб запас был. Так и продолжается, как конвейер. То одно делаешь, то другое. Потом приходишь домой, зашел в ванную, руки помыл. Перекусил что-то и побежал в гараж».
Показательно обилие глаголов – наличие частого перечисления действий. Не удивительно поэтому, что попытка суммировать в итоге мужскую роль близка по стилю.
«Мужчина должен уметь все делать, хотя бы понемногу во всем разбираться – по работе в первую очередь, да и дома во всех мелочах. Он – умелец. Когда умеешь, то и люди к тебе обращаются. Правда, плохо, когда слишком много обращаются».
Он тут же получает поддержку группы:
«Мужчина должен быть самостоятельным, иметь голову на плечах и руки умелые. А чтобы стать таким, нужно суровое воспитание от деда, отца. Моя основательность от деда, интересно было наблюдать за ним… Мужчине нужно пройти жесткие, не-тепличные условия, чтобы где-то повращаться не среди женщин, особенно тем, кого воспитывала только женщина».
Как видим, здесь, чтобы состояться как мужчина, нужны несколько другие, чем в группе среднего класса, факторы – умелые руки и самостоятельность. Причем эти качества системообразующие, структурируют социальность, выстраивают отношения. И, что важно, для их приобретения необходима гомосоциальность.
В ходе дискуссии возникла тема, близкая дискуссии в первой группе: жизненная ситуация, когда мужчина зарабатывает меньше жены/ партнерши.
«У меня двое детей: сын большой уже, а дочка маленькая. В основном с ней жена занимается. Она у меня работает в банке. Зарабатывает почти так же. В какое-то время больше зарабатывала, а сейчас у них на одном месте стоит… Разборки? Об этом и разговора не было. Думаю, что так и должно быть. Если кто-то зарабатывает меньше или больше, это не должно задевать. А что сделаешь? Может, и рад больше зарабатывать, но не платят. Ну, что сделаешь».
Это момент так называемого минимального контрастирования качественного материала, когда из разных сравниваемых источников подбираются близкие социальные ситуации. Если мы вспомним, что аналогичная ситуация в другой группе привела к возрастанию гендерных ожиданий партнерши и в итоге к разводу, то здесь рассказчик относится к этому прагматично: каждый делает то, что в данный момент может. При этом на гендерном контракте внутри семьи это не сказывается. Может быть, потому, что концептуализация маскулинности здесь идет по линии умений и самостоятельности, приобретя которые, мужчина мало рискует их утратить вследствие изменения социально-экономической ситуации. Если же он выстраивает свою идентичность на чувстве ответственности за семью, на балансе гендерных ожиданий, требующем постоянного подтверждения (как в группе представителей среднего класса), то маскулинность все время ставится под вопрос. Возникает хабитусная неуверенность. Здесь же, в группе рабочего класса, есть признание общей экзистенциальной неуверенности, объединяющей оба пола и на этой почве их солидаризирующей. При этом их маскулинный хабитус кажется не затронутым этой экзистенциальной неуверенностью, поскольку существует в несколько иной плоскости.
Итак, подведем некоторые итоги по дискуссии с представителями рабочего класса:
концепт маскулинности здесь строится на индивидуальном проекте умений и самостоятельности, но их приобретение требует гомосоциального воспитания и пребывания в суровых условиях и мужском сообществе;
этот маскулинный хабитус тоже построен на традиционном ролевом каркасе, но в меньшей степени представляет собой «отношенческий» (relational) конструкт, его сердцевина менее зависит от переопределения социальной ситуации, в которую встроен гендерный контракт;
соответственно здесь менее выражена хабитусная неуверенность от неисполнения маскулинной роли, меньше идеологии и метафизики по поводу изменившейся роли женщины;
соответственно опыт малого по сравнению с женой заработка не приводит к фрустрациям перед лицом общей экзистенциальной неуверенности.
Резюмируя проведенное сравнение дискуссий, отметим, что представители среднего класса (бывшая техническая интеллигенция) более, чем представители рабочего класса, склонны к идеологическим представлениям о предназначении женщины, нагруженным патриархатными стереотипами. Именно отталкиваясь от них, делаются попытки формулировать смысл маскулинности: ответственность за семью и близких. Таким образом, это сложный реляционный комплекс, требующий для своего прояснения связи со значимыми Другими, прежде всего с женщинами. Идеологическая нагруженность и кризисное социальное время приводят к тому, что маскулинный хабитус из заданности превращается в задание, а маскулинная этика и фоновая практика пола принципиально не совпадают. У представителей рабочего класса этот зазор явно меньше. Они менее склонны рассуждать об отношениях с женщинами вообще, о предназначении мужчины говорят в прагматичном ключе – как о решении конкретных задач выживания в трудное социальное время. Пожалуй, их маскулинный хабитус даже выглядит не таким патриархатным, как ожидалось от представителей традиционной гендерной культуры. Из этого вытекает, как это ни парадоксально, что представители среднего класса более склонны к сексизму и фрустрации относительно проблематизации мужской роли, чем представители рабочего класса. Из проведенного сравнения также можно сделать вывод, что угроза хабитусной уверенности, прочитываемой как уверенность:
по поводу своей позиции в семье;
относительно того, что разрешено/принято в интеракции между мужчинами и женщинами, а также между мужчинами;
по поводу стратегий и форм самопрезентации, становится реальной тогда, когда собственные действия воспринимаются мужчинами как полоконнотативные. Вопрос «смогу или не смогу как мужик?» актуализируется в ситуации социальных потерь, поскольку пол становится тем ресурсом, на основе которого выстраиваются стратегии выхода из кризиса (семейного, профессионального и т. д.). Вероятно, маскулинная уверенность представителей рабочего класса и выглядит менее эрозивной благодаря традиционной гендерной культуре с ее эффективными традиционными хабитуализациями как когнитивными стратегиями нормализации меняющегося социального порядка.
§ 8. Война в биографии: «Никому я не рассказывала, что была в Германии»
В этом параграфе представлены биографические интервью с угнанными на работу в Германию и пережившими тяготы подневольного труда[29]29
Автор совместно с коллегами В. Семеновой и О. Никитиной провел в Пскове и области 30 интервью с так называемыми остарбайтерами. В силу своего пограничного расположения (граничит с Эстонией и Латвией на западе и Белоруссией – на юге) Псковская область была оккупирована вскоре после начала войны – 9 июля 1941 г., оккупация длилась до 22 июля 1944 г.
[Закрыть]. Собираемые в традициях Устной истории биографии остарбайтеров постепенно занимают свое место в общем, но неравноценно означенном символическом пространстве дискурсивной памяти о войне. В фокусе нашего исследовательского интереса находились три основные категории: представители гражданского населения, угнанные в Германию на принудительные работы с оккупированных территорий; военнообязанные, попавшие в плен и вынужденные работать на принудительных работах, а также граждане, которые вынуждены были работать в оккупации. Социологическая позиция требовала отнестись к историям жизни наших биографантов не только как к источнику устно-исторического знания, как к «свидетельству», но как к содержащим разрывы, подлежащие нормализации и компенсации с помощью социальных стратегий на фоне микроистории.
Сложность анализа идентификационных разрывов связана не только с тем, что пережитые страдания, страх и лишения провоцируют рассказчиков на «новояз», требующий своей семиотической декодировки и почти психотерапевтического подхода. Внимание вызывает сама биографическая работа рассказчиков по преодолению травмы-стигмы, ощущаемой и частично осознаваемой как отклонение от поколенческой биографической нормы. Этот своеобразный ремонт биографий может быть прослежен на двух уровнях – в плоскости реконструируемых стратегий нормализации жизненного пути, приведения их к норме биографии, а также в плоскости самого рассказа как нарративные стратегии представления событий жизни.
Но прежде стоит упомянуть о терминологическом конфликте, которым нагружено употребление понятия травмы в поле социологии и истории. Социологи благодаря П. Штомпке взяли на вооружение сюжет травмы: тематизируется и истолковывается культурная травма как последствие столкновений культурных ценностей социума с «чужим» и враждебным окружением, как масштабный социокультурный кризис базисных ценностей, смыслов и значений социальной реальности [Штомпка, 2001]. Прежние правила социального порядка ставятся под сомнение, что влечет за собой утрату индивидуальной и групповой идентичности. Затем возник и социологический аспект контртравмы как усилия дезадаптантов по ресоциализации, как свидетельство затягивающейся социальной ткани. С точки зрения А. Здравомыслова, «травма есть переживаемая боль – сильное побуждение к действию, характер которого иррационален. Травмы возникают как следствия поражений, несбывшихся надежд, резкого изменения привычного социального пространства, как память об утратах» [Здравомыслов, 2008, с. 6]. С его точки зрения, «общество находит в себе силы к преодолению травмы… прежде всего с помощью иной композиции социального действия, которое создает социальную базу преодоления травматического сознания» [Здравомыслов, 2008, с. 10]. Мы хотели бы подчеркнуть, что, помимо культурной рационализации, в преодолении травмы социального происхождения имеют большое значение дискурсивная доступность нарратива о травме и его оборот в культуре, но также придание статуса экспертного свидетеля самому нарратору.
Историки (А.М. Руткевич, И.М. Савельева, А.В. Полетаев) выступили резко против доктрины «исторической памяти», словоупотребления травмы, привносящего в социально-исторический дискурс медико-психоаналитический контекст, влияющий на методологию исторического исследования. «Публично напомнить о своих страданиях – хороший способ получить те или иные привилегии или даже добиться выплат», – пишет А.М. Руткевич [Руткевич, 2005, с. 247]. Так, говоря об истории ХХ в. с огромным числом свидетельств жертв концлагерей, войн, депортаций, геноцида, А.М. Руткевич задается вопросом: а что делать с этими данными? «Историку они нужны для выяснения того, что на самом деле происходило в прошлом, тогда как собирают эти данные зачастую совсем с другими целями» [Там же, с. 237]. Да, действительно, для социолога, например, подобные свидетельства важны сами по себе, не только как источник сопоставимой информации о событии, важны даже в том случае, если информант лжет, и тогда конструкт лжи подлежит деконструкции с точки зрения его функциональности для выстраиваемой нарративной идентичности. Полемизируя со сторонниками концепта исторической памяти, А.М. Руткевич считает небанальной в ней только теорию «травмированной коллективной памяти», зато ложной, поскольку для коллективного травматического опыта необходима коллективная психика. Последний аргумент нам кажется натянутым или упрощающим картину. Любой и не травмирующий коллективно разделенный опыт, понимаемый вслед за К. Маннгеймом как «конъюнктивное пространство опыта», порождает типику структур группового сознания, которым будут близко интерпретироваться как визуальный знак Итонского галстука, так и цифровое тату на запястье. Социологическое же прочтение групповой травмы принимает во внимание посттравматическую социальную ситуацию. Она раскрывается как поле возможных или невозможных вследствие травмы действий, а также наличие или значимое отсутствие внутриколлективного и дискурсивного нарратива о травме, его структуре, разрывы и ремонт как биографические стратегии по выходу из травмы, так и нарративные способы ее донесения, инвентаризации биографических ресурсов для преодоления травматического опыта.
Нам ближе цеховая позиция Штомпки – Здравомыслова, особенно ввиду биографического материала, качественно ориентированной методологии сбора (нарративных интервью) и анализа историй жизни. Тем не менее понятие травмы в данном контексте нуждается в ряде замещающих и расшифровывающих терминов. Имеется в виду утрата смысла (кризис отношений прошлого и настоящего, в рамках которого прошлое обесценивается, или опыт, который разрушает возможности его интерпретации), утрата смысловой связности биографического конструкта или когеренции биографии. Как эмпирически доступный феномен, эта проблематика обнаруживается в биографических разрывах, невозможности для рассказчиков совместить в едином пространстве рассказа все фазы жизненного пути, т. е. в крушении единого нарратива, его фрагментации, лакунах, фигурах умолчания и в прочих нарративных стратегиях. В этом смысле нарративная идентичность, на прагматичном и локально ситуированном уровне которой происходит «ремонт» биографии, – важное поле анализа тех ресурсов, с которыми рассказчик решает самую главную задачу своей жизни – собирает свое Я.
Коллективный или групповой опыт в своем языковом референте «мы» отражает логику повседневности. Используемые местоимения как фигуративная языковая сеть указывают проективный образ социального окружения, границы социального субъекта.
Пример «коллективного» нарратива из интервью с Н.Д. Зайцевым:
«Нас привели к входу в концлагерь Гроссенрозен, над воротами был большой плакат “Каждому – свое”. Нас пересчитали, одна охрана сдала, вторая приняла, и повели нас по территории. Дошли мы до первого барака. Он назывался “санитарный блок”. Там – зал. Мы раздевались догола и бросали в кучу свою одежду. Нас постригли и побрили. Перед умывальными отделениями стояли контролеры, они проверяли, как мы побриты и подстрижены. И если что-то не нравилось этим контролерам, они били нас и отправляли обратно к парикмахерам. Приходили к ним и говорили, где что у нас не добрито. Парикмахеры тоже психовали и били нас, но потом добривали и достригали. Мы долго ждали, когда включат воду. Когда вдруг дали воду, все стали мыться, намыливаться, но мгновенно вода была выключена. Кто не домылся, выходили недомытые, нам дали кальсоны белые с черной и синей полосами и халат. Вот в таком виде, в холоде, нас привезли в блок № 9. Там мы ложились на бок, а подгоняла бил по лежачим палкой, чтобы они двигались. Когда он бил последнего человека, тот двигался, и образовывалась довольно-таки свободная территория, куда приказывали ложиться тем, кому не хватило места. Так мы лежали, сдавленные друг другом, а в 5 часов утра был подъем».
В приведенном примере из интервью с остарбайтером «мы» семантически преломляется страдательным залогом употребляемых глаголов (нас били, нас отправляли), что создает образ репрессивного социального порядка, впечатление принуждения и безличной машинерии происходящего.
Фоновая практика катастрофичности требует также своего прояснения. История или фрагмент основного рассказа о травмирующем опыте остарбайтера необходимо поместить в рамки социального и временного контекста. Ими являются характеристики социума, организованного как принудительно мобилизованная масса, уровень жизни которой сопоставим (по крайней мере, после войны) и сравним с контролем, степенью эксплуатации, голода трудового лагеря. Бедность и практики выживания мало чем отличались, сближая предвоенное, военное и послевоенное время. На этом фоне обесценение человеческой личности приобретает не внезапный, а преемственный характер.
Из интервью с Е.В. Александровой:
«…А приехали домой, здесь пошла работа другая. Здесь сентябрь месяц – начинаются овощи, баржи. Начали посылать на разгрузку барж. А зима настала – нас в лес, дрова пилить. Ведь надо восстанавливать всё. В лесу простыла, заболела, у меня фурункулы, температура. Ничего не признавали – иди, иди и работай! И врачи не признавали, что с температурой, – поезжай в лес! Со скотом, по-моему, так не обращаются, как с нами. А тем более они считали, что мы – предатели, мы – враги».
Из интервью с Р.С. Крюковой о возвращении домой из лагеря:
«А в доме у нас уже люди жили. И мы, когда пришли, стали их предупреждать: мы возвратились, вы освободите наше помещение. “Что мы, в сарай пойдем? Нечего было шляться по Германии!” (грубо). (Пауза) Русский народ. Сочувствующий (с горечью)».
Из интервью с Н.В. Даниловой о возвращении из лагеря и о послевоенной деревне:
«…А домой приехали – ни одного дома нет, там заминировано все. Несколько человек подорвалось. Вот мы семь километров кое-как дошли до своей Купровщины и в сельсовет въехали – семей десять или сколько там в одном помещении были. Кто на полу, там не разберешь… Спим – крысы большущие кусают нас, плачем, боимся… Но, слава Богу, мы дома, мы на родине. И так стали жить. Папа еще в госпитале был…
Потом, через шесть месяцев, папа пришел домой. А мы – братья мои, я – в колхозе стали работать. А ведь заминированы были все поля. Потом научились… Нам показали, как разминировать, и мы сами разминировали мины. Мы набирали тол… У нас в деревне э… еще немцами… бункера такие были сделаны. Нам нужны были бревна, чтобы построить какой-то домик. Вот мы взорвем все, лопатами это все сроем, привяжем веревкой, волочем бревна… эти… до дома. Дом-то мы не построили, но натаскали…
…Ни надеть, ни обуть нечего! А нам в школу ходить… Нам два с половиной километра идти надо было. Мама нам кальсоны давала. Накрутит нам этих тряпок и вот эти валенки, одежда одна… Вот. Дохожу я до деревни Исаковщина, в Исаковщине брат меня встречает, меня разувает… И я в этих портянках бегу… А морозы-то были – до тридцати с лишним градусов. Один раз я не добежала до деревни, упала в снегу. Женщина шла с этой же деревни, она меня подобрала, спасла».
В отношении выживших в концлагерях некоторыми авторами (П. Леви, Дж. Агамбен и др.) постулируется определенная связь между стремлением выжить и готовностью свидетельствовать. Они усматривают особую функцию свидетельского повествования, рассказа о случившемся – ценностную, смысловую. «Выживший призван помнить, он не в силах не вспоминать» (Цит. по: [Дубин, 2009, с. 4]). Решая эту задачу, бывший заключенный, низведенный до объекта насилия, отчасти возвращает себе субъектность. Но, отметим мы, фоном дискуссий с негационистами и «ревизионистами Холокоста» является правовое поле законов о Холокосте, когда установлены юридические понятия ответственности и даны оценки. Какова функция рассказа отечественного остарбайтера о прошлом? Ее реконструкция осложнена прежде всего тем, что в советском, а затем в российском историко-гуманитарном официальном дискурсе не было места для символического признания этой категории – «работали на врага». Их десубъективизация не подлежала восстановлению дискурсивными средствами эпохи. Невозможность вписаться в послевоенный гранд-нарратив («как мы ковали победу» либо «как мы трудились в тылу для победы») имела следствием прежде всего замалчивание, биографический разрыв, не-присвоение части своей прошлой жизни как ресурса идентификации.
Из интервью с Е.В. Александровой:
«…Не рассказывала. Приятельница-то моя знала, а так никому я не рассказывала, что была в Германии. Потом уже стали говорить: вот там. А то никому ни звука».
Большинство рассказчиков впервые заговорили об этом только в 90-е годы – в кампанию компенсации, умалчивая об этом в том числе и близким – мужьям, женам, детям. В процессе интервью это могло приобретать инверсивный характер – попытки рассказывать только о войне и лагере, обрывая детство и послевоенную жизнь – как невозможность связать нормальную жизнь до травмирующего события с нормализацией после него.
Из интервью с Н.Д. Зайцевым (И. – интервьюер, Р. – респондент):
И.: Пожалуйста, Николай Дмитриевич, я слушаю вас. Когда вы родились? Где? Сколько вам лет?
Р.: 20 июня 1941 г. меня призвали в армию…
И.: Николай Дмитриевич, когда вы родились? Давайте мы начнем с момента рождения, с вашего детства. До армии ведь тоже была жизнь..
Р.: Родился я 26 июля 1922 г. в деревне Лохново Псковского района. Когда мне было два года, мои родители переехали в город. Отец работал сапожником… Мы жили рядом с гостиницей «Октябрьская», на 1-м этаже. Там книжный магазин был, и мы рядом. Дружили мы – четверо нас было друзей-товарищей. Двоих взяли в армию 20 июня 1941 г.
Из интервью с Р.С. Крюковой:
«А детство что? Ну, в детстве я… Да я, собственно говоря, особо не помню. Школу помню. Вот где почта сейчас, там была школа четырехклассная. Я здесь сначала училась четыре года. Потом пришлось мне переходить уже туда – в сторону вокзала, там девятая школа была, в ней я училась до начала войны. В июне война началась, а я экзамены сдавала».
В случае замалчиваемого прошлого едва ли возможно переживать прошедшее как отличаемое от настоящего: «Акт воспроизведения ставит прошлое в рассказе в осовремененную дистанцию к современности, и происходит темпоральный разрыв» [Roettgers, 1988, S. 7]. Рассказ представляет собой форму превращения чужого в близкое, в котором незнакомое становится знакомым и понятным через нарративную деятельность самому рассказчику и его слушателю [Schuetze, 1976]. Невозможность рассказать ведет от травматичных событий жизненных фаз к вторичной травматизации после времени страдания. Если не удается перевести опыты в рассказы, возникшие в пережитых ситуациях, травматизации усиливаются.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.