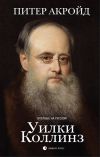Текст книги "Биографический метод в социологии"

Автор книги: Елена Рождественская
Жанр: Социология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 29 страниц)
Другая фундаментальная критика, которая хотя и принимает воспоминания в качестве исторического источника, но при этом основательно их критикует, рассматривая сегодняшние опросы, как, например, интервью (устные истории жизни), в качестве артефактов. Этот упрек-артефакт связан с представлением об Устной истории как о транслирующей рассказанный в современности образ пережитой истории, причем связь с реальностью отвергается или считается принципиально непознаваемой. Эта критика кажется основательнее, поскольку каждое биографическое интервью, каждый устно-исторический опрос свидетелей являются артефактами в смысле вновь созданных источников. Из мэтров, озвучивших эту скептическую позицию, выделяется П.Бурдье с его известной работой «Биографическая иллюзия». Он писал: «Попытаться понять жизнь как уникальную и самодостаточную серию последовательных событий, не имеющих других связей кроме как ассоциирования с неким «объектом», обладающим единой константой в виде имени собственного, почти так же абсурдно, как придать смысл поездке в метро, не приняв во внимание его схему, другими словами, матрицу объективных отношений между различными станциями. События биографии определяются количеством вложений и перемещений в социальном пространстве, т. е., точнее, в различных последовательных состояниях структуры распределения различных видов капитала, которые задействованы в рассматриваемой сфере. Смысл движений, переводящих из одного состояния в другое (с одной должности на другую, от одного издателя к другому, из одной епархии в другую), определяется со всей очевидностью через объективное отношение смысла и ценности в момент времени, рассматриваемый с этих позиций внутри направленного пространства» [Бурдье, 2002, с. 80].
Как в биографических исследованиях, так и в Устной истории важную роль играют жанровые особенности воспоминаний, которые складывались в культурно обусловленном процессе социализации через сказки, рассказы о семейных опытах, заполнение анкет в отделе кадров или анамнеза в кабинете врача. Стремясь быть понятыми, мы ориентируемся в коммуникации на определенные формальные критерии понятности, а именно ориентация во времени и пространстве, персонажах истории, событийном ряде, его значении для рассказчика и объяснение, почему эта история актуальна и сейчас. Мы чаще всего рассказываем от начала до конца, преследуя хронологическое развитие сюжета, и лишь поиск смысла заставляет нас уклоняться от логики линейного времени, ведь смысл сложно рассказать. Эта деятельность рассказчика подчинена определенным литературным канонам, от которых можно реферировать к тому культурному контексту, в рамках которого возникает Устная история. Во многих исторических исследованиях речь идет не о точном воспоминании, а о переработке ранних переживаний и опытов, частичный и селективный образ которых участвует в построении идентичности. Содержание памяти перенасыщено и изменено позднейшими событиями и переработками через последующие оценки и новое социальное окружение, что осложняет ее интерпретацию. Мы живем в переплетении старых и новых опытов, которые определяют наши сегодняшние действия и оценки. Несмотря на отсутствие точных воспоминаний, мы говорим тем не менее не только о памяти индивидов, но и о коллективной памяти или даже о коллективных менталитетах целых обществ (исследования Л. Нитхаммера в Германии [Niethammer, 1991]). Свидетельства очевидцев – это не свидетельства от индивида к индивиду различно увиденных и пережитых событий. Речь о другом – они имеют актуальное поле, обобщенно называемое культурой воспоминания. Это поле соопределяет их переживание, структурирует их презентацию, вероятно, также и само воспоминание, дает признание и тепло, за что можно испытывать благодарность. Таким образом, вербализация воспоминаний происходит в форме рассказов, которые представляют жанровые надиндивидуальные формы в ауре определенной культуры воспоминаний.
§ 5. Гендерные особенности воспоминаний
Банально было бы просто упомянуть о гендерной определенности топоса воспоминаний, если бы не политика игнорирования его в официальной истории. Воспоминания мужчин и женщин как тематизации гендерно окрашенных субъективностей порождают и различные тексты. Биографическая практика женщины, тесно связанная с повседневностью, построенная на границе мира публичного и мира приватного, с неизбежностью находит отражение в стиле письма автобиографии, в выборе тем для описания, в склонности к выразительному языку в отличие от рационального (Элен Сиксу вслед за Руссо), к манифестациям эмоций и телесности в тексте и т. д. Но то, что может быть обнаружено как мужская или женская специфика топоса воспоминаний на основе некоторой совокупности случаев, отобранных исследователем, также может быть и оспорено ввиду влияния факторов образования, статуса, возраста, этничности, контекста.
Отличие автобиографического текста женщины-автора в конечном итоге порождено субъективностью, затерянной в многократно объективирующих ее личность социальных ролях, раздробленной в многочисленных описаниях биографических практик. Между Сциллой перенимания концепта мужской достижительной субъективности и Харибдой растворенной в окружающем социальном мире женственности лежит широкий спектр типологически возможной женской идентичности, реконструкция и осмысление которой происходят в процессе создания автобиографического текста или нарративного интервью.
В связи с этим в данном параграфе мы хотели бы триангулировать проблему гендерного различия воспоминаний, обратившись прежде всего к источнику экспериментальной психологии, с целью прояснить, какие гендерные особенности процесса припоминания событий жизни можно считать достоверными и доказанными.
В исследованиях автобиографической памяти С. Блоуз и М. Джонсон (на выборке n = 425, из них 172 мужчины, 253 женщины; средний возраст – 18,7 года) обнаружено, что женщины, как правило, запоминают больше эмоциональной информации, чем мужчины. В экспериментальном плане исследования содержание события находилось под контролем: в соответствии с инструкцией участники читали сценарий, содержащий эмоциональную и нейтральную информацию. Предложенный затем тест на воспроизведение по памяти обнаружил больше эмоциональной информации в ответах женщин, чем в ответах мужчин. Хотя было бы неверно интерпретировать эти данные в ключе специфики женской памяти на эмоции, ведь социализация по культурному коду эмоциональной чувствительности – плод культурной типизации гендера [Bloise, Johnson, 2007].
В другом исследовании – Р. Эли и А. Меркурио – предметом межгендерного сравнения стало восприятие перспективы и ретроспективы биографического времени. На выборке из 230 молодых людей (118 женщин и 112 мужчин) они приходят к выводу о том, что способность человека к путешествию во времени частично объясняется тем жизненным опытом, который приобрел индивид. Так, в отношении женщин их когнитивные, эмоциональные и мотивационные ориентации предусловливают модус воспоминаний прошлого, который авторы квалифицируют как более «богатый». С их точки зрения, именно гендерные аспекты социализации способствуют более широкому осознанию женщинами социального контекста и его временны́х характеристик, что является одним из возможных объяснений того, почему женщины обладают более «богатой» оценкой времени. Женщины преимущественно склонны вспоминать в режиме хроники собственного жизненного опыта, а также отслеживать жизненный опыт значимых других [Ely, Mercurio, 2010].
Уплотняя дальнейший обзор исследований по гендерным различиям воспоминаний, получим довольно обширный список экспериментальных штудий последнего десятилетия, которые перекрестно повторяют данные из различных выборок:
при использовании в экспериментах шкалы восприятия времени (time styles scale) показано, что женщины больше ориентированы на прошлое, чем мужчины [Usunier, Valette-Florence, 2007];
мужчины более ориентированы в автобиографическом воспоминании на будущее, чем женщины [Greene, DeBacker, 2004];
хотя мужчины и женщины одинаково часто вспоминают [Pillemer et al., 2003], женщины вспоминают больше, чем мужчины, в целях нарративного построения идентичности и поддержания интимности, а также реже пересматривают негативные аспекты прошлого [Webster, McCall, 1999];
в памяти как о повседневности, так и о драматических опытах женщины в большей степени сосредоточены на трансляции межличностных взаимодействий, чем мужчины [Niedzwienska, 2003];
в целом автобиографические воспоминания женщин также более яркие (vivid), чем у мужчин [Acitelli, Holmberg, 1993], они используют большее количество и разнообразие слов для эмоций, чем мужчины, при описании своего опыта и характеризуются большей специфичностью, отражающей гендеризированный жизненный опыт [Bauer et al., 2003; Fivush et al., 2003; Hess et al., 2000];
помимо воспоминаний о собственном жизненном опыте, женщины ориентированы в большей степени, чем мужчины, на хронику жизненного опыта других персон [St.Jacques, Conway, Cabeza, 2011; Bauer, Stennes, Haight, 2003];
женщины автобиографически вспоминают больше и более подробно [Friedman, Pines, 1991; Pillemer, Wink, DiDonato, Sanborn, 2003; Pohl, Bender, Lachmann, 2005; Ross, Holmberg, 1992; Seidlitz, Diener, 1998; Cowan, Davidson, 1984; Fivush, Berlin, McDermott Sales, Mennuti-Washburn, Cassidy, 2003; Friedman, Pines, 1991], более аккуратны в датировании событий [Skowronski, Thompson, 1990], быстрее их припоминают [Davis, 1999];
в исследованиях по влиянию гендерных аспектов на когнитивную структуру личных воспоминаний (например, [Woike et al., 1999; Nakash, Brody, 2007]) показано, что женщины структурируют свои воспоминания в более интегрированном и менее дифференцированном когнитивном стиле, в то время как воспоминания мужчин более дифференцированы и менее интегрированы по когнитивному стилю;
женщины также делают большее количество ссылок на эмоциональное состояние других персонажей. Кроме того, когда женщин просили вспомнить эмоциональные опыты переживания в жизни, они припоминали больше как положительных, так и отрицательных моментов личного опыта, чем мужчины [Fujita, Diener, Sandvik, 1991; Seidlitz, Diener, 1998].
Если попытаться оценить эти взаимно подкрепляющие данные, следует отметить, что степень их эпистемологического потенциала значительно ограничена тем, что содержание рассказанного автобиографического события здесь не анализируется. Поэтому тот обнаруженный факт, что женщины могут запоминать и вновь припоминать больше эмоциональной информации, вероятно, объясняется тем, что они имеют более частый и более интенсивный эмоциональный опыт, чем мужчины. Однако мужчины и женщины, возможно, в среднем испытывают эмоции одинаково часто и интенсивно, но эмоциональная информация может быть более значимой для женщин и, следовательно, лучше запоминаться. Во всяком случае, благодаря дискурсу экспериментальных исследований памяти мы обладаем гендерно-нормативными профилями воспоминаний и можем сравнивать это знание с получаемым в иных дискурсах – в биографических исследованиях и Устной истории.
В этом же ряду стоят и гендерно ориентированные биографические исследования, которые, помимо тематизации субъективности (что противопоставляется как достижение объективирующему женщину позитивистскому дискурсу), дают возможность и опрошенным, и опрашивающим женщинам поддерживать субъект-субъектные отношения, обмениваясь взаимной перспективой. Тематическое поле биографий содержит помимо индивидуальных особенностей и другие измерения: характеристики социального пространства, среды, поколения, социального слоя, субкультуры и т. д. Но микроанализ биографических интеракций может вывести и на уровень анализа пола как социальной конструкции. Так, не претендуя на основание типологии мужских и женских биографий, Б. Дозьен приводит примеры гендерных типизаций: выделенные интеракционные конструкции «Я-в-отношениях» versus «Индивидуализированное Я», стратегии разрешения конфликтов «разделять-секвенционализировать-индивидуализировать» versus «связывать-синхронизировать-помещать в отношения» [Dausien, 1996, р. 586]. Чтобы отследить эти микропроцессы культурного производства гендера, исследователю/-льнице необходимо эмпирически и аналитически проникнуть во время повседневности с присущими ей интерактивными конструкциями и ответить на вопрос, как конкретные, ситуационно связанные практики интеракции «уплотняются» в структуры, которые длятся и воспроизводятся. Тем самым мы приближаемся к пониманию более общих макросоциальных вопросов:
каким образом достигается усвоение структуры «авторитет – подчинение» как средства воспроизводства социального господства;
какова «социальная агентура» этого опосредования;
как двуполая культурная система институционализируется через повседневную практику взаимодействия мужчин и женщин;
как в этой практике выкристаллизовываются биографические процессуальные структуры (наслаивание биографического опыта), которые стратифицируют индивидов по признаку пола, и т. д.
На платформе Устной истории кристаллизация гендерных различий в модусе воспоминаний проходит по своей эпистемологической логике – вследствие интерпретации исследователем нарративных особенностей свидетельств драматических и трагических событий, припомненных мужчинами и женщинами. Поскольку культура коллективных воспоминаний в ХХ в. имеет тенденцию группироваться вокруг насильственных травм [Fussell, 1975, р. 335], корпус устно-исторических воспоминаний прежде всего затрагивает опыт участия в войнах, депортациях, геноциде, репрессиях, этнических чистках. По Фасселлу, «современные» воспоминания, например, о Первой мировой войне вращаются вокруг относительно небольшого числа воспроизводимых сцен. Эти сцены получили особый резонанс не потому, что точно представляли войну, а потому, что воплотили, по его мнению, социальные обстоятельства конца ХХ в. То есть насилие и войны были одними из наиболее привлекательных ресурсов для политики и висцеральной (внутренней, локальной) коллективной памяти.
В поле этого дискурса отметим прежде всего труды К. Гиллиган, которая на основе своих исследований утверждает, что нет гендерных различий относительно именно семантической памяти, запоминания и воспроизведения теорий и фактов, связанных с общим знанием [Gilligan, 1990]. Различия касаются в первую очередь, по мнению устного историка П.Томпсона, деталей, которыми женщины насыщают свои воспоминания о значимых событиях в значительно большей степени, чем мужчины [International Yearbook of Oral History and Life Stories, 1996, р. 50–51]. П.Томпсон признается, насколько сложнее и более трудоемко получить полные ответы от мужчин, которые заканчивают свой рассказ словами: «Это все правда» [Там же, р. 50].
Среди современных работ, вызывающих дискуссию, выделяется статья Р. Лентин «Femina sacra» [Lentin, 2006], в которой тематизируется различие мужских и женских свидетельств, концентрирующихся вокруг драматичных событий истории ХХ в., прежде всего Шоа. Название этой работы отсылает в заочном диалоге к «Homo Sacer» Дж. Агамбена, предметом анализа которого стала проблематика власти и суверенного права на введение чрезвычайного положения, преодолевающего границы морали, этического. В работе Р. Лентин на авансцену выдвинута фигура женская, также виктимизированная прошедшей историей, но при этом она не утрачивает фокуса сравнения с мужчиной. Если в упоминаемом Р. Лентин исследовании Цви Дрора выжившие в Шоа мужчины, которых он интервьюировал, дают общие фактологические свидетельства в духе израильской гегемонической маскулинности, то женщины свидетельствуют более эмоционально, концентрируясь на лично пережитом. Это различие в интерпретации подкреплено анализом подобных историй у К. Гергена и М. Герген, которые предполагают, что мужские авто/ биографии, как правило, следуют классическим линиям фундаментальных западных «мономифов» – саге о герое, который торжествует над многими препятствиями. Напротив, рассказы большинства женщин несколько амбивалентны и рекурсивны, не вписываются в линейную хронологию. Рассказы женщин, жизнь которых характеризуется многочисленными и параллельными траекториями, аффектироваными материнской заботой и вскармливанием, отличаются от мужских линейных повествований, траектории которых начинаются до Катастрофы и продолжаются через Шоа (а часто и gevurah – акты героического сопротивления) к tekumah (спасению) в Государстве Израиль [Gergen, Gergen, 1993, р. 195–196]. В политико-дискурсивном смысле такие истории в первую очередь востребованы коллективной памятью. Так, Р. Адлер пишет, что в (еврейском) патриархате есть только мужская память, потому что есть «только мужские персонажи. Они вспоминают и вспоминаемы, они получают и передают традиции, закон, ритуал, историю и опыт» [Adler, 1991, р. 45]. Тем не менее женщины помнят тоже, но вспоминают другой опыт и обнаруживают в нем большую уязвимость в смысле сексуальной эксплуатации.
Несмотря на выделенные дискурсивные гендерные различия в трансляции травматичного опыта, эти биографии или истории жизни объединяет нечто общее, сформулированное Л. Лангером. Так, теоретизируя неспособность выживших в Шоа связывать прошлое с настоящим, Л. Лангер сопоставляет «общую память», которая «заставляет нас считать Освенцим испытанием как часть хронологии освобождения нас от боли, вспоминая немыслимое», и «глубинную память», которая «напоминает нам, что прошлое Освенцима на самом деле не в прошлом и никогда там не будет» [Langer, 1995, р. XI]. Он полагает, что в конечном счете эти свидетельства объединяет «непреднамеренный, неожиданный, но неизменно неизбежный провал в попытке связать опыт Шоа с остатком их жизни» [Langer, 1991, р. 2–3]. Здесь мы находим параллели с исследованиями Г. Розенталь, которая также формулирует невозможность заключения гештальта относительно целостной истории жизни переживших Шоа, то есть их некогерентности. Весьма дискуссионными моментами, на наш взгляд, в анализе гендерных биографий с таким опытом являются 1) сюжет валоризации (выживание в Шоа часто приобретает ценность за счет моральности, приобретения морального авторитета) [Bauman, 2000], а также 2) пролонгированная виктимизация как результат восстановления женского гендерного опыта насильственной виктимизации. Этот непростой момент дискуссии отмечен Р. Лентин: то, что женщинами непроблематично упоминается в виде рассказов о частной семейной сфере, означает или прикрывает для выживших в Шоа сломанные или неоднозначные идентичности, условно заменяющие историю сообщества гендерной индивидуализированной идентичностью выжившей. Более того, Р. Лентин утверждает: мы, т. е. современные поколения, живем на инвестициях в воспоминания жертв геноцида как валоризированных и чистых.
Неудивительно, что дискурсивному признанию таких женских историй, вроде демонстрирующих нормализацию травматичного военного опыта, сопротивляются феминистски позиционированные исследовательницы – например, Дж. Рингельхайм. Она критикует такое оценочное восприятие как взывающее к способности женщин выжить благодаря исключительно строительству альтернативных семейных союзов и, следовательно, к возврату к традиционным гендерным ролям и морали [Ringelheim, 1997]. В таком же русле ведет дискуссию и турецкая исследовательница A. Акпинар на материале диаспоральных биографий турецких женщин-мигранток [Akpinar, 2003]. В контексте ее исследования восточной этнокультуры женщины стратегически позиционируются как носительницы чести и стыда в сообществе, поэтому выжившие женщины воплощают и символизируют коллективные ценности и несут большую ответственность за нарушение границ – как символических, так и материальных. Но припоминая о большей уязвимости женщин для сексуальной эксплуатации, могут ли выжившие выбрать для рассказа о пережитом линейный дискурс хронологически подробного воспоминания, не подпадая под опасность вторичной виктимизации?
Таким образом, гендерный фокус и гендерная теория могут образовать ценную линзу, через которую может быть изучена культурная память, неизбежно приобретающая формы мужских и женских воспоминаний. Действительно, гендер вместе с этничностью и классом предоставляет средства, с помощью которых культурная память помещена в определенный контекст. Кроме того, гендер является неизбежным аспектом отношений власти и культурной памяти, привнося сюжет различения и оспаривания доминирующх интерпретаций. То, что культура помнит, и то, что она хочет забыть, неразрывно связано с вопросами власти и господства, а следовательно, и гендера. Наконец, культурные коды и тропы, через которые культура презентирует свое прошлое, также строятся по признакам гендера, этничности и класса.
Культурная память наиболее сильно передается через отдельные голоса и тела как показания свидетелей. Это не означает, что свидетель говорит только о своей памяти, ведь как М. Хальбвакс ясно дал понять: люди обычно приобретают свои воспоминания в обществе. Кроме того, также в обществе они вспоминают, распознают и размещают свои воспоминания [Хальбвакс, 1997]. Культурную память, кажется, можно лучше всего понять в фокусе индивидуального и социального, собранных вместе, когда человек призван своей биографией проиллюстрировать общество в его неоднородности и сложности. В этом контексте публичного и частного гендер можно рассматривать как определяющий фактор. История женщин как параллельная история, которая восстанавливает забытые истории и факты, конечно, подтверждает данную точку зрения. Но за этой явной технологией памяти скрываются собственно гендерные рамки интерпретации и акты передачи, в смысле П. Коннертона – act of transfer [Connerton, 1989, p. 39], которые зависят от обычных этнокультурных кодов и моделей. Кроме того, опыт, а также его воспоминания и передача тоже гендеризованы и встроены в контекст. Поэтому индивидуальные и групповые повествования, о которых идет речь, позволяют увидеть зависимость артикуляции памяти от гендера, этничности, класса и сексуальности (как это увязано у В. Смит [Smith, 1998] или Н. Юваль-Дэвис [Yuval-Davis, 1997]). Идентичность – индивидуальная или культурная – становится историей, которая тянется из прошлого в настоящее и будущее, присоединяет человека к группе, строится по признаку гендера и связанных с ними маркеров идентичности.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.