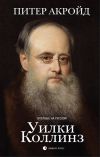Текст книги "Биографический метод в социологии"

Автор книги: Елена Рождественская
Жанр: Социология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 29 страниц)
Таким образом, ответ на чей-то вопрос «кто ты такая?» Лина конструирует в виде деятельности в отношениях по поводу обживания пространства и населения его новой жизнью. Этот жизнеутверждающий смысл она выращивает на женски-бытовых основаниях, и, как и в ее рассказе о жизни, партнеры этот смысл разделяют лишь временно.
Заключение
Возвращаясь к обещанию сформулировать гипотезу, почему в истории Лины возникает заместительная значимость телесного языка, нашедшая в дальнейшем перспективу не только арт-терапии, но и профессионализации, мы можем сделать теперь это более обоснованно, совмещая тематизации ее рассказа о жизни и нарратив ее тела (или рассказ о себе телесным языком). В обоих случаях это интерактивное достижение, поскольку устное повествование заинтересованному интервьюеру отчасти схоже с нарративом тела с участием вовлекаемого в интеракцию партнера по перформансу. Совмещение тематизаций возможно, разумеется, в ограниченной степени: рассказ о реальности и ее метафора значительно отстоят друг от друга, но и рассказ Лины малонарративен и приближен к структуре переживаний. Итак, наше предположение заключается в том, что ее история жизни имеет следствием троякий способ объективации телесности нашей рассказчицы.
С одной стороны, с феноменологической точки зрения это испуганное тело, тело-аффект[27]27
Категории из феноменологии телесности: «тело-объект», «тело – мое тело», «тело-аффект», «тело мыслимое, единое» [Подорога, 1995, с. 18].
[Закрыть], которого пережитые свидетельства смерти (возможной и реальной) как бы лишают повествовательного языка, уводя повествование с событийного уровня на уровень переживаний и символов. В теории символизации А. Лоренцера [Lorenzer, 1973; 1988] формирование символов рассматривается в качестве конститутивной составной части творческой жизненной практики человека. В ее центре – концепция форм интеракции как основы человеческой структуры переживаний. А. Лоренцер различает три уровня переживаний – предсимволическое, чувственно-символическое и языково-символическое, которые возникают из интерактивных сцен в различных полях практики тела, предметного мира и языка/письма и структурируют соответственно биографию. Каждый слой переживаний имеет свою, уходящую в историю ранней социализации линию развития, но эпигенетически перекрещивается с другими. Им соответствуют различные уровни сознания. Сознание имплицирует развитие, критерием которого является способность к децентрализации переживаний в соответствии с иерархией представительности (сенсомоторных) действий, (образно-наглядных) представлений и (семантически-синтаксических) описаний. Различные слои переживаний образуют динамичный союз, характеризующийся диалектикой рационализации и эмоционализации, нормативного контроля и спонтанной экспрессивности. «Полное» переживание имеет предпосылкой возможно более свободное развертывание этой диалектики, поскольку границы между слоями проницаемы. Вытеснение сковывает это движение. Генетически различаемы два типа вытеснения и два типа бессознательного. В первом случае перевод глубинных слоев в языково-символическую форму интеракции тормозится, следствием чего является стереотипная эмоционализация, «лишающая языка». В другом случае уже сформированная языково-символическая форма интеракции изолируется от глубинных слоев, что ведет к рационализации, которая эмоционально опустошает речь и тем самым искажает ее до поверхностного употребления знаков. Сопротивление в одном случае направлено против вербализации, в другом – против витализации.
Возвращаясь к случаю Лины, мы видим кольцевую форму ее рассказа, фрейм которого задан «человеком переживающим», но внутри этого гипертекста встречаем экшен-человека в фазе образовательно-профессиональной социализации, активность которой прерывается угрожающей болезнью. Соответственно нарушение рационализации, осмысления выглядит как перцептивная защита, а поиск смысла разворачивается «на других этажах» переживаний, метафоры, символа. В итоге текст и та психологическая реальность, в которой пребывает Лина, содержат несколько уровней: описание происходящего действия, переживание, образы, метафоры и символы. Как ни парадоксально, причина происходящего с нею видится не в «реальной» реальности, а в реальности образов, которые ею владеют и задают соответственно язык описания.
С другой стороны, объективация телесности нашей биографантки связана с контекстуальным милье ее жизни, которое выстраивает не только среду коммуникации, но и ее запреты, границы. «Коммуникативные акты обнаруживают, придают оформленность и постоянно перепроверяют присутствие говорящего в пространстве человеческого общения. Они создают его «место» и одновременно место других, с чьим сопротивлением-противоречием говорящий в этом пространстве сталкивается» [Тищенко, 1991, с. 29]. Окультуривание тела, проходящего, словами Л. Болтански, этапы соматической социализации [Boltanski, 1976], все более отдаляет его от тела природного, встраивая запреты и сопротивления, создает специфическую топологию тела-поверхности и тела внутреннего, сохраняющих наслоенные опыты пережитого, обученного и забытого в теле. Семейная культура Лины замалчивает важнейшие события семейной истории, дискурс семейных отношений сдержан и неэмоционален, интеракция с близкими, отложенная в памяти, не объединяет субъекта действующего и субъекта лингвистического.
С третьей стороны, это патология тела, заболевающего раком, и соответственно поиск личностного смысла болезни, который есть «жизненное значение обстоятельств болезни в отношении к мотивам деятельности» заболевшей [Тхостов, 2002, с. 142]. Естественным следствием болезни становится не только ограничение физических возможностей, но и разрушение нормальной временнóй перспективы, что оборачивается в тексте Лины отсутствием время-пространственной привязки. Лина встраивает факт заболевания в некоторую смысловую цепь, для чего ей приходится прибегать к описанию мистической ситуации и сна. Болезнь застает ее в той жизненной фазе, когда она наиболее социально активна и достижительна, когда она активно присваивает и осваивает свое тело. И вот этот выход из телесной конструкции тела-объекта, в котором прячется тело-аффект (образ матрешки кажется уместным благодаря ее многослойности), к телу, которое «мое тело», ознаменуется угрозой смертельной болезни. Как самонаказание и самовозвращение к тому модусу тела (уже страдающему), в котором ее социализировали (гипотеза), как выражение личностного смысла в языке страдания.
В итоге те травмы и, как следствие, коммуникативные ограничения, которые составляют суть раннедетского опыта нашей рассказчицы, высвечивают особую значимость тела как коммуникативного ресурса, когда показать через жест и движение тела становится равнозначным, если не более важным, способом, чем рассказать словами пережитое.
§ 6. Биографический опыт репрессий: «Мои родители жили с этим страхом всю свою жизнь»
Автобиографический рассказ Аллы Алиевой[28]28
Имя не изменено по желанию автора, которая любезно предоставила свою автобиографию для анализа.
[Закрыть] в определенном смысле классичен для устно-исторического исследования: крымская татарка, родилась в Андижане (Узбекистан), куда ее семья была сослана в эпоху сталинских репрессий. Повод написать собственную автобиографию сложился из-за андижанских погромов в раннее постсоветское время, пробудившее волну националистических и ксенофобских настроений. Безусловно, этот фрейм актуализации социально-исторического фона оказал решающее влияние на модус рассказа, названного автобиографией, но озаглавленного «Кое-что о моей маме», а в итоге описывающего жизненные перипетии целого клана. Как упоминалось в § 3 главы 1, посвященном дискурсу Устной истории, такого рода биографии имеют характер свидетельств, функция которых прежде всего в обретении и поддержании коллективной идентичности, солидаризации со своей национальной/социальной группой, разделившей пережитой опыт. Будучи собираемы в архивы свидетельств, они не всегда становятся предметом анализа, более того, иные от такого анализа защищены (как архив Шиндлера) принципиально, поскольку отстаивают позицию защиты от внешней интерпретации. Иная точка зрения на структуры коллективно пережитого опыта, с очевидностью, может привнести неуместный плюрализм интерпретаций там, где востребовано идеологическое единство. Тем не менее мы сделаем попытку структурации той текстуальности, которая наполняет автобиографический текст А.А., чтобы исследовать конфигурацию биографического запроса на фоне социально-исторических трансформаций. Мы приведем небольшой текст автобиографии полностью, чтобы продемонстрировать приемы структурации и линии анализа.
Автобиография Алиевой
«Мама точно знала, что отец назвал ее Урие (от тат. “свобода”, “благородство”) в честь революции. Следом шли Эдие (от араб. “праздник”) и Инает (от араб. “милость”, “благодать”).
По молодости я не очень любила слушать, отсюда отрывочность воспоминаний. Кажется, отец мамы служил солдатом в охране дворца в Ливадии. Его знакомство с будущей женой было достаточно традиционным. Селекцией занималась женская половина его родни. Смотр устраивали в бане, так было сложнее скрыть явные физические недостатки. После вердикта можно было увидеть суженую где-нибудь на посиделках, затем приступали к официальной части сватовства. Почти так же женили старшего брата моей бабушки. С той лишь разницей, что показали ему младшую, а женили на старшей. Жену он не любил до последнего дня своей с ней долгой жизни. Прижили они пятерых детей. Трое мальчиков, как на подбор, походили на красавца отца, девочки пошли в дурнушку-мать.
У деда была небольшая кофейня. Отсюда прозвище “каведжи” Умер – Умер, владелец кофейни. Фамилий тогда не носили, они пришли вместе с русификацией. Тезок дифференцировали по имущественному положению, физическим недостаткам и пр. и пр.
Раскулачивание в 30-х деда коснулось вплотную. Кофейня стала основным доводом для его перевоспитания на строительстве Беломорканала. Бабушка осталась с тремя детьми на руках: старшей – девять, младшей – пять. Как жена кулака, она была лишена всех гражданских прав и, главное, права на работу. Только протекция земляка, служившего в прокуратуре, помогла ей устроиться санитаркой в больницу. Была очень набожна, каждое утро совершала намаз и читала (на арабском) Коран. Все шло глубоко изнутри. На русском могла только вывести свое имя: Шашне. Знала ли она русский? Не помню. Мы говорили на татарском. Как человека, помню ее плохо. Общались редко. “Нелюбовь” к моему отцу перенесла и на меня. Во сне видела ее единственный раз – перед смертью мамы.
Бабушка ходила согбенная, опираясь на палку, в шали, случайно взятой из дома, в ту холодную майскую ночь депортации 44-го. Запачканный уголок этой шали так и не отстирался. Это была крымская грязь.
Зарплаты бабушки хватало лишь на то, чтобы жить впроголодь. Ее младший брат давал им продукты только в обмен на немногие оставшиеся у них вещи. Правда, разрешил племяннице, моей маме, погостить у него какое-то время. Мамой особо не занимались. Завелись вши, и ее обрили наголо. Так мама в десять лет потеряла свои длинные, до колен, косы. Второй раз, когда ей было уже семьдесят, в роли экзекутора выступила я. Мыть такие волосы… “Режь!” – решительно сказала мама. О дяде вспоминала, глядя, как я нарезаю хлеб: “Так же тонко, как и он”. И заключала: “Жадный был, очень”. И еще о нем. С отвращением помнила о бочонках с засоленной рыбой в его подвале. В ее семье рыбу не ели, просто не ели. «Даже во время голода». Голод унес их младшую. Умерла от туберкулеза.
На чудом уцелевшей фотографии 30-х бабушка снята с не похожими друг на друга дочерьми. Они были разными во всем. В маме – нечто утонченное, в Эдие – чувственное. “Господи, – вздыхала бабушка, – и в кого она только пошла?”
В довоенном Крыму остались ее отличные отметки, первое место на конкурсе песни (была даже фотография на обложке журнала) и несостоявшийся жених, ставший семейным анекдотом. В самый разгар сватовства он спросил свою мать: “Можно сходить пописать?”
На маме – как на старшей – был весь дом. Ей удалось закончить только начальную школу. Видимо, были способности к языкам: владела русским (писала – как слышала, смело употребляя латинские буквы). Во время оккупации Крыма, в 40-е, заговорила по-румынски и по-немецки.
Папа с мамой встретились на танцах в 37-м. Ей было 17, он – на десять лет старше. На браке настояли ее родные: “За ним, как за каменной стеной”. Так оно и было. Какое-то время мама работала на вышивальной фабрике. Но недолго. Самый большой стаж в ее трудовой жизни – несколько месяцев на одном месте. Ревнуя, папа “увольнял” ее отовсюду. Позже, в 70-е, работая вместо нее дворником, “заработал” ей пенсию.
Моего деда по отцовской линии звали Али. Самый богатый человек деревни Биели, он владел двадцатью гектарами садов, на которых вместе с наемными работниками трудились старшие из его детей. Жена родила ему восьмерых, но в живых осталось только шестеро: трое мальчиков и три девочки. Старшего, моего отца, назвали Сафет (от араб. сабит – стойкий, твердый). Был он рыжеват, с глазами редкого янтарного цвета. ”Круглый год мы ходили в налын. Кожаную обувь купил себе уже в городе”, – рассказывал папа. Налын, обувь на деревянной подошве, очень напоминающая японские гета, папа сделал мне в детстве. Летом ходить в них было сплошным удовольствием. Но зимой? Дед жил так, как испокон веков жили до него.
Он спас свою деревню во время страшного голода в 20-е. Все остались живы. В период коллективизации односельчане его раскулачили. Деньги в банке были конфискованы, земля – национализирована. Все, чем он владел, осталось в его родной деревне. На телегу с лошадью погрузили младших детей и какие-то пожитки. Уехали навсегда и в никуда.
Я не знаю, как и когда они очутились в городе. Устроиться на работу папа сумел только после того, как официально, через газету, отказался от своих родных. “Сын за отца” отвечал. Думаю, что решение было принято на семейном совете. По-другому было не выжить.
Все, что он зарабатывал, тайком переправлял родным. Если бы об этом узнали, однозначно лишился бы работы. Доносы были нормой.
Мастер-немец обучил папу столярному делу. Вскоре он работал по самому высокому разряду. После войны, уже в Узбекистане, он так и не сумел официально это подтвердить. Здесь он работал плотником. Все архивы сгорели во время войны. Сидящим без дела его вообще не помню. После основной работы “одевал” дома: полы, потолки, окна, двери. Все было сработано на совесть. Усто (узб.) – мастер – уважительно называли его узбеки. Умел многое: стриг, чинил обувь, ремонтировал электроприборы и пр., и пр.
В 30-е годы будущих студентов набирали среди передовиков-рабочих. Так папа стал студентом Качинского летного училища. Прыгал с парашютом, совершал самостоятельные полеты. Донос земляка о его кулацком происхождении положил конец его карьере летчика. Небо любил самозабвенно. Всегда провожал и встречал меня в аэропорту, несмотря на мои протесты.
Благодаря ему знаю несколько венгерских слов. Говорить на венгерском так же, как на русском и румынском, выучился во время войны. На войне был с 24 июня 1941 г. по сентябрь 1945 г. В августе 41-го недалеко от деревни Малаеш попал в окружение. Оружие их эшелону, направляющемуся на Бессарабский фронт, не успели выдать…
Сидел в лагерях для военнопленных на территории Румынии и Венгрии. “Вшей с себя собирали горстями. В туалет ходили раз в десять дней”. Лагерь для военнопленных находился в какой-то деревне, в трех километрах от Капошвара, на территории Венгрии. В него он попал после форсирования Дуная с территории Югославии, в направлении на Бездай. Батальон стал живой подсадной уткой. Сразу после переправы попали под бомбежку немецких самолетов. В этой мясорубке уцелело пять человек. Их взяли в плен, окружив шестью танками, солдаты Власовской армии. Позже на свой запрос я получила ответ из архива о том, что Алиев С.Б. погиб при форсировании Дуная. В лагере его, рыжеватого, с типично еврейским носом, пытались расстрелять немцы. Выручили земляки-татары.
В марте 1945 г. в три часа ночи лагерь эвакуировали в течение пятнадцати минут. Примерно около двадцати человек сумели спрятаться. Части Красной Армии освободили пустой лагерь только на третьи сутки. Оставшиеся в живых проверялись особым отделом. Практиковались ложные расстрелы. “Когда меня поставили к стенке, мне было уже все равно. Так измучили меня допросы”. Не мог смотреть фильмы о войне.
Его память поражала меня. Уже в перестройку крымские татары стали требовать независимости. На всякий случай шла проверка достоверности фактов их участия в войне. И папа в свои 78(!) вспомнил все даты, цифры, топографические названия. Я сверяла последние с географической картой тех мест, где он воевал. Все было точно.
Победа застала его в городе Санкт-Пельтен, где команда в десять человек охраняла лагерь французских и итальянских военнопленных. В Хирово, в Польше, находился фильтровочный пункт СССР. Здесь ему выдали документы и отправили в Узбекистан. Видя его недоумение, цинично объяснили: “Вашему народу, так пострадавшему во время войны, решили дать отдохнуть в Узбекистане”. По приезде в кишлак, где жили его родители, комендант по спецпереселенцам отобрал его документы, заявив, что они ему больше не понадобятся. Подвалы ГБ он знал не понаслышке. Били. Требовали признаться, на какую разведку работает.
Советскую власть ненавидел. Доходило до абсурда: “болел” исключительно за соперников СССР. Систематически слушал “Голоса”, мало что воспринимая в силу плохого знания литературного русского. Помню его признание: “Воспользоваться возможностью остаться мне и в голову не приходило… Ощущение дома пришло, как только пересекли границу с Польшей”.
Моя продолжительная переписка с военными ведомствами по восстановлению его статуса как участника войны ни к чему не привела. Только в 1980 г., после обращения в редакцию газеты “Красная Звезда”, папе выдали долгожданное удостоверение.
Судя по рассказам мамы, вначале румыны, а затем немцы вели себя в Крыму по отношению к местному населению достаточно корректно. Хотя ни евреи, ни цыгане расстрелов не избежали. Большинству цыган удалось спастись – выдали себя за татар. В период депортации их выслали, как татар, вместе со всеми. Греков, болгар и “русских” немцев эта участь постигла раньше всех – в самом начале войны. Татары распознавали цыган мгновенно. “Фараунлар (тат.)”, – называла их мама. “Фараоново племя».
В самом начале войны мама работала в столовой. Пряча под отбросами еду, носила ее военнопленным в лагерь. Там случайно встретила своего двоюродного брата-моряка. Позже была отправлена в трудовой лагерь, рядом с морем, где мылись и стирали всем скопом.
Дедушка уже жил со своей семьей. Выжил, вернулся, но стал сильно пить. В их небольшом домике жили на постое вначале румыны, затем немцы. Пользуясь их незнанием татарского, дед поносил их как только мог. Однажды нарвался. Офицер-румын ответил ему на чистейшем татарском: “Вы думаете, что мы здесь по своей воле?” Румын оказался этническим татарином. Дедушка побелел от страха. К счастью, все закончилось благополучно.
В 44-м Крым был освобожден советскими войсками. В апреле власти провели перепись населения. Мама сопровождала военных как переводчик. Один из них ей явно симпатизировал. В ночь на 18 мая каждый дом был окружен автоматчиками. Во избежание беспорядков мужчин тут же отделили от женщин и детей. На сборы дали двадцать минут. Из домов выносили даже лежачих больных. В одном из военных мама узнала своего знакомого. Она высказала ему все. Он ответил, что был не вправе предупреждать кого-либо. Ей же разрешил вернуться в дом вместе с отцом и взять что-нибудь для ее пятилетней дочери. Прошло чуть более часа, а дом был уже разграблен русскими соседями. Взяли кое-что из того, что еще оставалось. Всех погрузили на грузовики. Люди знали: их должны расстрелять. Скорее всего, там, где расстреливали евреев. Но грузовики, не останавливаясь, проехали дальше. На вокзале уже были готовы товарные составы. Тот же военный предупредил: “Садитесь в эти вагоны. Они идут на Урал. Там – промышленность, там вам легче будет выжить”.
Так семья мамы попала на Урал. И мама, и ее сестра знали русский, их оставили работать на бумажном комбинате. Те, кто не знал языка, валили и сплавляли лес. Там и гибли: кто на лесоповале, а кто – на Каме.
На Урале Надя жила отдельно. Метаморфозу имени объясняла тем, что не хотела судьбы младшей сестры отца. Та, Эдие, покончила жизнь самоубийством. “Крутила” роман с двумя одновременно: с сероглазым пермяком и темноволосым румыном. Бросила их обоих и уехала вместе со своими. Папа отыскал свою семью только в 47-м. Вызов от папы из Узбекистана пришел незадолго до смерти деда. На сорок первый день собрались в дорогу. Ехали долго. Посевы хлопка, увиденные из окна вагона, приняли за фасоль. Вначале жили в кишлаке. С огромным трудом удалось переехать в город. Место проживания было своеобразной резервацией. Без разрешения коменданта передвигаться с места на место запрещалось категорически. Инфекционные болезни, голод добивали вновь прибывших. У мамы обнаружили тяжелейшее заболевание кишечника. Папе удалось спасти ее. Все его заработки уходили на ставшую панацеей слегка прожаренную печень. Урал сказался на артрите ее суставов. В 50-е всех, кто не работал, сгоняли на сбор хлопка. По домам ходил управдом, для которого чудовищно распухшие колени моей мамы не были аргументом. Через некоторое время, выйдя замуж, тетя Надя родила мужу-узбеку светловолосую, сероглазую девочку. “Представь себе, ни я, ни бабушка, мы даже не догадывались, что она была беременна уже на Урале”.
Бабушке с мамой по секрету призналась, что это дочь румына. “Аллам (Господи – тат.), но ведь ребенок – точная копия пермяка”, – недоумевала мама. В романтичную схему любви румын вписывался лучше. Позже ее дочь получит в отчество имя румына.
Жизнь для тети Нади была сплошным праздником. Гуляла и пила (мусульманка!), болела венерическими болезнями. Своего единственного ребенка, еще в пеленках, сбросила на руки бабушке. Брошенные и, даже случалось, обворованные ею мужья продолжали ее любить и надеяться на возвращение. Не один раз сидела. В основном – за растрату казенных денег. Обожала работать на публику. На последнем суде громогласно сказала мне: “Передай дочери, пусть продаст фамильные бриллианты!”. Бриллиантов никто в семье в руках не держал никогда. Все, что было ценное, снесли в Торгсин во время голода.
Вдохновенно врала. Маму это ее своеобразие злило чрезвычайно. Их редкие встречи заканчивались ссорами. Любила широкие жесты: “набеги” совершала только с друзьями и подругами, которые обитали неделями в нашей одной комнате. Благо лето длилось почти девять месяцев. Ночевать можно было и под открытым небом.
Разыскала, привезла и оставила на маму парализованного дядю – брата их отца. Только через полгода родная дочь перевезла его к себе.
Жили скученно, вчетвером (к тому времени уже появилась я) в одной комнате. Большой байский двухэтажный дом был поделен на отдельные комнатки-квартирки. Удобства – во дворе, баня – в десяти минутах ходьбы, вода – через дорогу. Роптать не было принято. В свою первую двухкомнатную квартиру мама переехала за семь лет до смерти.
Бабушка с моей кузиной жили отдельно в том же доме. Дочь тети Нади выросла красивой, истеричной и избалованной. Бабушка могла дать ей только свою любовь и мизерную пенсию. “Принцесса в обносках” так и не простила матери ни своего сиротства, ни своего нищего детства. Та доживает свои страшные дни старого и очень больного человека в полном одиночестве.
В последний свой приезд к ней я вдруг заметила их с мамой похожесть: те же тонкие черты лица, изящная линия носа и манера складывать маленькие кисти рук.
Их дед был в родстве со знаменитым крымским разбойником Али. Может, из-за этого свою фамилию мама так и не сменила на папину. Любила читать. Папа, по его собственному признанию, прочел только две книги: букварь и “Легенды и сказки Крыма”. Как-то после “Мольбы” Параджанова мама спросила, сложив руки на животе: “А теперь объясни, что мы поняли”. Прекрасно чувствовала неродной русский. Попробовав мою шарлотку, констатировала: “Это не шарлотка, это шарлатанство”. Ее русские пословицы загоняли меня в тупик. “У кого бы торчало, а твое молчало”. Мне удалось добраться до истоков: “Чья бы корова мычала…”. “Но я же тебе говорила то же самое!”
Я всегда знала, что похожа на маму, а мама – на бабушку. Как-то двоюродный брат отца стал меня пристально рассматривать. Заметив мое смущение, сказал: “Я смотрю на тебя, а вижу его мать”. Меня это удивило. И потом знаменитый еврейский нос папы достался его старшей. Дядя покачал головой: “Ты – ее копия”. Может быть, именно поэтому я была папиной любимицей. Сказывалась и разница в тринадцать лет между старшей сестрой и мною. Она взрослела без него. Папа оставил в Крыму трехлетнего ребенка, встретился с десятилетним.
Своим высшим образованием мы обе обязаны только папе. В ответ на выпад зятя об отсутствии приданого у моей сестры ответил: “Ее приданое – образование”. В 50-е годы, в условиях жесткого лимита на прием крымских татар в вузы, его дочь поступила в медицинский институт. Ему это стоило бесплатных плотницких работ в огромном новом доме. Опять-таки содействие доброго папиного знакомого, не взявшего с него за это ни копейки, позволило мне поступить в университет. “Ты помнишь дом, в котором мы жили? Так вот, он мне приснился”. Крым жил в их снах. Там осталась их жизнь. Уже потом, в 70-е, в родном городе папы – Бахчисарае – им, узнав, что они татары, отказали в гостинице. В Карасубазаре в их доме жила бывшая соседка. Встретились, всплакнули. “Свою кофемолку я узнала сразу же, как только увидела”, – сказала мама.
Возвращение на родину стало для отца идеей фикс. Переехать самостоятельно даже после того, как в перестройку были сняты всяческие препоны, было сложно. Переезд требовал огромных материальных затрат, мы же всегда жили бедно. Папа забросал письмами (писала я, и страшно это дело не любила) все официальные инстанции Крыма. Добился, чтобы его поставили в очередь на казенную квартиру. После развала Союза все эти хлопоты сами собой забылись. Уже после смерти родителей, в апреле 1999 г., я увидела во сне, как мама что-то втолковывает папе, а он отмахивается: “Все суета сует”. На следующий день на его имя пришло письмо из мэрии г. Белогорска (бывшего Карасубазара, где они жили до войны), согласно которому папа должен был до марта того же года получить украинское гражданство. В противном случае его отлучат от перерегистрации в очереди ветеранов войны. “…И всяческая суета”.
В Крыму была единственный раз. Полуостров был мне чужим. Задуматься о том, кто я, меня заставили события 2 мая 1990 г.
В тот вечер, возвращаясь из гостей, случайно оказалась рядом. Не показались странными ни свернутые шеи светофоров, ни люди, запрудившие проезжую часть. Начала что-то понимать, увидев, как два подростка указывают в мою сторону пальцем, возбужденно приговаривая: “Рус, рус” (узб. – русская, русская). Масла в огонь добавил случайный прохожий, посоветовавший мне бежать отсюда во избежание изнасилования (было употреблено нецензурное выражение). На этой площади была только часть толпы, пытавшаяся разбить камнями окна хакимата.
Основная лавина шла целенаправленно громить армянские и еврейские кварталы. На проспекте, по которому она двигалась, хватало домов, где жили неузбеки. Кое-где были выбиты стекла, не более. Петардами взрывались будки “Газированная вода”, горели, потрескивая, мастерские сапожников, подожженные по маршруту следования. Их владельцами традиционно были армяне и евреи. Это был хорошо спланированный погром. Людей выгоняли на улицу, их дома грабили, а затем поджигали. Были редкие случаи изнасилования. Варварская акция преследовала другую цель: липкий страх физического уничтожения должен был согнать с насиженных мест людей, которые возомнили, что это их Родина. Сразу после этих событий начался массовый исход. Моя записная книжка напоминает кладбище, где вместо надгробий – адреса и телефоны.
До сих пор не знаю, как я дошла до своего дома, находящегося в пяти минутах ходьбы от площади. Весь наш огромный дом, расположенный вдоль дороги, девяносто процентов жителей которого были узбеки, затаившись, темнел окнами всю эту страшную ночь. После полуночи та же толпа хлынула обратно уже по нашей улице. Движение не прекращалось до трех-четырех часов ночи. Стражи правопорядка появились только на следующий день. Улицы пустели задолго до введенного комендантского часа – люди боялись выходить из дома. В официальную версию о вандалах – футбольных болельщиках не верил никто.
Я запретила себе бояться где-то на третий день. Мои родители жили с этим страхом всю свою жизнь. Мне досталось, не в пример им, совсем мало. В последний раз?».
Анализ текста
Императивом для написания этой автобиографии выступает, скорее, отрыв от повседневности, хотя здесь мы найдем тематизации повседневности, структурированной через традицию этнической группы. То, что выделяет судьбу семьи А.А., – опыт сталинских репрессий. Мы знаем благодаря историческим изысканиям, насколько массовиден был этот опыт, затронувший самые различные национальности бывшего Советского Союза, но его распространенность не превращает биографию, отмеченную опытом репрессий, в социальную норму, не легитимирует ее. Поэтому на первый взгляд факт обращения к собственной семейной истории через призму репрессий может означать ее понимание как исключительной, экстраординарной, достойной внимания других (в смысле, употребленном Мартиной Бургос). Но последняя страница автобиографии выносит на поверхность события не клановой, но личной истории рассказчицы, которые имеют преемственность со сталинскими репрессиями благодаря фактору этнических чисток. В первой редакции текст А.А. содержал фразу-образ: «Я перебираю в памяти жизни моих родных, как четки, – бусину за бусиной». Эти символические четки – рассказ – также имеют структуру круга: судьба родителей, изломанная в сталинскую эпоху по причине национальности, имеет преемственность в переживаемых их дочерью испытаниях, опять же связанных с инородностью. Проблематика «свой – чужой» актуальна для всех упоминаемых в рассказе поколений, только ее наполнением могут выступать этничность, культурный капитал, социальный статус, пол.
Повседневность здесь не исчезает, она видна, как нити между бусин, она связует яркие события, имеющие интерсубъективное значение (раскулачивание, война, лагерный опыт, переселение, голод и т. д.), создавая нарративный фон, позволяя читателю вжиться в проживаемые события и занять определенную позицию. Именно включение в рассказ повседневности, имеющей столь малый статус в классической истории, апеллирует к эмоциям, чувствам читателя, побуждая к сопереживанию (или к отторжению), приближая к альтер эго рассказчицы. Это погружение в определенном смысле противоречит необходимости занять исследовательскую позицию по отношению к тексту: трудно анализировать то, с чем идентифицируешься благодаря переживанию. Тем не менее сам стиль рассказа не лишен отстранения (признание в отрывочности, неумении слушать, нарративная свернутость некоторых пассажей, граничащих по лаконичности с сообщением, периодическое пренебрежение к хронологии, местами избегание оценок и выводов, коды отдельных отрывков). Функционально ли такое отстранение для автобиографии А.А.? Как нам представляется, поиск ответа на вопрос, центральный для каждой истории жизни, – как я стала такой, какая я есть, – осуществляется здесь на балансе кажущихся равноценными упоминаний о пережитых событиях и фрейма (рамочного смысла), который задан в начале рассказа коннотацией имени матери со словом «свобода» и приобретен/поддержан в конце заключительным запретом себе бояться происходящего. То, что было дано (родителями, традицией, Богом – кем угодно), будет возвращено. В такой приблизительно жанровой формуле нам рассказана эта автобиография.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.