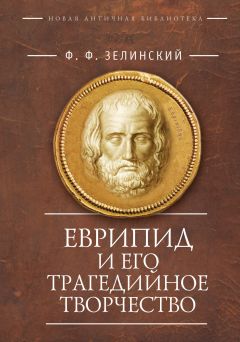
Автор книги: Фаддей Зелинский
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 32 страниц)
Я не касаюсь здесь того вопроса, сколь широко истолковал редактор Ф. Ф. Зелинский свое право приводить текст в соответствие с состоянием науки, – границы этого не поддаются определению в формальном договоре по такому делу, как посмертное издание, – я хочу только сказать, что исчезновение из вышедшего тома Еврипида многих строк моего отца явилось для меня полною и скорбною неожиданностью.
Примите, милостивый государь, уверение в совершенном уважении.
Валентин Анненский.
3) «Новое Время» 16 января 1917 г.
Милостивый государь. Так как вы дали место в вашей уважаемой газете письму О. П. Хмара-Барщевской, глубоко меня тронувшему, и вызванной им статье В. В. Розанова, касающихся моей деятельности как редактора исполненного покойным И. Ф. Анненским перевода Еврипида, то я покорнейше прошу вас поместить в одном из ближайших номеров и настоящий мой ответ.
Он будет краток: более обстоятельное обсуждение затронутых обоими указанными лицами вопросов я предполагаю дать в предисловии к II тому Еврипида, который на ¾ уже набран и выйдет, надеюсь, весной. Конечно, мне было бы желательно, чтобы это обсуждение несколько облегчило то чувство боли, которое причинила г-же Хмара-Барщевской моя редакционная работа над переводом ее покойного свекра; не льщу себя однако надеждой, что это мне удастся в полной мере. Есть область, в которой интересы безусловного родственного пиетета, исключительно представляемые автором письма, и интересы дела, которому служил покойный и служу я, органически непримиримы.
В одном пункте могу успокоить ее теперь же, единственном конкретном, которого она коснулась в своем письме. Она возмущается тем, что я в алфавитном перечне трагедий Еврипида предложенное покойным заглавие одной из них, а именно «Умоляющие», заменил заглавием «Просительницы». «Для русского уха, – пишет она, – есть (тут) большая разница в нюансах, может быть, и незаметная для г. Зелинского». Ее опасения напрасны: предложенное покойным заглавие будет удержано как подзаголовок при издании самого перевода трагедии, т. е. в IV томе; но для алфавитного перечня я предпочел, по практическим соображениям, заглавие «Просительницы». Дело в том, что это заглавие у нас установилось: оно имеется, чтобы не ходить далеко, в вышедшей только что вторым изданием «Истории греческой литературы А. и М. Круазе в переводе В. С. Елисеевой под редакцией проф. С. А. Жебелева» (стр. 289), а им обоим г-жа Хмара-Барщевская не откажет, надеюсь, в «русском ухе» и способности разбираться в незаметных, «может быть», для меня нюансах русского языка. Таким образом, пользующийся трудом покойного Иннокентия Федоровича, естественно, будет искать трагедию под соответственной буквой в IV томе – пусть же он ее там и найдет.
Ф. Зелинский.
4)
Многоуважаемый Василий Васильевич!
Простите меня, но я должен возвратить вам ваши упреки. «Неосторожность» и (невольно и косвенно) «неделикатность по отношению к памяти И. Ф. Анненского» допустили вы, а не я – допустили тем, что слишком поспешно предали гласности более чем неосторожное и неделикатное письмо О. П. Хмара-Барщевской.
Ее я, впрочем, не виню; напротив, ее беззаветная преданность покойному меня глубоко трогает. Но из-за нее она совершенно не в состоянии оценить сложность той задачи, которая выпала на долю мне. В самом деле – что ей Гекуба – Еврипида и сам Еврипид? Он интересен для нее лишь постольку, поскольку он переведен Иннокентием Федоровичем; тут, действительно, каждая строчка ей дорога, и всякое изменение хотя бы йоты из того, что написано Иннокентием Федоровичем, причиняет ей глубокую боль. Пусть этого повелительно требуют интересы Еврипида, с одной стороны, интересы читающей публики – с другой; какое ей дело до всего этого? Посмотрите, как мило она поучает меня об «основном мнении поэта-переводчика», что «поэтический перевод древнего классика должен вызывать те же эмоции, какие трагик умел вызвать в своих слушателях»; ей и в голову не приходит, что для того чтобы проверить этот принцип на практике, надо немножко знать, какие эмоции Еврипид вызывал в своих слушателях, каковое знание она вряд ли станет приписывать себе. В этой авторитетности, с которой она читает мне эту элементарщину, якобы неизвестную мне, скрыто столько наивной дерзости, что пришлось бы только развести руками – но тут опять вспоминаешь, кто это пишет и под влиянием каких чувств. Нет, положительно я ее не виню; напротив, дай Бог каждому такую невестку.
Но вы, Василий Васильевич, вы покойному не брат и не сват и не невестка; вы – друг русского просвещения. И вам Иннокентий Федорович дорог именно как вложивший в него «дорогую жемчужину»; почему же вы, прежде чем предавать гласности письмо жалобщицы и совершить этим нечто непоправимое, не спросили меня, хотя бы по телефону, о причинах, мною руководивших? А если бы вы, исполняя до конца свое «невольное дело», почтили меня своим посещением – я бы с документами в руках сообщил вам такие данные, из которых вы бы поняли, 1) что я безусловно прав, 2) почему мне тем не менее затруднительно оправдываться гласно.
Вы говорите, что «в примечаниях следовало восстановить полностью слова самого Иннокентия Федоровича»; позвольте вам доложить, почему я этого не сделал и не сделаю. В I томе мне пришлось перевести заново всего 929 стихов; это составляет в издании Сабашниковых 3 печатных листа. Но это не всё. Из отвергнутых мною стихов покойного значительная часть отвергнута по неправильности в отношении греческого текста: в ограждение себя я должен объяснить, почему считаю их неправильными. Прибавьте для этого не менее двух листов; спрашивается, по какому праву заставим мы публику покупать этот для громадного большинства совершенно ненужный балласт?
Но это только одна причина, достаточная, но не главная. Главная же та, что, печатая подряд все неудачные стихи покойного, я произвел бы убийственное для него впечатление. Вот это и есть то, что связывает меня перед гласностью: я не хочу порочить память покойного.
Совершенно конфиденциально сообщаю вам4141
И все-таки теперь печатаю: как увидит читатель из приведенного под № 5 письма в редакцию В. В. Розанова, теперь уже нечего было хранить не мною обнаруженную тайну.
[Закрыть] как человек, тщательно взвесивший каждую строчку изданного мною перевода и сверивший ее с оригиналом: перевод этот довольно-таки слаб. Как филолог покойный не находился на высоте своей задачи; как поэт он, без сомнения, на много голов выше меня – но борьба с филологическими трудностями его задачи не дает развиться его вдохновению, Еврипид у него большею частью тлеет, а не горит, и только здесь и там вспыхивает. Читатель это не всегда замечает; зная Иннокентия Федоровича как талантливого поэта, он склонен поставить слабость перевода в счет автору, а не переводчику, и вот это и есть то, чего я никак допустить не мог и не допущу.
А впрочем, дело поправимо. То, чего не сделал я, может и теперь еще сделать г-жа Хмара-Барщевская. Ведь из 19 трагедий Еврипида 12 уже изданы покойным при его жизни и, стало быть, без моей редакции; пусть она из них выберет забракованные мною стихи и издаст их в приложение к моему труду – и для вящей внушительности с моим текстом en regard. Уверяю вас, лучшей апологии своей редакторской деятельности я и желать себе не могу. Но уверяю вас также, что это было бы крапивным венком на могилу покойного.
Теперь вы видите, что вы сделали, обнародовав письмо г-жи Хмара-Барщевской. Вы поставили меня лицом к лицу с дилеммой: «либо подчинись навету, что ты неделикатно поступил с памятью покойного – либо, спасая себя, топи его репутацию как переводчика». Пока я послал в «Новое Время» краткий ответ, в котором отсылаю читателя к обстоятельному, имеющему появиться во II томе. Но я не знаю, удастся ли мне вывернуться из этой дилеммы.
Для меня редакция наследия покойного была тяжелым долгом – тем более тяжелым, что она отодвинула на несколько лет составление тех книг, которые должны были занять закат моей жизни, – истории античной нравственности, истории античных религий и др. Их я хотел написать потому, что они нужны и что я их написать могу; г-жа Хмара-Барщевская в этих побуждениях ничего не смыслит, иначе она не стала бы приписывать мне погоню за лаврами, да еще чужими. Но пусть лавры – не думаете ли вы, что названные сочинения принесли бы мне таковых больше, чем редакция чужого труда?
Вы отчасти оценили трудности, с которыми мне приходится бороться, но именно только отчасти. Сидишь над переводом, сверяешь – видишь: нет, не то. Стараешься махнуть рукой: пусть, не я же переводил! Нельзя; совесть ноет все сильнее и сильнее. Русский читатель привык доверять мне; если я как редактор удостоверю, что это Еврипид, – ну, значит, это и есть Еврипид. А между тем я знаю, что это не Еврипид, что это какой-то слабый лепет, в котором едва слышен могучий голос греческого трагика, а иногда и прямое извращение его мысли. Совесть побеждает; начинаешь сначала легкими поправками восстановлять соответствие с Еврипидом. Бьешься, бьешься – ничего не выходит. Наконец, приходишь к убеждению, что необходимо вычеркнуть десяток стихов и перевести все место заново. И это – мое занятие уже третий год и будет моим занятием еще несколько лет. Из-за него я отложил те книги, о которых я писал выше.
Вот, думается мне, где истинный пиетет; ведь награды мне не будет никакой. Именно потому, что я «стер границы между Иннокентием Федоровичем и Фаддеем Францевичем», читатель все хорошее, что найдет в переводе, поставит в счет Иннокентию Федоровичу, а не мне. Сделать все возможное, чтобы перевод покойного мог постоять за себя перед судом и науки и поэзии, – вот как я понимаю свою задачу. А то, чего от меня требует г-жа Хмара-Барщевская, – это, разрешите мне эту катахрезу, медвежий пиетет.
Вот истинное положение дела. Можете ли вы теперь, как melius informatus, отойти в сторону – это я предоставляю вашей собственной совести. Что я сделаю, этого я, повторяю, сам еще не знаю. Постараюсь, как и всегда, щадить репутацию покойного. Но, с другой стороны, я не могу допустить ни пылинки на моей редакторской чести. Тут никакие компромиссы невозможны – l’honneur pour moi.
Искренно преданный Вам
Ф. Зелинский.
P. S. Ничего не имею против того, чтобы вы сообщили вашей подзащитной мое письмо.
5) «Новое Время» 24 января 1917 г.
Профессор Ф. Ф. Зелинский после опубликования письма родственницы покойного И. Ф. Анненского касательно редактирования им переводов последнего трагедий Еврипида прислал мне обстоятельное письмо, где выяснил все мотивы такого именно редактирования, а не другого. Мотив следующий: сумма поправок перевода заняла бы около двух печатных листов в томе, и он не хотел покупателей «Трагедий» Еврипида вводить в уплату за печатный материал, для читателя (кроме родственников И. Ф. Анненского) совершенно не нужный. Поправки вызывались недостаточно тонким знанием греческого языка И. Ф. Анненским и пиететом редактора более к Еврипиду, нежели к русскому его переводчику, хотя и прекрасному поэту и вообще человеку, достойному тоже всякой памяти и всякого к себе почтения и благоговения. Профессор Зелинский совершенно справедливо говорит, что он годы потратил на редактирование чужого труда, проверку его по оригиналу, – что потребовало неизмеримой кропотливой работы, – вместо того чтобы посвятить закат жизни любимым уже задуманным трудам, которые – если вопрос идет о «венцах» – принесли бы ему гораздо более их, нежели глухая безвестная роль редактора, где его личный труд уже падал в полную безвестность, ибо оставалось везде имя одного И. Ф. Анненского. Мотив этот не только справедлив, но и глубоко уважителен. Роль «редактора» всегда зачеркивается «временем»; а какая это подчас безумно трудная работа! Ночи…
годы ночей… Я предложил уважаемому профессору все это изложить в предисловии к следующему тому перевода Еврипида, оговорив, что все-таки собственные слова И. Ф. Анненского следовало бы сохранить, для памяти его, – печатая петитом, компактно и без всяких мотивов расхождения с ним, что не потребует на том более ¼ листа. Но нахожу справедливым, чтобы обо всем этом инциденте, раньше выхода нового тома Еврипида, узнала и та обширная читающая публика, к коей Еврипид, может быть, и не попадет в руки и перед которою по понятным мотивам профессор Зелинский вовсе не желает быть несправедливо обвиненным. Письмо его в ближайшие дни я перешлю г-же Хмара-Барщевской, к коей и к мотивам скорби ее он сохраняет все уважение. Вообще все дело пришло в ясность – в хорошую нравственную ясность, – и это показывает, что письмо г-жи Хмара-Барщевской все-таки следовало напечатать. Оно не пошатнет, а только еще более укрепит значение Фаддея Францевича в области эллинизма, для которого он так много, так энергично и так всесторонне работает.
В. Розанов.
Я от души благодарен избранному г-жой Хмара-Барщевской арбитру В. В. Розанову за обнаруженную им объективность и готов признать, что предложенный им исход – печатать забракованные стихи петитом и компактно (т. е. не как стихи, а непрерывно) – значительно обезвредил бы оба усмотренных мною изъяна: объем был бы доведен до минимума, а репутация покойного от этого набора слабых стихов не пострадала бы уже потому, что их никто не стал бы читать. Будет ли этим исходом удовлетворена г-жа Хмара-Барщевская – это другой вопрос. Она ведь считает все стихи покойного верхом совершенства и полагает, что я их мог только исказить; будет ли она довольна тем, что я, печатая мои искажения со всем изяществом сабашниковских изданий, свалю превосходный оригинал непочтительно в одну беспорядочную кучу? Я поэтому (и также потому, что означенный исход только в значительной части обезвредит указанные изъяны, а не совсем) остаюсь при своем первоначальном предложении. Пусть О. П. Хмара-Барщевская вместе с В. И. Анненским сами издают со всем изяществом, которое им вменит в обязанность их пиетет, все забракованные мною стихи Анненского – их в I томе, повторяю, 929, во II около 1500, в III столько же и т. д.; вместе они составят целый том. Если «читатели» действительно, как предполагает г-жа Хмара-Барщевская, сгорают нетерпением узнать, «как сказал Иннокентий Федорович», – значит, они этот том и купят, а наследники покроют свои расходы. Кажется, предложение настолько справедливо, что и сам Соломон не придумал бы лучше.
Вернемся, однако, к пиетету. Г-же Хмара-Барщевской «не верится, что Фаддей Францевич действительно искренно хотел бы, чтобы с его наследием поступили так же». Верится ей или не верится, но не может же она отрицать того, что это мое желание действительно напечатано в конце предисловия к I тому и что, печатая его, я дал моему наследнику соответственное право. Но я охотно верю, что ей не верится: она ведь не понимает другого пиетета, кроме того, который я выше катахретически назвал «медвежьим».
Как я понимаю пиетет, это я тоже сказал выше: не жалея трудов, сделать все возможное для того, чтобы труд покойного мог постоять за себя перед судом и науки, и поэзии. Успел ли я в этом? Пусть судят другие; я же сошлюсь на следующий несомненный факт.
Покойный Иннокентий Федорович сам выпустил 6 переведенных им трагедий в 1906 г. в издании «Просвещения»; эта книга так и осталась в продаже в «каком угодно» числе экземпляров.
В 1916 г. появляется под моей редакцией новое издание переведенных Иннокентием Федоровичем трагедий в коллекции М. и С. Сабашниковых – и уже в три месяца, в три летних глухих месяца все издание распродается, причем этот быстрый успех обращает на себя внимание даже периодической печати (ср. статью г. Полферова в одном из осенних номеров «Биржевых Ведомостей»). И в связи с ним оживляется несколько продажа и издания 1906 г.: заинтересованная Еврипидом, публика обращается и к нему.
Чем объяснит г-жа Хмара-Барщевская эту разницу? Сравнительной ли ценою обоих изданий? Но ведь наше издание дороже4242
Цена начатого в 1906 г. издания: 3 тома по 6 р. – 18 р.; цена нашего: 6 томов по (минимум) 3 р. 50 к. – 21 р.
[Закрыть]. Или разницей издательств? Но ведь и «Просвещение» пользуется доверием публики и выпустило много ходких книг. Нет, как ни изворачивайся, а приходится скрепя сердце признать, что высмеиваемое г-жой Хмара-Барщевской «химическое соединение» более пришлось по вкусу читающей публике, чем подлинное издание 1906 г.
Теперь ставлю вопрос: как же мне следовало поступить? Идею г-жи Хмара-Барщевской я знаю: у меня были бы в руках «подготовленные» ею, как она говорит, «к печати» трагедии. Взять хотя бы тех «Гераклидов», с которых начинается настоящий том. Очень бережно переписан весь черновик покойного, все неправильные стихи; где листки были утеряны, там редакторша заполнила пробелы французским прозаическим переводом Леконта де Лиля, так что русские стихи чередуются с французской прозой. Как видит читатель, новый Еврипид был бы по этой идее много хуже старого; если уже тот 11 лет дремал в подвалах «Просвещения», то какова была бы участь этого?
Я по этому пути не пошел – и не пойду. Все хорошее, что было у Иннокентия Федоровича, я сохранил, все изъяны и пятна, поскольку мог, устранил и, тоже поскольку мог, заменил тем, что мне казалось хорошим; г-жа Хмара-Барщевская может сколько угодно иронизировать над моими «исправлениями» – они были оценены по достоинству и знатоками дела, и публикой. В одном я действительно успеха не имел: я хотел, памятуя о нашей дружбе, ввести мои исправления молча и незаметно для читателя; хотел, чтобы все хорошее, что найдется в переводе, было поставлено в счет покойному, а не мне. Это мне не удалось. Сначала сын покойного в контракте требует, чтобы все изменения были «оговорены»; и когда я, чтобы по возможности обезвредить это обидное для памяти покойного требование, ограничиваю его исполнение голым перечнем цифр, в надежде что он отпугнет читателя своей сухостью, – тот же сын вместе с невесткой протестуют против этой непонятной для них деликатности: извольте выписать забракованные стихи, пусть все воочию убедятся, как плохо писал Иннокентий Федорович, а знатоки, сверх того, – как плохо он понимал Еврипида. И добро бы они обратились с этим требованием ко мне лично или через общих друзей или знакомых – нет, они прямо начинают с того, чем хорошие люди обыкновенно кончают, с обращения к суду, к суду гласности. Ну, что ж, никто как свои. Я ли гонялся за чужими лаврами? Наоборот, я хотел незаметно собственные листики вплести в венок моего покойного друга и сподвижника, чтобы он вышел полнее и красивее. Их не хотят – беру их обратно: мне их стыдиться нечего.
Это – личная сторона, пиетет. Есть, однако, и другая – сторона дела. Как ни любил я покойного – я все-таки счел бы принесенную ему жертву чрезмерной, если бы, принося ее, не служил заодно и дорогому для меня делу – делу, для которого мы жили оба, которые мы оба называли «Славянским Возрождением». Слава Богу, оно осуществляется, хотя и медленно, и именно поразительный успех нашего Еврипида – один из многочисленных симптомов этого осуществления. Посмотрите на умножающиеся томы нашей коллекции, посмотрите на многие труды наших сподвижников – все это наши полки, все это армия Возрождения. Мы ведем ее в бой, а не на зимние квартиры; слабосильные команды нам не нужны. Личный интерес в расчет не принимается; выбор должен быть беспощаден. Если стих слаб, вял, увечен – вон его:
Ибо не будет сей муж стойким в военной грозе,
как сказал в схожей обстановке Тиртей. И хотя г-же Хмара-Барщевской и «не верится», я все же повторяю: эту строгость прошу применять и ко мне. Созданное мною должно пережить меня, я этого желаю; но лишь постольку, поскольку оно хорошо, а не поскольку оно мое. И если после моей смерти найдется самоотверженный друг, который не пожалеет времени и труда для того, чтобы и мое наследие «могло постоять за себя перед судом науки и поэзии» – я его заранее приветствую и благодарю.
Ф. Зелинский.
Петроград, май 1917
V. «Гераклиды»(«Сентиментализм» и «реализм» в древнегреческой политике)
I
«Сентиментальная» и «реальная» политика – в наши дни военной завирухи и бурных политических переговоров эти термины сплошь и рядом мелькают на столбцах газет, причем самый их подбор показывает, на чьей стороне симпатии говорящего. Рука Рока вот уже третий год держит поднятыми железные весы; каждому предоставлено бросить свою гирю на ту или другую чашку. Куда же он ее бросит? Если он ставит свое решение в зависимость от того, на чьей стороне правда, куда его зовет благодарность, или долг, или родственные узы, – его политика зовется сентиментальной. Напротив, если он руководится исключительно сравнительной величиной и обеспеченностью могущей быть выговоренной награды, тогда он гордо величает себя реалистом.
Непосредственное преимущество реализма так очевидно и осязательно, что мы с трудом представляем себе даже возможность возникновения «сентиментальной» политики. Баланс одинокого деяния и, пожалуй, даже всех деяний одного поколения ее положительно не оправдывает; не оправдывает ли ее, однако, совокупность всех политических деяний последовательно сменяющих друг друга поколений и тот их молчаливый бессознательный баланс, которым обусловливается народное нравственное самочувствие, народное душевное здоровье, крепость, жизнеспособность? Увы! Еще не народился тот мудрец, который бы его подвел и выразил в ясных численных отношениях. Но мы смутно сознаем, что именно в этом направлении следует искать разрешения и этой, и многих других мучительных загадок; и мы с участием внимаем голосу из далекой старины, который с нами о них говорит.
В данном случае это голос Еврипида; я разумею его трагедию «Гераклиды». Спешу оговориться, что эта трагедия в художественном отношении – самая слабая во всем его наследии; сохранилась она нам случайно и, как читатель увидит, очень неудовлетворительно. Но если к ней отнестись с той точки зрения, которая здесь выдвинута, – интерес к ней мгновенно вырастет и, переносясь от исходного политического вопроса к самой трагедии и лежащему в ее основе мифу, оправдает и более или менее внимательный разбор всего, что в ней содержится. Дело в том, что, как видно из некоторых хронологических соображений, – Еврипид написал эту трагедию в первые же годы Пелопоннесской войны. И пусть читатель не улыбается: захваченный этой войной район был по современному масштабу крошечный, но зато это было местопребывание мыслящей и чувствующей души тогдашнего мира, родоначальницы также и нашей души. А потому та война может по праву быть названа мировой войной. Недаром ее историк называет ее «великой и самой замечательной из всех, что были до нее», основываясь на том, «что оба противника были в полной готовности, что прочие эллины примкнули к тому или другому из них, причем одни с самого начала, другие же после некоторого выжидания». Примкнули… По каким соображениям? Сентиментальным или реальным? Борьбу между ними мы легко можем себе представить. И вот в самый разгар этой борьбы Еврипид бросает на весы Рока свою гирю – своих «Гераклидов». В другое время человек в его положении написал бы этико-политический трактат, в еще другое – произнес бы парламентскую речь или напечатал журнальную статью – Еврипид мог говорить только устами агонистов и хоревтов театра Диониса. Отсюда следует, во-первых, что политическая идея родила художественную поэму, но во-вторых, как уже было замечено, что художественность здесь – дело второстепенное, красивая оболочка этико-политической идеи. Будем же благодарны поэту за эту красивую оболочку – и выразим свою благодарность тем, что последуем за ним в тот мир доисторической саги, из которого обычай велел брать сюжеты для трагических поэм.
II
Гераклиды – это само по себе бледное звено между великим прошлым и великим будущим: они – сыновья Геракла, они же – родоначальники царей доисторического Пелопоннеса и прежде всего Спарты. Для нашей трагедии они важны в обоих этих значениях – и в этом ее первый и самый крупный художественный недостаток. Дети Геракла очень симпатичны афинянам; поэт озаряет их в первых действиях самыми яркими лучами своей и всеобщей любви; но вот трагедия близится к концу – и внезапно освещение меняется: точно изнанка Дагерровой диафании вырисовываются перед нами ненавистные поэту черты родоначальников пелопоннесских владык. Линии смешиваются, скрещиваются, и в общей смуте чувств тонет эстетическое действие трагедии. Впрочем, об этом речь еще впереди.
Пока Гераклиды для нас – дети Геракла. Где были они, когда их родитель умирал на костре Эты, исцеляя добровольной смертью неисцелимую язву Нессова плаща? По Эсхилу – в его «Гераклидах» – тут же, при нем, в этейском Трахине. Да и могло ли быть иначе? Вспомним, как было дело. В счастливом браке с Деянирой в аргосском Тиринфе Геракл приживает целый ряд детей начиная с Гилла (Hyllos), которому было около двадцати лет в день его смерти. Но вот его охватывает роковая любовь к эхалийской царевне Иоле; сватовство, отказ и затаенная злоба; коварное убийство Ифита, брата Иолы, навестившего его по старой дружбе в Тиринфе; изгнание из Тиринфа нечестивого убийцы вместе с его домом. Отныне Геракл с семьей в разлуке. Семья – т. е. Деянира с детьми – находит приют в Трахине, что на Эте, близ Фермопил; для Геракла наступает искупительное рабство у Омфалы, за которым следует поход против Эхалии, пленение Иолы, ее отправление в его новый трахинский дом, отчаяние Деяниры, Нессов плащ, смерть на костре. Ясно, что Гераклиды должны были быть тогда при нем, в том же Трахине. Так это и изобразил Эсхил в своих «Гераклидах», которые по содержанию соответствовали «Трахинянкам» Софокла.
Софокл в этой трагедии вначале тоже следует мифопее своего предшественника; это видно из того места, в котором старая няня Деяниры советует ей послать кого-нибудь из сыновей на поиски пропавшего без вести отца:
Детей я столько вижу у тебя:
На поиски хоть одного пошли ты —
И первым Гилла.
Но в дальнейшем ходе трагедии, при приближении смерти героя, наличность стольких детей показалась поэту стеснительной: он ведь уклонился от пути своего предшественника, образовавшего из Гераклидов хор своей трагедии. И вот он, слегка противореча своему первоначальному плану, на страстное требование обреченного Геракла:
Скорей, мой сын, – отца уж потерял ты —
Ко мне всех братьев призови, ко мне
Несчастную Алкмену, что напрасно
Избранья удостоилась Кронида, —
заставляет сына отвечать:
Ах, мать твою хранит Тиринф надбрежный;
Твоих детей при ней же часть живет,
Другие в Фивах; налицо лишь я.
Самовольно ли он изменил традицию? Нет, мы можем доказать, что он имел перед собой самостоятельные ее варианты, и притом два: один тиринфский, другой фиванский. Всего, значит, с трахинским три.
Пусть читатель не думает, что это – сухая антикварная ученость. Дело в том, что Еврипид в своей трагедии попытался объединить все три варианта; чтобы оценить его попытку, мы должны сначала проследить их развитие каждого в отдельности.
Итак, первый вариант – Гераклиды в Трахине. Здесь их вождем был, так как с Гераклом умерла и Деянира, старший из братьев, Гилл. Царь трахинский Кеик, оказавший гостеприимство семье Геракла во время его изгнания, не прочь был оказать его ей и после его смерти; но аргосский (или микенский, все равно) царь Еврисфей потребовал их выдачи; чтобы ее избегнуть, они должны были удалиться. Куда? Увидим.
Второй вариант – Гераклиды в Тиринфе. Здесь, как видно из выписанных слов Софокла, о них пеклась их бабка Алкмена, мать Геракла. Тирану Еврисфею, к области которого принадлежал Тиринф, нетрудно было провести в народном собрании приговор, присуждающий их к смерти, причем юридическим основанием, вероятно, было то, что они были детьми нечестивого убийцы гостя – Геракла; но они спаслись бегством и обратились… Куда? Опять-таки увидим.
Наконец, третий вариант – Гераклиды в Фивах. Фиванцы имели свой самобытный миф и о Геракле, которого они считали своим, и о его детях. Согласно этому мифу, ближайшим другом героя был некто Иолай, имя которого своим созвучием с именем Иолы нас так же озадачивает, как и имя Парисова брата Елена своим созвучием с именем его жены Елены. Как бы то ни было, этот Иолай был представлен племянником Геракла и тем не менее, в чем заключается вторая странность, его ровесником. И даже не ровесником, а человеком много старше его: в момент смерти своего друга он был уже глубоким старцем. Конечно, фиванцы отказались выдать Еврисфею детей Геракла; в ответ на их отказ аргосская рать двинулась против города Кадма. Опасность была велика; и вот престарелый Иолай обратился к богам с неслыханной молитвой. Он просил на один только день вернуть ему молодость – за нее он готов был заплатить всем остатком своих дней. Его просьба была услышана: во главе своей дружины Иолай сразился с войском Еврисфея, отсек ему голову и победителем вернулся в Фивы. На следующий день молодость вместе с жизнью оставила его; фиванцы с великим почетом похоронили его тело в гробнице его деда Амфитриона и с тех пор ежегодно справляют в честь него агонистический праздник Иолаи, считают его национальным героем и у его могилы заключают союзы дружбы. О выдаче детей Геракла по этому варианту, конечно, не могло быть и речи.
Думаю, что вопрос о сравнительной красоте этих трех вариантов не возбудит сомнений. Только один из них запечатлен действительно печатью поэзии; это – фиванский. Остальные – бесцветные повествования хрониста. Кто же был поэтом этого варианта? Пиндар, фиванец, кратко намекает на него в IX пифийской оде, за что и спасибо ему – иначе мы бы ничего о нем не узнали. Но его намек предполагает более ранний, обстоятельный рассказ; кто был его автором? Мы должны оставить этот вопрос открытым; впредь, до обнаружения более красноречивых улик, будем называть его «поэтом фиванского варианта».
Оба других варианта вряд ли вдохновили поэтов; это были местные предания, память о которых поддерживалась, вероятно, местными святынями и была увековечена в старых хрониках.
III
Об Афинах до сих пор не было речи; а между тем они приписывают себе выдающуюся роль в спасении Гераклидов. Первое красноречивое свидетельство о ней мы находим в историческом сочинении Геродота. Перед Платейским сражением (в 479 г.) афиняне и тегеаты спорят из-за чести занимать один из обоих флангов; представители обоих городов приводят в защиту своих прав и старые и новые подвиги. Между прочим афиняне заявляют: «Когда Гераклиды были изгоняемы всеми эллинами, к которым они обращались, дабы избегнуть микенского рабства, – мы одни их приняли и свергли насилие Еврисфея, вместе с ними победив тогдашних пелопоннесцев». Было бы рискованно помечать это свидетельство 479 годом – Геродот сам сочиняет речи своих героев, – но во всяком случае оно древнее трагедии Еврипида.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































