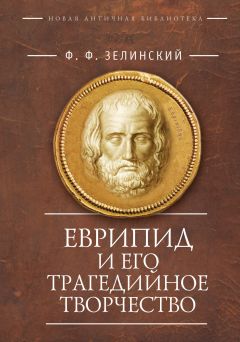
Автор книги: Фаддей Зелинский
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 32 страниц)
При чтении Эсхила, Пиндара, Геродота мы убеждаемся, что в те времена люди действительно еще сознавали филономически. Человек чувствовал себя заодно с предками и потомками; ныне живущие особи – по красивому сравнению Эсхила – точно поплавки погруженной сети: они на плоскости современности дают свидетельство о тех своих предках, которые уже погрузились в глубь прошлого; через них эти последние живут, без них их уничтожение было бы полным. И это биологическое бессмертие было для эллина нашей эпохи куда важнее того эсхатологического, которое обусловливало веру в обитель Аида. Говоря о том, как боги наказали вероломство Главка, Эпикидова сына, Геродот с особым ударением заявляет, что нет теперь его потомков, нет его «очага» на земле: ничто не может сравниться с горем той души, у которой отрезали поплавок, соединявший ее с миром света и жизни.
Понятно, что эта непосредственно сознаваемая связь и солидарность поколений не могла не создать особой этики, отличной от той онтономической, которую исповедуем мы. Чтобы понять ее, вернемся к нашему дереву и его ветвям; сведем число последних, ради схематического упрощения, к трем.
Во-первых, нижняя. Она уже потемнела, отчасти даже пожелтела; она еще гибка, но вы чувствуете, что этой гибкости хватит ненадолго. Для экономии дерева она уже не нужна; вы можете уже теперь ее сломать, предупреждая осенние бури, и остальное дерево ничуть от этого не пострадает. Мы не знаем остальных ее нравственных принципов, но с биологической точки зрения она поистине имеет «право на смерть».
Во-вторых, средняя. Она распустилась на солнце самой богатой, самой яркой зеленью; претворением сока, производимым реакцией света, она питает не только себя, но и все дерево, являясь носительницей его жизненных сил, залогом его существования. Имеет ли эта ветвь «право на смерть»? Нет, конечно: природа, равнодушная к судьбе ветвей, но ревнивая к сохранению дерева, возложила на нее тяжелый подчас долг: «долг жизни».
Наконец, верхняя. Ее нежная, мягкая хвоя еще неспособна питать дерево; она сама питается им. Ее потеря еще не грозит дереву скорой гибелью – быть может, оно даже вовсе не погибнет. Быть может, преобладающая сила средней ветви создаст новые отпрыски, которые обеспечат дальнейшую его жизнь. Но его рост во всяком случае будет задержан: «долг жизни» поэтому лежит отчасти и на ней.
IV
Все сказанное относится к героям «Алкесты»: имя нижней ветви – Ферет, средней – Адмет, верхней – Евмел. Мы раньше неправильно выразились: «умри за меня» – никогда Адмет этого отцу не говорил. Его молчаливое ожидание сводилось к словам: «Умри за наш дом. Ты можешь это сделать, я – нет: у тебя есть право на смерть, на мне лежит долг жизни». И, конечно, чувствуя так, он не эгоист – это слово совершенно неуместно там, где часть говорит от имени того целого, носительницей которого она является. И, конечно, он прав.
Да, прав, но только с точки зрения филономической морали. Пусть в обществе под влиянием индивидуализма филономическое сознание ослабнет – и дело Адмета предстанет в ином свете. Именно эпоха Еврипида была эпохой возникновения онтономического сознания: конфликт, немыслимый раньше, стал возможен теперь. Носителем онтономиче-ской идеи Еврипид выставил старца Ферета. Всем грекам было памятно циническое слово, которое он говорил сыну:
Сам любишь жизнь ты, кажется; в отце
Зачем признать любви не хочешь той же?
«Той же» – с онтономической точки зрения, да. Но стоит взглянуть на дело с филономической точки зрения – и неправда этого заявления станет очевидной. Нет, не той же любовью любит жизнь тот, кто наполняет ею лишь свои собственные вянущие жилы, и тот, кто через себя переливает ее в своих детей и их детей, в весь этот поток будущего, смутно сознаваемый в самых сокровенных недрах человеческой души. Ферет не чувствует этой разницы; Адмет ее чувствует, но выразить не может – как не может ее выразить и сам Еврипид: сила абстракции до этого еще не дошла. Одно для него ясно: человек, который бы отказался пожертвовать последними каплями своей жизни для того, чтобы купить себе биологическое бессмертие, – невозможен. Если Ферет пренебрег тем залогом бессмертия, тем поплавком на поверхности времен, который он имеет в лице Адмета, – то потому только, что Адмет в действительности для него таким поплавком не был. Другими словами: Ферет в действительности ему не отец. Отсюда его слово:
Когда
Над головой висела смерть моею,
Ты не пришел, старик. Ты пожалел
Остатком дней пожертвовать. Зачем же
Над юностью, загубленной тобою,
Теперь приходишь плакать? Обличен
Перед людьми достаточно; едва ли
Ты даже был отцом моим, старик, —
справедливо остановившее на себе внимание переводчика. И можно поручиться, что слушатели Адмета чувствовали с ним заодно; в этом нас убеждают надгробные надписи отцов на могилах сыновей с их постоянно варьируемым припевом» «я похоронил здесь того, которому следовало бы меня похоронить».
Но при чем же здесь Алкеста, героиня трагедии? Она и словом и делом за филономическую концепцию жизни. Она жертвует собой за Адмета вовсе не потому, чтобы она соглашалась с той сравнительной оценкой мужской и женской жизни, которую мы потом услышим из уст Ифигении:
Ведь один ахейский воин стоит нас десятков тысяч.
Те слова были сказаны перед походом, а война действительно обесценивает женщину в сравнении с мужчиной-воином. Нет; но Алкеста чувствует, что для дома Адмета она менее нужна, чем Адмет: ее смерть будет раной для дома, смерть Адмета – его гибелью. И вот почему, умирая, она запрещает – это слово здесь уместно – Адмету вступать во второй брак. Дело тут вовсе не в посмертной женской ревности: совершенно напротив. Там, где Алкеста прощается с брачным ложем, там, где она думает исключительно о своей любви к своему молодому мужу, – там она находит мысль о преемнице вполне естественной: пусть бы только эта преемница так же любила Адмета, как она!
О ложе, ты, что брачный пояс мой
Распущенным увидело, – прости!
Я не сержусь, хоть только ты сгубило
Меня; тебе и мужу изменить
Боялась я и, видишь, – умираю.
Другой жене послужишь ты; она
Верней меня не будет… разве только
Счастливее.
Но стоить ей вспомнить о детях – и ее мнение меняется. К преемнице она равнодушна, но мачехи своих детей не допускает. Почему? Именно потому, что она умирает не за Адмета, а за его дом, и даже не за его дом, а за их общий дом, залог также и ее биологического бессмертия. Она желает, чтобы волна жизни перелилась через Адмета в его потомство, но она желает также, чтобы каналами были ее дети. А при мачехе это невозможно: она, конечно, постарается, чтобы соки жизни Адметова дома потекли через ее с ним детей и чтобы дети Алкесты завяли и засохли как преждевременный, бесплодный отпрыск. Прочтите ее предсмертное обращение к мужу: как здесь каждое слово дышит этой безотчетно чувствуемой филономической концепцией жизни!
Отцом и матерью ты предан… Смерть
И так над ними уж нависла; ты же,
Ты был один у них. И умереть
Они могли бы честно, уступивши
Тебе сиянье солнца: на других
Детей у стариков ведь нет надежды…
И я могла бы жить, да и тебе
Оплакивать жены б не приходилось,
С сиротами вдовея… Видно, так
Кто из богов судил… Да будет воля
Его… А мне одно ты обещай.
О мзде прошу – но равной: ведь ценнее
Чем жизни дар, у человека нет…
Ты скажешь сам, Адмет, что справедливо
Желание мое… Люби детей,
Как я люблю их! Ты ж их любишь? Правда?
Ведь не безумец ты… О, сохрани
Для них мой дом! Ты мачехи к сиротам
Не приводи, чтоб в зависти детей
Моих она, Адмет, не затолкала,
Не запугала слабых… И змея
Для пасынков ее не будет злее.
Да, на этой почве возможен конфликт; а где конфликт, там и трагедия. Одно только нехорошо: для этой трагедии развязки нет. Для развязки пришлось ввести новое лицо, Геракла, и новый мотив, гостеприимство, и этим раздвоить трагедию; конфликт разыгрывается между отцом и сыном, сама же героиня остается в стороне. Для полной и единой трагедии пришлось бы сделать героиню носительницей той другой, онтономической концепции жизни; другими словами – заменить проблему Алкесты проблемою Медеи.
V
Действительно, в наличности этого конфликта – главная разница между Медеей Еврипида и всеми позднейшими. Все позднейшие поэты перевели проблему Медеи на онтономическую почву; при этом Медея получилась правильная – она и у Еврипида была онтономисткой – но Ясон пропал. Male gratus Iason – вот формула для его характера у Овидия, да и раньше.
Для нас, согласно сказанному, проблема Медеи вырастает из проблемы Алкесты. Ясон – тот же Адмет, черта в черту. Ферета нет – он и не нужен, так как представляемая им идея обрела носительницу в героине. Зато та преемница, о которой думает Алкеста, введена в драму; за нее на сцене говорит ее отец, Креонт. Дети героя, как эмблема дома, нужны: они тут же на наших глазах. Ну, а Алкесту сменила Медея.
Чтобы понять значение этой перемены, прочтем внимательно ту сцену, в которой Ясон отвечает на упреки Медеи (действие II, сцена 7):
Отвечу
По поводу женитьбы. Поступил,
Во-первых, я умно, затем и скромно1717
То есть не руководимый побуждениями чувственности, не под влиянием новой любви, как представляла себе дело Медея.
[Закрыть]
И, наконец, на пользу и тебе,
И нашим детям. Только ты дослушай.
Когда из Иолка цепью за собою
Сюда одни несчастия принес я —
Изгнаннику какой удел счастливей
Пригрезиться мог даже, чем союз
С царевною? И ты напрасно колешь
Нас тем, жена, что ненавистно ложе
Медеи мне и новою сражен
Я страстию.
Женился
Я, чтоб себя устроить, чтоб нужды
Не видеть нам – по опыту я знаю,
Что бедного чуждается и друг.
(Задушевно.)
Твоих же я хотел достойно рода
Поднять детей, на счастие себе,
Чрез братьев их, которые родятся.
(Замечу между скобок, что я тут изменил смысл переводчика: у него к последним трем стихам стоит ремарка: «стараясь придать голосу задушевность». При моем понимании Ясона как представителя филономической морали я не нуждаюсь в гипотезе притворства, которая в данном случае исключается также и сценой с детьми, о которой см. ниже. Не притворяется тот, кто чувствует свою правду за собой.)
Характерен ответ Медеи:
Честный
Уговорил бы близких и потом
Вступил бы в брак, а ты сперва женился…
Ясон
Скажи тебе заранее – сейчас
Ты так бы и послушалась!
А вот Алкесте Адмет сказал все заранее, и она послушалась. Будь здесь вместо Медеи Алкеста – Ясон сказал бы ей: «Наш дом требует от нас жертвы – и ты прекрасно знаешь, что для меня эта жертва много тяжелее, чем для тебя. Теперь он разрушен, иолкское царство потеряно, мы – изгнанники, живем чужою милостью, у наших детей нет надежды на будущее, нет для них равного брака; они заглохнут на чужбине, и вскоре не будет в Элладе того, который хранил бы память о доме Эсонидов. Чтобы поднять его, есть одно средство: тот брак, который мне предлагают с дочерью коринфского царя Креонта, не имеющего сыновей. Конечно, его царства наши с тобой дети не унаследуют – оно принадлежит по праву тому сыну, которому предстоит родиться от нового брака, будущему внуку царя Креонта. Но зато как сыновья правителя страны, а затем как старшие братья будущего царя они будут первыми в Коринфе вельможами, а вместе с ними будешь возвеличена и ты». И, конечно, Алкеста поняла бы его. Искренность же этих соображений достаточно доказывается обращением Ясона к детям, на которое я уже не раз ссылался:
Вам же, дети,
При помощи богов я доказать
Свои заботы долгие надеюсь.
Когда-нибудь меж первыми людьми
Увижу вас в Коринфе – через братьев,
Которые родятся. А пока
Растите, детки, – дальше ж дело бога,
Коль есть такой, что любит нас и наше.
Даст бог, сюда вернетесь в цвете сил
И юности, и недругам моим
Покажете, что расцвели недаром…
Но, конечно, не Медее понять эту инстинктивную заботу о доме Эсонидов, живущую в сердце теперешнего носителя его жизненных сил. Что ей этот дом? Она безжалостно разрушила дом своего отца ради Ясона; она знает только одно чувство – любовь к этому человеку:
Все, что имела я, слилось в одном,
И это был мой муж.
Меря также и его на свою собственную, онтономическую мерку, она не может себе объяснить его поступка иначе как предположением, что он разлюбил ее ради соперницы. Отсюда и первоначальный план ее мести:
Чтобы отца и дочь, и мужа с нею
Мы в трупы обратили…
О детях ни слова; правда, она местами и им грозит, но просто потому, что они ей опостылели, как дети Ясона, а не для того, чтобы их убийством уничтожить его. Эта последняя мысль вырабатывается у нее мало-помалу, по мере того как она рассудочно убеждается в неправильности своего первоначального предположения о причинах Ясоновой измены…
Я нарочно подчеркнул слово «рассудочно»; Медея не была бы Медеей, если бы она когда-либо могла сердцем и инстинктом постигнуть Ясона и его филономическую мораль – тогда вся идея мести как беспричинной отпала бы сама собой. Но нет: она продолжает чувствовать и волить онтономически, она по-прежнему дышит местью, и новое откровение действует на нее лишь постольку, поскольку оно определяет собой выбор средств и орудий мести. А, ты не о собственном счастье мечтал? Тогда и убивать тебя нечего. Ты мною пожертвовал за свой дом? Разрушим же этот дом, и настоящий и будущий, оставляя в живых Ясона, чтобы он видел и чувствовал крушение своих надежд.
Новое откровение… Она слышит его впервые из уст Ясона (выписанные выше слова), и оно на минуту озадачивает ее: отсюда ее на первый взгляд странное возражение: «Отчего же ты мне этого раньше не сказал?» – которое Ясон разбивает тотчас безусловно правильным ответом: «Да разве ты была бы в состоянии меня понять?» Но это – впечатление минутное, и она тотчас же заглушает его онтономическими соображениями, вызывающими справедливое презрение ее мужа. Но вот новый фактор действия – сцена с Эгеем… Я не согласен с переводчиком в его понимании Эгея: «это – полный контраст Ясону и по натуре, и по характеру ума, и по положению в драме»; по-моему, это – тот же Ясон, такой же филономист. Если он порицает Ясона, то потому только, что Медея представила его поступок в неправильном, онтономическом свете:
Эгей
Да сделал что ж Ясон? Скажи мне прямо.
Медея
Он взял жену – хозяйку надо мной.
Эгей
Он не посмел бы, нет. Постыдно слишком.
Медея
Вот именно он так и поступил.
Эгей
Влюбился, что ль, иль ты ему постыла?
Медея
Должно быть, страсть – измена ж налицо.
Эгей
Так бог же с ним, коль сердцем он так низок.
Зато значение всей сцены с Эгеем для дальнейшего действия Иннокентий Федорович оценил совершенно правильно. Пока Эгей говорит о своем горячем желании иметь детей, он заставляет Медею думать о том, как Ясону должны быть дороги его сыновья. Мысль о том, чтобы лишить его этой радости, из области бессознательной потребности переходит у Медеи, под влиянием слов и настроения Эгея, в форму сознательную, и когда афинский царь уходит, Медея дает не только себе, но и хору отчет в этом преступном желании. Только выражения подобраны онтономические, мысль же совершенно правильная. Действительно, всмотримся в слова Эгея, где он обещает Медее гостеприимство в Афинах:
Нам
Заманчиво и обещанье (Медеи) сделать
Меня отцом. Я весь ушел душой
В желанье это, им я весь захвачен.
Ведь право же, они, по крайней мере, двусмысленны. Какие у молодой, красивой Медеи имеются средства, чтобы сделать женатого Эгея отцом? Различные… и в том числе то, которое на языке Медеи называется «изменой». Эгей не побоялся этой двусмысленности; почему? Да потому, что ему действительно все равно: он «весь ушел душою» в одно желание – иметь детей, продолжить род Пандиона далее той особи, которой имя – Эгей.
Сравните с этой исповедью филономизма исповедь Медеи:
Все, что имела я, слилось в одном,
И это был мой муж —
и разница станет очевидной. Да, положительно, такие оригиналы есть, и Ясон один из них. Теперь он стал ей понятен, когда она увидела его нравственный облик в зеркальной душе Эгея, и ясным стало для нее ее решение:
Сама Ясонов с корнем
Я вырву дом.
Совершенно верно: так она и должна была выразиться.
VI
И она победила – и притом не в одной только трагедии. Филономическая концепция человека и жизни, филономическая мораль никогда, даже в древности, не развились в систему. Оно и понятно: для одних они не нуждались в доказательствах, для других – были недоказуемы. Одни – это «люди» в полном смысле слова: они чувствуют, сами не отдавая себе в этом отчета, что они теперь несут факел жизни, переданный им их предками, и что их долг – передать этот факел своим потомкам так, чтобы он пылал не с уменьшенной, а с увеличенной силой; они чувствуют, что в них сосредоточено будущее всей их породы и что от них зависит повести эту породу по восходящей или же по нисходящей ветви. Это – ни с чем не сравнимое, гордое сознание; аристократизм, если хотите, но аристократизм биологический, существенно отличный от сословного.
«Другие» – это люди-одиночки, люди-атомы. Они не будут непременно эгоистами, о нет: они способны любить отца, мать, друга, жену, детей – но это будет любовь к непосредственно видимому, а не та мистическая, к далекому претворению своего естества в непознаваемом будущем, к его бессмертию на земле.
Филономическая мораль недоказуема – оттого-то она и пошла на убыль тогда, когда люди стали интересоваться доказательством морали, что случилось именно в эпоху Еврипида. Это бы ее еще не погубило – круг людей, доступных доказательству, даже у греков не составлял всего народа. Она погибла тогда, когда ее идеал – биологическое бессмертие – был заменен другим, бессмертием эсхатологическим. Это последнее проповедовалось уже в древнюю эпоху ревнителями разных мистических культов, но восторжествовало оно благодаря христианству. Оно повсюду провозгласило «бесконечную ценность» одинокой человеческой души; оно окончательно вытравило из сознания людей восходящую ветвь породы и ее бессмертие на земле. Оно не прочь было даже самую породу обречь на исчезновение: «брачущиеся поступают хорошо, небрачущиеся – лучше». Надо было явиться антихристу, питомцу античности, для того, чтобы «любовь к земле наших детей» стала вновь понятна людям…
Однако мы увлеклись основательно – и это по поводу двух только трагедий. Полагаю, впрочем, что это увлечение разделят все читатели новой книги: уж таков Еврипид… и таков его переводчик.
1907
Из «Сказочной древности»
Аполлон, желая явить людям яркий пример очищения от пролитой крови, пожелал сам годичной службой искупить кровь змея Пифона, которого он убил, основывая свое дельфийское прорицалище. По его воле его отец Зевс отдал его в рабскую службу фессалийскому царю Адмету. Это было хорошее время для фессалийского царя: его стада процветали под чудесным надзором бога, но и его самого он любил за его благородство и кротость. И он пожелал дать ему награду, какой еще ни разу не был удостоен смертный: спустившись в подземную обитель Мир, он уговорил Атропу отсрочить день смерти его хозяина.
– Согласна, – сказала Атропа, – Адмета минует Смерть, если в назначенный день его кончины найдется охотник умереть за него.
Аполлон принес царю это условие, и тот обрадовался, не подозревая, какое горе в нем таилось. Назначенный день наступил; кто согласится вместо Адмета променять свет солнца на безотрадную ночь обители Аида? Ни старик, ни старуха-мать не пожелали остатком своих дней выкупить цветущую жизнь сына; согласилась это сделать молодая жена, царица Алкеста…
Итак, Алкеста объявила, что согласна умереть за мужа. Пришедшая за душою Адмета Смерть увела с собою Алкесту, оставляя мужа в безутешной скорби. Теперь только он понял, какой горечью был отравлен сладкий дар жизни, принесенный ему от Атропы; он охотно бы отказался от него, но было уже поздно. И тем не менее он не только гостеприимно принял Геракла, но даже, чтобы тот не отказался от его гостеприимства, запретил рассказывать ему о том, какая жестокая потеря его постигла. Но исполнить это оказалось невозможным: нельзя было лишить челядь, боготворившую свою госпожу, права оплакивать ее смерть, а от челяди и Геракл узнал о случившемся. Он вполне оценил благородство своего хозяина, а так как ему, сыну Зевса, мир демонов был открыт, то он рассчитывал найти возможность вырвать Алкесту из цепких рук похитительницы Смерти. Его расчет оправдался, и он вернулся к Адмету, ведя за руку женщину, укутанную в густое покрывало.
– Сбереги мне ее, – сказал он ему, – она мне досталась в награду за тяжкий бой.
– Уведи ее к другим, – упрашивал его Адмет, – в мой дом уже не должна входить женщина после смерти моей Алкесты.
– Как? Неужели ты, человек еще молодой, предполагаешь всю жизнь провести вдовцом?
Адмет стал уверять его, что он до смерти соблюдет верность своей первой и единственной жене – и Геракл радовался при мысли, как приятно неузнанной Алкесте слышать эти слова. Наконец, кончая испытание, он сорвал с нее покрывало – и оба супруга вновь соединились для новой, уже ничем не омраченной жизни.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































