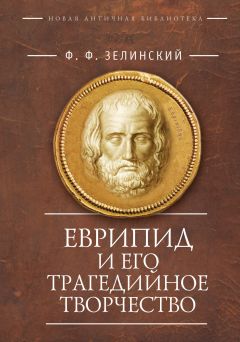
Автор книги: Фаддей Зелинский
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 23 (всего у книги 32 страниц)
Слово прозвучало: нашло ли оно сочувственный отклик в душе матери? Нет, конечно: все дальнейшее развитие действия в доме Атридов было бы невозможно, если бы она поверила вестнику. Все это ложь; достоверно лишь одно – что у нее обманом выманили ее дочь, чтобы ее кровью доставить удовлетворение Менелаю и вернуть на родину его распутницу-жену, теперь у нее осталась только одна цель жизни: месть за убитую дочь. И если теперь Эгисф возобновил свои коварные предложения – он мог быть уверен, что его, как будущего помощника в деле мести, примут с полной благосклонной готовностью.
Мы отметили те мотивы нашей трагедии, которые представляются доказанными и достоверными, и рядом с ними и те, которые можно назвать лишь предположительными.
В частности же мы должны, продолжая нить нашего развития, установить, что по первому пункту – относительно прегрешения Агамемнона – Софокл вернулся к киклической традиции, представляя жертвоприношение Ифигении как необходимое искупление его вины; это он сделал для того, чтобы по возможности выгородить микенского царя.
По той же причине он по второму пункту уклонился и от «Киприй», и от Эсхила, заменив северные ветры полным безветрием, а с ними и невозможностью для флота отправиться не только под Трою, но и домой, – положение должно было быть представлено прямо безвыходным.
Легкое изменение по третьему пункту – не Ифигения, а вообще прекраснейшая дочь Агамемнона – было последствием разрыва трилогической связи; раз Ифигения не была невестой Ахилла, имя Артемидиной жертвы было безразлично.
Тягостен для нас четвертый пункт – подчинение Ахилла. Но он соответствовал понятиям Софокла о воинском долге – можно сравнить роль его сына Неоптолема в «Филоктете» – и был именно в нашей трагедии облегчен тем, что сам Ахилл лично не выступал.
Решающим было уклонение от Эсхила (быть может, в пользу «Киприй») по пятому пункту: отправляя Ифигению в Авлиду одну, Софокл получал возможность сцену действия перенести в Аргос.
По шестому пункту, наконец, никаких изменений не было введено.
Решающим назвал я изменение по пятому пункту с его последствием потому, что оно дозволило поэту перенести психологический центр тяжести всей трагедии: «Ифигения» Эсхила была трагедией Агамемнона – «Ифигения» Софокла стала трагедией Клитемнестры.
Ее материнская любовь в обладании Ифигенией – ее материнская гордость при отправлении ее невестой Ахиллу – ее материнское отчаяние при вести о том, что она обманута, что ее дочь зарезали на алтаре, – вот три последовательные ступени в развитии ее характера. Рядом с ней Ифигения отступала на задний план как пассивный элемент трагедии.
А что сделал Еврипид? Прежде всего он соединил концепции обоих своих предшественников, отправляя Клитемнестру вместе с Ифигенией в Авлиду. Теперь можно было, уклоняясь от Софокла в пользу Эсхила, перенести действие обратно в ахейский стан. Первые сцены представляют нам трагедию Агамемнона, его душевную борьбу. Только ее направление обратное в сравнении с Эсхилом: поэт ведет своего героя не от отрицательного решения к положительному, а от положительного к отрицательному, и не Менелай переубеждает Агамемнона, а наоборот, Агамемнон, или, вернее, его несчастье заставляет Менелая отказаться от прежнего желания.
И то и другое решение одинаково тщетно. Дело свершилось; Ифигения с Клитемнестрой в ахейском стане, движения рока задержать нельзя. Трагедия Агамемнона сменяется трагедией Клитемнестры. Она развивается в трех последовательных сценах: первой сцене с Агамемноном, в которой радость и гордость матери зловеще окрашиваются трагедией Агамемнона, продолжающей глухо клокотать в его груди; сценой с Ахиллом, приносящей разочарование из уст старца, и второй сцене с Агамемноном, в которой последние надежды царицы разбиваются о каменную жестокость – не царя-отца, а рока.
Но Еврипид сделал еще больше: он к этим двум трагедиям своих предшественников добавил третью, свою собственную – трагедию Ифигении. Ифигения у него впервые из безвольной жертвы стала трагической героиней. То, к чему началом была Макария в «Гераклидах», продолжением – Поликсена в «Гекубе», нашло себе, наконец, полное осуществление в Ифигении. Она молода, прекрасна, она царевна; жизнь лежит перед ней сплошным золотым маревом. Теперь это марево облекается в плоть и кровь: у нее жених, и этот жених – лучший витязь ахейской рати. И вдруг – неизбежность смерти… второй акт трагедии. О, всё, только не это! Она раздавлена горем, она просит, умоляет. Но и смерть не нема: она дважды заявляет ей о своей правде, первый раз словом – устами ее любимого отца, другой раз делом – опасностью ее жениха. Положение достигло крайнего напряжения; кровь польется рекой, если она не уступит. И тогда она уступает. Ее охватывает мистический восторг самоотверженной смерти: в песни, полной религиозного экстаза – недаром «Ифигения» создана одновременно с «Вакханками», – она предвкушает награду за свое самоотвержение:
О, смотрите: Илиона
Победительница я!
Незадолго перед тем Софокл, написав своего «Филоктета» в противовес еврипидовскому, преодолел заключавшийся в нем элемент интриги: не волшебный лук, хитростью добытый его врагом, заставляет его идти под Трою – лук ему возвращается, и он все-таки идет. Теперь Еврипид совершает дело преодоления интриги в трагедии своего соперника: Ифигения Софокла, залученная в ахейский стан хитростью Одиссея, падает подневольной жертвой, венчая своей смертью здание его коварства, – Ифигения Еврипида, имея возможность спастись благодаря великодушию Ахилла, отказывается от этого средства и добровольно выбирает победоносную смерть.
* * *
Но кто она первоначально, эта Ифигения, не в литературной, а в религиозной традиции?
Ее имя – царственное: «мощно (т. е. к мощи) рожденная». Царственное – или, быть может, божественное? В религии, несомненно, последнее. Мы видели, что и литературная традиция с этим считается, сооружая мост между Ифигенией-царевной и Ифигенией-богиней в виде ее апофеоза милостью Артемиды. Но для религии апофеоз не был нужен. Ифигения и без него была богиней – была Артемидой-Ифигенией. Под этим именем ей служили в Гермионе, в ахейском Эгире – о Бравроне в Аттике (см. «Ифигению в Тавриде»).
Другими словами: Ифигения была, выражаясь технически, «ипостасью» Артемиды. Она как таковая дочь Агамемнона – очень понятно: ведь и Агамемнон первоначально был ипостасью Зевса, был Зевсом-Агамемноном. Она – сестра Ореста; это и подавно понятно: ведь Орест был ипостасью Аполлона.
Конечно, это область туманная: мы вступаем в святая святых греческой мифологии и религии, в круг идей, создавших догмат о богочеловеке. Его имена различны у различных племен Эллады, и различны те девственные богини, ипостаси которых ему даются в заветные невесты. Ахейский Ахилл связан с Афродитой и ее ипостасью Еленой; дорический Геракл – с Афиной и ее ипостасью Деянирой; Ясон – с (первоначально тоже девственной) Герой и ее ипостасью Медеей; Мелеагр – с Артемидой и ее ипостасью Аталантой. А при скрещении племен обязательно происходили и скрещения мифов; Ахилл прочнее всего привязан к ипостаси Афродиты Елене; но мы встречаем его в других изводах и в браке с Медеей (Ивик, Симонид, Ликофрон). Неудивительно поэтому, что он попал и в круг Артемиды – что Ахилл представляется божественным мужем обожествленной Ифигении (у Стесихора).
Такова религиозно-культовая ячейка, давшая в своем развитии патетический миф об Ифигении как невесте Ахилла и об Ифигении как жертве и любимице Артемиды.
Из «Сказочной древности»
…На следующий день благоприятные ветры, дувшие до тех пор, внезапно сменились противными: двинуться было невозможно. Стали ждать. Ожидание большого войска, сопровождаемое всеобщей праздностью, развращающе действует на души воинов: первоначальный пыл охладевает, появляется скука, недовольство, ссоры с товарищами, неповиновение властям… Обратились к Калханту: какой бог на нас разгневан? И как умилостивить его гнев? Калхант вопросил своих птиц, затем заклал богам овцу, внимательно стал наблюдать горение ее жертвенных частей и исследовал рисунок ее печени. Чем далее, тем мрачнее становилось его лицо.
Он отвел в сторону обоих Атридов и Одиссея.
– Все приметы, – сказал он, – сходятся в одном. Вы должны знать, что вся Авлида и прилегающее побережье посвящены Артемиде… И вот Артемида не дает нам попутных ветров и не даст их до тех пор, пока…
– Пока что?
– Пока ты, Агамемнон, не принесешь ей в жертву твоей старшей дочери Ифигении.
Слезы брызнули из глаз царя; негодуя, он ударил посохом о землю:
– Никогда этого не будет – никогда, никогда!
Никто не настаивал; присутствующие молча разошлись. На следующий день та же враждебность природы, тот же гнев богини. Распустить войско? Легко сказать: те же ветры, которые мешали плаванию в Трою, мешали и отплытию домой – как в западне сидели они в Авлиде. Настроение войска становилось прямо враждебным; попробуй он уйти – его бы не пустили. И видно, об одном они догадывались: что боги условием благоприятного ветра поставили то, чего царь исполнить не хочет.
Ничего не поделаешь; в предупреждение мятежа и братоубийственной войны необходимо исполнить требование богини. Агамемнон смиряется; как ни обливается кровью родительское сердце при мысли о предстоящем – неслыханная жертва должна быть принесена. Он посылает Одиссея со своим глашатаем Талфибием в Микены с письмом к Клитемнестре: «Я решил до отправления в поход отпраздновать свадьбу Ифигении с Ахиллом; пусть же она придет сюда с моими послами». Она приходит, но вместе с ней и Клитемнестра. Счастливая мать не пожелала отказаться от своего права самой выдать замуж свою дочь, самой нести перед ней свадебный светоч.
И мать, и дочь в палатке отца; он должен в довершение горя притворяться довольным, обрадованным, счастливым.
– Когда же свадьба?
– Завтра, но раньше я должен принести жертву Артемиде.
– И мне придется в ней принять участие?
– Да, и тебе, тебе особенно…
Но сети обмана непрочны: старый раб Клитемнестры подслушал разговор правителей, он предупреждает свою госпожу: не свадебный светоч, а нож жреца ждет ее дочь в Авлиде. Мать в отчаянии: к кому обратиться? Кто и мудр и честен? Один Паламед. Обманутая Одиссеем, она обращается к его злейшему врагу. Паламед в свою очередь извещает Ахилла: его невесту отправляют на заклание, пусть заступится! Но и Менелай не бездействует: он более всех будет посрамлен, если поход не состоится; он обращается к Одиссею. Теперь уже нечего соблюдать тайну: пусть войско узнает, что царь готов был исполнить волю богини и обеспечить хорошее плавание, а Паламед с Ахиллом ему препятствуют.
Да, теперь братоубийственной войны и подавно не миновать. И эта война будет не из-за Елены, проклятой всем ахейским народом: она будет из-за Ифигении. Что же должна была перечувствовать эта нежная, добрая, любящая дева? Вначале один только страх – страх перед ножом, перед смертью, перед мраком подземной обители. Об этом ли она мечтала, когда ее снаряжали сюда? Ей сулили свадьбу с прекраснейшим и доблестнейшим витязем всего войска, нечто невыразимо светлое, отчего ее сердце сладостно замирало… И вдруг – это… Нет, нет, это невозможно: все что угодно, но не это. И она стала цепляться за жизнь всеми силами своей молодой души.
Но вот она видит отчаяние отца. Он ли ее не любит? А все же он смирился, нужда сильнее его. Видит своего жениха; он, конечно, ее не покинет, заступится за нее – один против всех. И потечет кровь – из-за нее. Ужели это страшно? А наградой – согласие друзей, победа, слава – слава, какой еще ни одна девушка не стяжала. Она держит в своих нежных руках судьбу войны; она может стать победительницей Илиона, если захочет.
И она этого хочет! За отчаянием страха – опьянение славы. Она добровольно отдает себя в жертву за отца, за войско, за всю Элладу – она дарит богине свою молодую жизнь.
Распря вмиг прекращается; все подавлены величием дочери Агамемнона. Алтарь стоит, пламя пылает. Окропление, возлияние, всё по уставу. Вот и дева, одетая во все белое, поднимается по ступенькам на алтарь, окидывает всех прощальным взором… Такой была она и тогда, в Микенах, когда она исполняла застольный пеан перед друзьями своего отца; только тогда стыд, а теперь вдохновение окрашивает ее лицо. И Ахилл с таким же замиранием, как и тогда, следит за девой. Он во всеоружии; победоносное копье, пелионский ясень, в его руке, ей стоит призвать его – и он бросится на ее врагов. Но она и ему шлет ту же светлую, прощальную улыбку. Алтарь стоит, и дева на нем у самого края пламени. Вот и жрец приближается, острый нож сверкает в его дрожащей руке. Он поднимает его – дева подставляет свою белую грудь – все невольно опускают глаза.
Вдруг – густой мрак; глухой шум вонзающегося в плоть ножа, глухой шум падающего тела. Мрак проясняется; за пламенной стеной что-то горит, но что – не видно. Свершилось; нет Ифигении. Агамемнон подавлен горем, у Клитемнестры отчаяние приправлено дикой, необорной жаждой мести. Ее взоры, как две стрелы, вонзаются в сердце мужа: о, будешь ты помнить жертвоприношение в Авлиде!
* * *
А на небесах, высоко, незримо для смертных, мчится окрыленная колесница, унося с собою богиню и деву. «Радуйся, моя избранница! Пусть авлидский огонь пожирает лань, которую жрец, сам того не сознавая, заклал вместо тебя; ты же отныне сама мне будешь жрицей, живя у тавров на Евксине, при дворе их царя Фоанта, Ясонова сына. Там, в моей обители, будешь ты ждать, пока не исполнится твоя судьба, пока покорный воле богов брат не вернет в Элладу своей далекой сестры».
Восстановление Ф. Ф. Зелинского
Над сценой в розовом облаке появляется Артемида; рукой она держит лань. Незримая для хора, она обращается к застывшей в горе Клитемне-стре. Маршевая музыка.
Артемида
О согбенная горем царица, восстань
И стряхни настрадавшейся бремя души!
Артемида зовет тебя, Зевсова дщерь:
Тебе слово привета и ласки несет
Госпожа многостонной Авлиды!
Клитемнестра
(Узнав богиню, исступленно срывается с места.)
Это ты, ненасытная? Крови моей
Ты отведать сбираешься – надо ль и слез
Насладиться потоками? О, если б вас
На вершинах Олимпа коснуться могло
Из груди человека проклятье!
Старшая халкидянка
Что за речи? Опомнись! В какую ты высь
Свои взоры вперяешь? Недвижен эфир;
Только ветер вечерний прохладу струит,
И за облака ризой прозрачной – луна
Загорается ласковым блеском.
Артемида
Я прощаю тебе твой неправедный гнев:
Ты ведь дочери видишь убийцу во мне.
Но смири свое сердце: поведать хочу
Тебе тайны грядущего, волю богов
И веленье всевластного рока.
Клитемнестра
О, жестокое племя! Игрушкой для вас
Наши муки и стоны! Вели вы меня
Непонятной стезею – и вот привели
К алтарю беспощадному, страшным огням,
Обагренным дочернею кровью!
Старшая халкидянка
Что ты молвишь, царица? Твой разум угас:
Или призрак воздушный смущает тебя?
Помолись же Гекате, царице путей,
Чтоб обратно послала в поддонный Эреб
Беспросветной исчадие ночи.
Клитемнестра садится на прежнее место; следующую речь богини она слушает в забытьи, прижав к груди спящего Ореста. Музыка умолкает.
Артемида
Склони усердно слух свой, Тиндарида,
К моим словам; я пред душой твоей
Всю нить судьбы хочу развить нелживо.
О Илион, державный Илион!
Всех городов дороже был ты сердцу
Латониных детей! Всегда твои
Угодны были жертвы Аполлону;
Всегда взирала с ласкою в очах
И я на скромных дев твоих веселье!
Могла ль я ныне царственный венец
Твоей стены отдать на разграбленье
Ахейской рати яростным бойцам?
Могла ль стерпеть, чтоб с заводи авлидской
Ладьи умчали гибель на Пергам?
Ведь мне подвластно побережье это!
И я решила всем ветрам небесным
К водам авлидским доступ преградить:
Застыло море в дреме беспробудной;
Недвижные, заснули корабли;
Тягучей тиной вялого досуга
Подернулся бойцов отважный пыл.
А между волей страстного вождя
И Троей – я преградой нерушимой
Поставила Ифигении кровь.
Вотще. Напор соратников ретивых
Сломил царя отцовскую любовь:
Он согласился путь ладьям под Трою
Неслыханною жертвою купить,
И берега песчаные Авлиды
Увидели царевны юной цвет!
Побеждена, оружья не сложила
Я и тогда: как некогда в Плевроне,
Я разожгла раздора пламя в стане:
Ахилл на Агамемнона восстал.
И мнила я в междоусобной брани
Меч притупить отваги боевой,
Спасти Пергам – и с ним Ифигению.
И снова был напрасен труд мой; снова
Троянский демон головой поник.
Ты видела: в груди невинной девы
Любви безумной светоч запылал.
Вражда забыта; все одним желаньем
Объяты. Там, на алтаре моем,
Огонь горит, там льются славословья
В честь девственной богини, что ладьям
Открыла путь к твердыне Илиона!
И все ж – тому не быть, чтоб чистый пламень
Мой осквернила человечьей крови
Струя: священен эллинов закон.
Не скажут люди, чтобы дочь Латоны
Над материнской мукой измывалась:
Ахейцам в руки я слепые лань
Красиворогую вложу; они же
Ее зарезав, будут говорить,
Что дочь твою они заклали жертвой.
А деву я умчу в далекий край
И там своей ее поставлю жрицей;
И некогда прославят песни смертных
Таврической Ифигении рок.
Запомни ж слово ты мое, царица!
Не сон ты видишь: наяву с тобой
Владычица стрелы неотвратимой,
Дочь строгая Латоны говорит.
Простилась с девой ты на много лет,
Быть может – навсегда. И если в сердце
Отвергнешь ты мой ласковый привет —
Не обретешь ты дочери любимой
И ужасом неслыханных злодейств
Покроешь дом Атридов многославный.
А ты, Орест, что ныне сладко дремлешь,
Склонив на лоно матери своей
Усталую головку, – ты не знаешь,
Какое море крови суждено
Тебе в грядущем переплыть! И гавань
Найдешь тогда лишь ты в своих скитаньях,
Когда тебя, измученного, примет
Твоя сестра; она рукой любовной
Сотрет проклятья черное пятно,
И зацветет Атрея посох снова.
Прости, царица! Мрак твою покрыл
Озлобленную душу: ты не веришь
Моим словам. Но рока нить крепка:
Богов не лгут священные вещанья.
(Исчезает.)
Клитемнестра
Вы правы, жены, шум неясных слов
Струится смутно в ветерке вечернем.
Зашло светило горестного дня;
Уж близишься на черной колеснице
Ты, Ночь, моя советчица отныне.
Уйдем в шатер; младенца унесу я…
Он дремлет сладко, о сестре забыв.
Но если б я когда-либо забыла
О ней – вы память будет хранить
Ее, исчадья Ночи необорной,
Эринии! К себе зову я вас:
Отныне уж никто нас не разлучит.
Хор
Многовидны явленья заоблачных сил,
Против чаянья много решают они:
Не сбывается то, что ты верным считал,
И нежданному боги находят пути.
Таково пережитое нами.
(Расходится.)
X. «Ифигения Таврическая»Согласно «Киприям», как мы видели, Артемида спасла Ифигению с костра и перенесла ее к таврам, где сделала ее бессмертной. К таврам – это значило в свой сказочный рай. Бессмертие в таких условиях тождественно с божественностью; как божество, Ифигения должна была быть родственной самой Артемиде, – но – соответственно кровавому обряду ее жертвоприношения – преимущественно в ее мрачном, жестоком значении; Гесиод и Стесихор поэтому отождествили ее с Гекатой. Когда настало время локализировать сказочную Тавриду, ей нашли место на окраине тогдашнего греческого мира, на острове Лемносе. Таким образом, Ифигения-Геката была связана с династией лемносских царей, известных из истории Ипсипилы, и специально с царем лемносским Фоантом.
Но эта окраина не навсегда осталась таковой; и когда эпос «Аримаспея» (VI в.) познакомил греков со скифами на Понте Евксине, Таврида с Фоантом и богиней Ифигенией отделилась от Лемноса и была перенесена к скифам. По свидетельству Геродота, крымские тавры «приносят в жертву (богине) Деве потерпевших кораблекрушение и вообще доставшихся им в руки эллинов… а самое богиню, которую они так чествуют, тавры называют Ифигенией, дочерью Агамемнона».
Независимо от этого развития таврической Ифигении в различных местах Греции привился суровый культ Артемиды-Таврополы, т. е., по-видимому, богини – «укротительницы быков». Ее созвучие с таврической богиней в связи с притязаниями греческих городов – особенно Спарты и Афин – на гегемонию, т. е. на наследство Агамемнона и Ореста, заставил признать в ее «упавших с неба» кумирах своего рода символы всеэллинской державы, завещание Ореста приютившему его городу. Таким образом, возник миф о похищении Орестом кумира таврической богини. Ифигения в этой версии предания превратилась в жрицу – чему специально в Аттике способствовала наличность могилы Ифигении в Бравроне, т. е. там же, где имелся один из древнейших кумиров Артемиды-Таврополы. Это была уже не Геката, а богиня родов; счастливые роженицы приносили свои платья самой богине, платья умерших от родов посвящались ее жрице, покойной «героине» Ифигении. Ввиду символического значения бравронской Таврополы как залога всеэллинской гегемонии, Писистрат основал ей подворье на афинском Акрополе; по той же причине персы в 480 г. увезли ее бравронский кумир в Сусы. Тогда его слава перешла на другой древний кумир, находившийся по соседству с Бравроном, в Галах Арафенидских.
Таково было параллельное развитие двух религиозных образов – таврической богини Ифигении, с одной стороны, Орестовой Артемиды-Таврополы, с другой. Соединил их впервые, насколько мы можем судить, Софокл. Для этого ему самому – и в этом заключается этическая ценность новой мифопеи – пришлось отрешиться от той дельфийской «резкости», которую он проявил в своей «Электре», считая Ореста оправданным уже вследствие того, что, убив свою мать, он исполнил волю Аполлона. Поэт пересмотрел дело Ореста – и нашел, что Орест не оправдан, что остался нерастворенный осадок вины, что ему нельзя после матереубийства занять микенский престол, как это у него было представлено в «Электре» и «Гермионе». Эринии преследуют преступника; но Аполлон указывает ему путь к примирению: пусть он отправится в Тавриду, пусть добудет там кумир таврической Артемиды, оскверняемый у варваров человеческими жертвоприношениями, и представит его ему – тогда Эринии перестанут его преследовать.
Итак, требуется совершение благочестивого деяния во искупление нечестивого матереубийства. Орест покоряется; сопутствуемый своим верным другом Пиладом, он едет в Тавриду, к царю Фоанту Лемносскому, который, сам будучи эллином, правит ее диким народом… приблизительно так же, как в историческое время эллин и афинянин Мильтиад правил фракийским племенем долонков в другом Херсонесе, на Геллеспонте… Казавшаяся неразрешимой задача разрешается благополучно: он узнает в жрице Артемиды свою сестру Ифигению. С ее помощью друзья похищают кумир и едут обратно, через Евксин, Пропонтиду, Геллеспонт… вот уже и Лемнос и с ним и эллинский мир.
Но здесь их настигает царь Фоант – здесь, в его исконном царстве. И с этого момента начинается трагедия Софокла.
Преследуемые ищут убежища в храме Аполлона – ему ведь они должны представить добытый кумир Артемиды. Задача исполнена, Эринии прекратили свою погоню – но тем яростнее другая погоня, царь Фоант требует у царственного жреца Аполлона возвращения ему кумира, жрицы и похитителей. Требование по человеческому правосудию справедливо: как-то на него ответит престарелый царь и жрец Аполлона? Согласие более чем вероятно; не видя другого исхода, Ифигения посвящает его в дело: «Не суди по человеческому правосудию: тот самый Аполлон, которому ты служишь, предписал похищение Артемиды. Знай, ее похититель – Орест, сын Агамемнона».
Дева надеялась спасти всех этим признанием; на деле же она однако погубила. Царственный жрец Аполлона – не кто иной как Хрис, тот самый Хрис, дочь которого досталась пленницей Агамемнону и, несмотря на его, Хриса, слезные мольбы, не была ему возвращена, пока сам Аполлон за него не вступился. Пусть же сын ответит за отца; остальных спасет святая обитель, но Орест, сын Агамемнона, будет выдан царю Фоанту. Итак, который из вас Орест? Выходи!
Выходят – двое. Оресту грозит гибель; каждый выдает себя за Ореста, чтобы спасти друга. Происходит сцена благородного состязания, так очаровавшая впоследствии римлян в переделке Софокловой трагедии Пакувием. Все же под конец – не знаем как, жрецу удается установить, который из двух настоящий Орест; он приказывает своему внуку Хрису Младшему выдать его Фоанту.
Этот Хрис Младший был сыном его дочери Хрисеиды… от Аполлона – так верил он и его народ вместе с ним. Так в свое время представила дело сама Хрисеида, желая сохранить свое жречество и скрыть от людей позорящую обиду, которую она претерпела от своего кратковременного владыки в ахейском стане. Ложь сошла ей благополучно… до сих пор. А теперь – теперь ее сын Хрис отправит на смерть Ореста, своего единокровного брата.
Что делать? Допустить братоубийство или разгласить свой позор, объявляя отцу и сыну, от кого девственная жрица зачала ребенка?
Побеждает страх преступления. Происходит патетическая сцена объяснения матери с сыном – сцена, идею которой Софокл, вероятно, позаимствовал у своего друга Геродота, сам в свою очередь вдохновляя Еврипида («Ион»). И теперь, конечно, благополучный исход обеспечен. Долг крови нерушим: Хрис Младший признает своего брата. Фоанту посылается отказ, и когда он старается добиться своего силой оружия, происходит бой, в котором он гибнет от рук обоих братьев. После этого Орест с Пиладом, Ифигенией и кумиром Артемиды уплывают.
«Хрис» Софокла был поставлен в эпоху старости поэта, но все же еще до 414 г.; мы не знаем точнее, когда была поставленная другая «таврическая» трагедия того же поэта, «Алет». Она была параллельна «Хрису», и здесь религиозным смыслом действия было представление Аполлону очищенного исполнением своей задачи Ореста. Только местом был избран не лемносский, а дельфийский храм; сюда приходит Орест с Пиладом и Ифигенией, и не брату грозит смерть от брата, а сестре от сестры.
Дело в том, что после Эгисфа остался, кроме дочери от Клитемнестры Эригоны, – еще сын от более раннего брака Алет. Унаследовав от своего отца вражду с Атридами, он через верных ему людей следил за скитаниями своего соперника Ореста и вовремя узнал, что он отправился в Тавриду, попал в плен и – так гласило продолжение вести – был принесен в жертву на алтаре Артемиды Таврической ее жрицей, аргосской женщиной. На основании этой вести он занимает выморочный микенский престол, о чем и извещает Электру. Не веря ему, Электра отправляется в Дельфы спросить самого бога об участи брата; Алет со своим вестником сопровождает ее туда. В Дельфах, у алтаря Аполлона, она встречается с Ифигенией; вестник Алета ей указывает на нее как на ту, от руки которой погиб ее брат. Вне себя от горя и гнева, Электра схватывают пылающую головню с жертвенника и бросается с ней на Ифигению: к счастью, в эту минут из храма выходит сам Орест. Электра признает его – и через него и свою старшую сестру. Алет гибнет, и Орест, очищенный, вновь получает свое микенское царство.
От потрясающей сцены у жертвенника сохранился рудиментарный мотив и в нашей трагедии.
Так была драматизована Софоклом таврическая мифопея, когда и Еврипид пожелал посвятить ей свои силы. Он находился тогда под впечатлением испытанного разочарования: его «Елена» с ее так тщательно разработанной интригой побега, возвещенная еще в 413 г. в его «Электре» и поставленная в 412-м, успеха не имела и вызвала лишь насмешки Аристофана в следующем 411 г. Он решил поэтому сценами побега воспользоваться еще раз и избрал для этого мифопею таврической Ифигении; прибавленные к сценам узнания, они давали достаточно материала для трагедии, так что он мог обойтись без осложнения ее действия опасностями братоубийства или сестроубийства, которые счел нужным ввести его предшественник. Таким образом, Феоклимен из «Елены» был повторен в Фоанте Таврическом; ради большей убедительности поэт и его представил варваром, изменяя в этом отношении мифопею своего предшественника.
И этот раз счастье улыбнулось ему: его «Ифигения Таврическая» одержала полную победу. Немедленно ли – мы не знаем; у нас нет известия о том, кто остался победителем в состязании трилогий, к которым принадлежала и она. Но потомки во всяком случае преклонились перед ним; вся изобразительная традиция – и позднейшая вазопись, и помпеянская стенопись, и скульптура саркофагов находятся под исключительным влиянием Еврипидовой «Ифигении Таврической».
На нас оба элемента, из которых она состоит, производят различное действие. Первый – безусловно благоприятное; нельзя не отдаться с искренним волнениям перипетиям опасности и рассеявшего ее признания, так искусно подготовленного и так непринужденно осуществленного. Но вторая половина драмы, начинающаяся с нового как бы пролога Ореста, нас расхолаживает: мы не можем признать трагической силы за хитростями ловко устроенного побега, за использованием доверчивости недальновидного варвара…
И, прибавит читатель, за злоупотреблением религиозными мотивами. Но тут, я думаю, поэт бы горячо запротестовал. Нет, его настроение – не антирелигиозное, здесь даже еще меньше, чем в «Елене». И здесь и там культовая боязнь, своего рода табу дает эллинам возможность морочить варвара; но дело в том, что та часть религии, которая держалась на представлениях ритуальной чистоты и скверны, была глубоко антипатична религиозному сознанию Еврипида. Он предоставлял ее тем, которые обитали по ту сторону грани, отделяющей истинную религию от суеверия, как это знают все читатели последних сцен его «Геракла».
И все-таки заметно, что Еврипид начинает уже разочаровываться в своей интриге побега, которой он отдавался с таким увлечением в «Елене»: там побег удается исключительно благодаря хитрости беглецов, здесь как будто повторяется авлидское препятствие ветров; беглецы вновь подпадают власти царя, и требуется властное слово Афины, чтобы их спасти.
Зато в религиозном отношении заметно, после антитеизма трагедий первой половины войны, значительное смягчение, сближающее нашу трагедию с родственным ей также и в других особенностях «Ионом». Как здесь, так и там божество побеждает; страстный протест Креусы там, Ореста здесь не находит себе мгновенной отповеди, но он постепенно опровергается тихим, верным ходом событий, и ореол дельфийского бога под конец сияет с безоблачной высоты.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































