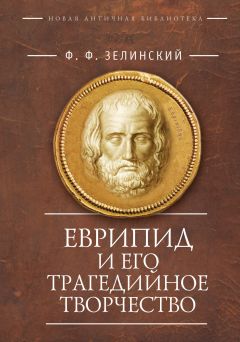
Автор книги: Фаддей Зелинский
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 32 страниц)
I
Два упрека не переставали раздаваться по адресу Еврипида в течение всей его – не очень долгой для тех здоровых времен – жизни: его обвиняли в неуважении к родной вере и в ненависти к женщине. В обоих упреках заключалась часть истины, но именно только часть. Правда, что поэт-мыслитель, в уме которого жил, действовал и страдал дух Зевса, подчас пренебрежительно судил о том, что исходит от Земли и льнет к Земле, о религии и женщине… о взаимной симпатии которых прошу вспомнить резкие, но меткие слова Мефистофеля; но толпа, в силу неизменно присущего ей симплизма, слишком поторопилась сделать свои обобщения. Привыкшая создавать по своему подобию образ своих великих людей, она не сумела понять и оценить того, что ее противник был и поэтом, и мыслителем; что как мыслитель он умел терпеливо собирать частицы Голубиной книги истины, разбившейся при своем падении на землю, и не довольствовался каким-нибудь случайно найденным ее осколком; а как поэт умел воплощать борющиеся мысли и превращать логическую антиномию в трагический конфликт.
Толпа не понимала Еврипида; зато он ее прекрасно понимал, а потому и не старался быть понятым ею: лишь после его смерти Афины увидели те две трагедии, в которых он ответил на оба вышеупомянутых упрека и разъяснил своим современникам свое отношение и к религии, и к женщине. Трагедию веры он воплотил в своих «Вакханках», трагедию женственности – в своей «Ифигении Авлидской».
II
Мы видим в «Вакханках» трагедию веры, в «Ифигении» – трагедию женственности; над обеими поэт работал, можно сказать, одновременно, а потому и неудивительно, что главная тема одной трагедии звучит в качестве побочной также и в другой. В «Вакханках» женщина избрана носительницей и религиозного экстаза, и протеста против него; равным образом в «Ифигении» сосудом идеи избран самый соблазнительный для религиозного человека рассказ из священного предания эллинов – тот самый, на который почти четыре века спустя ссылается римский поэт-вольнодумец Лукреций, стараясь разубедить своего друга Меммия в нечестивом характере своей антирелигиозной поэмы:
Вот я чего опасаюсь: ты можешь подумать, мой Меммий,
Что нечестивого знанья ты вкусишь начала и вступишь
На преступления путь. О, не бойся: религия чаще
Людям являла пример нечестивых, преступных деяний.
Иль ты не знаешь, в Авлиде как жертвенник девы Дианы
Девичья кровь осквернила? Как Ифигению заклали
Эллинской рати вожди, наилучшие, первые мужи?..
Стольких советчицей зол могла быть религия людям!
И нет сомнения, что и наш поэт мог бы выдвинуть этот благодарный мотив: оскорбленная в своих самых священных чувствах Клитемнестра, мать героини, могла бы точно так же потребовать к ответу жестокое божество, как это делает в «Вакханках» другая мать, невольная детоубийца Агава. Но, быть может, именно по этой последней причине этого не случилось; лишь изредка слышим мы сдержанный ропот побочной темы, в словах хора, например:
Твой дух высок, царевна-голубица,
Но злы они – богиня и судьба.
Вообще же грозная прихоть богини оставлена вдали как необъяснимое, но и не подлежащее объяснению решение рока. Греческое войско собралось в Авлиде, готовое к отплытию в Трою; но нет ему попутных ветров и не будет, пока Агамемнон, общий вождь соединенных греческих племен, не принесет в жертву богине авлидского побережья Артемиде (Диане) свою старшую дочь Ифигению. Прямого приказания тут нет: Ифигения может оставаться в чертогах отца, никакой кары за это не будет; придется только, по необходимости, распустить войско, отказаться от похода, проститься с мечтами о победе и славе.
III
В этом завязка трагедии; и в этом также причина, почему она, несмотря на варварский мотив человеческого жертвоприношения, не перестает быть близкой и нашему сердцу. Власть и деятельность, победа и слава не даром даются человеку: кто к ним стремится, тот должен быть способен принести им в жертву кроткие и нежные идеалы, ютящиеся в глубине его сердца; несметное число раз повторялась необходимость жестокого выбора, поведшего к жертвоприношению Ифигении… Разумеется, читатель не должен думать, что в этих словах заключается вся «идея» Ифигении; они высказаны лишь для того, чтобы ему легче было признать родственные черты в грандиозном облике героической старины. Идея не заключается в мифе, как ядро в скорлупе; она живет в нем, как душа живет в теле. Одухотворенный идеей миф – особый психический организм, развивающийся по своим собственным законам; в возможности созидания таких организмов состоит преимущество философской поэзии перед отвлеченной философией.
Власть и деятельность, слава и победа зовут Агамемнона в долину Скамандра, под стены Трои; этим самым они требуют смерти Ифигении. После упорной борьбы он решил исполнить это требование: его гонцы скачут в Аргос, чтобы вернуться оттуда с царевной. Все ли решено теперь?
С точки зрения древнейшей трагедии – все. Эсхил представил нам в своем «Агамемноне» и борьбу в сердце царя и ее исход; как ни показалось ему ужасным поставленное богиней условие – он смирился, «склонил выю под ярмом Необходимости»; по его приказанию, мужи подняли деву над жертвенником, сдерживая повязкою ее миловидные уста, чтобы они в минуту предсмертного ужаса не изрекли проклятия его дому… Это – преступление, и поэт это сознает; а между тем, «смерть пожинается на ниве греха». За убитую женщину-голубицу отомстила женщина-змея. Ею Клитемнестра вначале не была; она стала ею после того, как ее дочь была принесена в жертву власти и славе ее супруга.
Иного рода исход дает нам посмертная трагедия Еврипида.
IV
Гонцы помчались в Аргос; скоро они вернутся оттуда вместе с царевной, которую им, несомненно, выдала доверчивая царица Клитемнестра. Да и как было не выдать? Царь писал ей в своем письме, что их дочери предстоит свадьба с самым славным из эллинов, с Ахиллом… Но в течение ночи мучительная борьба вновь разгорелась в душе царя, и этот раз победило сердце: он пишет жене новое письмо с приказом оставить дочь в Аргосе, и передает это письмо верному старику-рабу Клитемнестры. Письмо перехватывает Менелай. Менелай более прочих пострадал бы, если бы не состоялся поход, предпринятый ради него; происходит горячая сцена между ним и братом. Доводы Менелая внушены себялюбием, и опровергнуть их нетрудно: стоит ли ради Елены жертвовать Ифигенией? Дело вовсе не в нем:
Но Эллада, царь, Эллада! Ей за что ж терпеть обиды?
Иль в угоду царской дочке нам отдать на посмеянье
Наши славные угрозы?..
Так-то власть и деятельность, победа и слава являются нам в другом облике: это уже не награда, от которой можно и отказаться, это долг – долг воина перед соратниками, долг царя перед подданными. Конфликт обостряется: этот мужской, воинский, царский долг встает перед нами в таком грозном всеподавляющем величии, что его торжество над женским чувством любви и нежности кажется нам неизбежным.
Сама судьба приходит ему на помощь: Ифигения уже здесь, в греческом стане, и сопровождает ее Клитемнестра, не пожелавшая отказаться от своего материнского права – самой выдать свою дочь замуж, самой нести перед нею брачный факел. Даже Менелай смягчен предстоящим горем; он мирится с братом, советует ему пощадить дочь, но – Эллада, Эллада! Призрак долга, раз будучи вызван, уже не удаляется; ярмо Необходимости плотно сидит на плечах, его не стряхнешь.
V
Но и на другой стороне силы не меньше. Тайна раскрыта: Клитемнестра узнала, зачем ее с дочерью вызвали из Аргоса. Она заручилась могущественным средством спасения; но прежде чем им воспользоваться, она хочет просьбами склонить царя. Ей «Эллада» ничего не говорит; она стоит за свои женские права, а эти права ясны, несомненны, непреоборимы. Подобно большинству гречанок, она вышла за своего мужа не по любви, а по воле родителей; но, раз став его женой, она была ему покорна и верна, свято охраняя честь его и его детей – тех четверых детей, которых она ему родила. А он как ей намерен отплатить?
…Скажи, подумал ли, когда
В поход уйдешь надолго ты, что будет,
Что будет с сердцем матери ребенка,
Которого зарежешь ты, Атрид?
Как эта мать на ложе мертвой птички
Осуждена глядеть, и на гнездо
Пустое, дни за днями, одиноко
Глядеть, и плакать, и припоминать…
«Подумал ли?» О да, разумеется, подумал; но эти думы не в силах сорвать ярмо Необходимости, от них только больнее становится разрываемому на части родительскому сердцу… Нечего делать, нужно прибегнуть к последнему, крайнему средству.
VI
Это средство – Ахилл. Славный сын нереиды, воспитанный в одиночестве гор мудрым кентавром, чужд всякого – как мы сказали бы теперь – «социального инстинкта». И ему «Эллада» ничего не говорит: он видит в ней лишь надоедливую помеху для своей личной воли, а его воля страстна, могуча и чиста, точно вихрь с Пелионских высот. Он возмущен тем, что Агамемнон воспользовался его именем для своего коварного замысла. О браке он не помышляет – Ифигении он никогда не видел и в первый раз о ней слышит, – но это все равно: девушки, которая раз была названа «невестой Ахилла», он в обиду не даст. Правда, он один; вся «Эллада» против него, даже его собственная дружина почти вся его оставила, не желая жертвовать общим благом ради красивой мечты. Но зато он – первый в войске богатырь, непобедимый сын морской богини; он придет, станет рядом с жертвенником, вооруженный с головы до ног, во главе оставшихся ему верными воинов, – и горе тому, кто поднимет нож на его названную невесту. В войске это знают, и всеобщее возмущение растет; Одиссей, представитель социальной силы, разжигает страсти воинов против молодого безумца. Видно, быть жаркому бою; эллинская кровь в изобилии оросит алтарь девственной богини.
…Не Ахилл герой нашей драмы; но справедливость требует, чтобы мы мимоходом указали на эту замечательную личность, предвоплотившую в себе весь средневековый рыцарский романтизм с его безрассудной отвагой, с его беззаветным благородством, с его преданностью женщине и ее правам.
VII
Не Ахилл герой нашей драмы; ее героиня – представительница женственности, Ифигения. Что такое Ифигения? Это – прелестный нежный цветок, выросший под прохладной сенью терема, при благосклонном покровительстве той же богини-девы Артемиды. Будучи гордостью своего отца и сама гордясь им, этим образцом всех совершенств в ее глазах, она мирно росла навстречу тому времени, при мысли о котором ей делалось и сладко и жутко, – времени, когда ей придется назвать другого человека своим супругом, быть хозяйкой и царицей в другом доме, в другой стране. И вот это время явилось, для ее девичьих грез нашелся, вернее – был ей назван определенный предмет. Слово «свадьба» прозвучало в ее ушах, призывая к полному расцвету все ее юное существо… И вдруг этот прекрасный мираж исчез, другое слово коснулось ее слуха, страшное слово: смерть, смерть от руки того, кого она боготворила, – ее отца. Вся ее молодость возмущается против этой угрозы; протест – вечный, раздирающий протест жизни против уничтожения – внушает ей ее первые слова:
О, не губи безвременно меня!
Глядеть на свет так сладко, а спуститься
В подземный мрак так страшно – пощади!
Она говорит это отцу, и отец ей отвечает:
…Эллада мне велит
Тебя убить, ей смерть твоя угодна…
Но если кровь, вся наша кровь, дитя,
Нужна ее свободе, чтобы варвар
В ней не царил и не бесчестил жен —
Атрид и дочь Атрида не откажут.
Эллада! Что ей Эллада? Что она тут понимает? Но она любит того, от кого она слышит эти слова, и эта любовь ей заменяет все объяснения, все доказательства; цепи жизни слабеют, она различает где-то, в туманной дали, какой-то новый идеал, который она любит на веру, так как ему служит любимый ею человек. Все же ее решение еще не принято; она беспомощно плачет на руках матери: зачем, зачем все это!
Является Ахилл. Она хочет скрыться от него, с именем которого она породнила свои девичьи грезы, но скрыться негде; она видит его, блистающего красотой и отвагой, готового пролить свою кровь за ту, которую без его ведома нарекли его невестой, – видно, смерть не так уж страшна. Это – второй урок любви. Пусть правда на ее стороне – она видит и верит, что и ее отец прав, и что эти две правды вступят друг с другом в убийственный бой, если их не примирит любовь. Отец указал ей цель, жених указал ей и путь: теперь она более не колеблется. Не под гнетом насилия, нет – добровольно отдает она себя в жертву за отца, за жениха, за войско, за ту «Элладу», любить которую ее научили любимые уста; ее свободная, вдохновляемая любовью воля разобьет ярмо Необходимости.
Такова сила голубицы. Ей не дана творческая отвага, созидающая идеалы жизни; ей даны любовь и верность, а с ними – способность воспринимать и беречь семя идеала, зароняемое в ее душу любимым человеком, беречь его до самозабвения, до жертвы… Так, видно, понимал женщину Еврипид.
1900
Картина принесенной в жертву за войско девы во все времена была незабвенна для эллинского и эллинизованного человечества; ее имеет в виду и Лукреций в знаменитом антитеистическом вступлении к своей поэме:
Вот я чего опасаюсь: ты можешь подумать, мой Меммий,
Что нечестивого знанья ты вкусишь начала и ступишь
На преступления путь. О, не бойся: религия чаще
Людям являла пример нечестивых, преступных деяний.
Иль ты не знаешь, в Авлиде как жертвенник девы Дианы
Девичья кровь окропила? Как Ифигению заклали
Эллинской рати вожди, наилучшие первые мужи?
Вот белоснежной повязкой стянули роскошную косу,
Щеки с обеих сторон концами ее окаймляя;
Вот она видит: стоит в безутешной печали родитель
У алтаря – палачи под полою булат обнаженный
Держат – сограждан толпа с приближеньем ее прослезилась.
Видит – и в страхе немом подогнувши колени, слабеет.
Не помогла горемычной и память о том, что Атрида
Первая именем нежным отца эта дочь одарила:
Нет, ее руки мужей, трепетавшую, подняли – так-то
Деву алтарь осенил… но не с тем, чтоб священных обрядов
Почесть вкусив, отослать под напевы ее Гименея;
Нет; чтоб нечистая чистую длань перед свадьбой самою,
Длань дорого отца, принесла ее в жертву богине
Ради попутных ветров и счастливого выхода флоту;
Скольких советчицей зол могла быть религия людям!
Страшная картина, бесспорно; только чья она? Еврипида? Нет, не Еврипида; у Еврипида героиня с восторгом жертвует собою за отца и родину. Если затем взглянуть на помпеянскую фреску, и там тот же протест молодой жизни против жестокой смерти, и там не Еврипид. Очевидно, посмертной драме младшего трагика не удалось изменить традицию; но как возникла эта традиция? И в чем состояла она?
Это наводит нас на вопрос об истории мифа о жертвоприношении Ифигении. Проследим ее в различных стадиях ее развития.
У Гомера Ифигения и ее жертвоприношение не упоминаются; значит ли это, что он их не знал, что соответственное предание возникло лишь в последующие времена? Так обыкновенно полагают: всё же есть два места, которые при этом условии трудно понять. Про Калханта («Илиада», песнь I) сказано, что он «предводительствовал ахейцам в Илионе благодаря своему ведовству» – действительно, своим пророчеством, что Артемида требует себе Ифигении, он открыл ахейцам доступ к Илиону. Ему же, когда он именем Аполлона приказал Агамемнону отдать Хрису обратно его дочь, гневный царь ответил (там же): «прорицатель горя, никогда ты не вещал мне хорошего слова», – это понятно, если допустить, что он в Авлиде потребовал от него жертвоприношения дочери. Итак, я полагаю, что Гомер знал о нем, но нарочно его замалчивает; дочереубийство Агамемнона было так же противно его гуманной душе, как и мужеубийство Клитемнестры и матереубийство Ореста, которые он тоже старается затушевать.
Как бы то ни было, для нас ряд свидетельств о жертвоприношении Ифигении открывается киклическим эпосом «Киприи». Относящееся сюда место в эксцерпте Прокла гласит так: «Когда флот вторично собрался в Авлиде, Агамемнон, убив на охоте оленя, сказал, что он превзошел (дополняй: в искусстве стрельбы) Артемиду. Разгневанная богиня воспрепятствовала отплытию ахейцев, наслав на них бурные ветры. Калхант сказал им про гнев богини и потребовал, чтобы Ифигения была ей принесена в жертву. Они посылают за нею под предлогом, что ей предстоит выйти за Ахилла, и собираются ее заклать. Но Артемида, похитив ее, переносит ее к таврам и делает ее бессмертной, а вместо девы подводит к алтарю оленя».
Здесь мы должны, ввиду дальнейшего развития мифа, обратить внимание на следующие пункты.
Во-первых, жертвоприношение было искупительным актом, будучи вызвано прегрешением Агамемнона; дополняя скудный эксцерпт рассказом Софокла («Электра»), мы убеждаемся, что это прегрешение было даже двойное; он и убил священного зверя богини, и оскорбил ее своей похвальбой.
Во-вторых, первой карой богини было не безветрие, а именно противные ветры.
В-третьих, если толковать слова эксцерпта строго, богиня в виде второй кары и искупления потребовала не вообще дочери Агамемнона, а именно Ифигению.
В-четвертых, дева была вытребована из Аргоса под предлогом брака с Ахиллом; какое участье принимал в этом сам Ахилл, эксцерпт нам не говорит; точно так же он, в-пятых, – умалчивает о том, одна ли явилась дева в Авлиду, или с матерью.
И, наконец, в-шестых – Артемида переносит Ифигению к таврам, чтобы ее там сделать бессмертной, – из чего мы заключаем, что эти тавры представляются сказочным народом, вроде гиперборейцев, и не отождествляются еще с крымским племенем этого имени, которое вряд ли могло быть известно грекам в эпоху возникновения «Киприй», т. е. в VIII в.
Отрывочная традиция гесиодовской и лирической поэзии не вносит существенно новых черт в киклическое предание: Ифигения остается обожествленной дочерью Агамемнона, причем Гесиод в своих «Каталогах женщин» и Стесихор в своей «Орестее» нарекают ее Гекатой, т. е. эпитетом ее покровительницы Артемиды. Но мы не должны забывать, что от той поэзии уцелели только клочки.
Трагическую Ифигению мы встречаем впервые у Эсхила; поставив ее судьбу в связь с предыдущими и последующими событиями, он создал величавую трилогию, героем которой был Агамемнон, – «Агамемнониду», как мы можем ее назвать, в составе трех трагедий: «Телефа», «Ифигении» и «Паламеда». Все три были почерпнуты из «Киприй». Нам они не сохранены, всё же они оставили следы после себя в дальнейшей традиции, и на их основании мы можем приблизительно восстановить содержание трилогии. Вот оно.
Первый поход ахейцев против Трои кончился для них неудачей. Сбившись в пути, они высадились в Тевтрании Мисийской; против них выступил царь страны Телеф: завязалось сражение, в котором Телеф ранил Патрокла, но и сам был ранен Ахиллом. После этого войско Агамемнона рассеялось по домам; но рана Телефа, нанесенная чудесным пелионским копьем, оказалась незаживной; вопросив дельфийского бога, он получил ответ: «Ранивший исцелит».
Перед вторым походом часть ахейской рати собралась в Аргосе; Агамемнону не очень хотелось возобновить неудавшуюся попытку, его народу – и подавно; напротив, Менелай настаивал на ее возобновлении, Клитемнестра тоже: первый хотел всячески вернуть жену, вторая – сестру. Прорицатель Калхант не особенно обнадеживал рвавшихся в бой: им все равно не найти пути в Трою, если их туда не поведет – Телеф. А на согласие Телефа после столкновения в Тевтрании рассчитывать, по-видимому, было нечего.
И вдруг Телеф сам является в Аргос, является просить исцеления у ранившего его. На благоприятное к нему отношение Агамемнона он, ввиду сказанного, надеяться никак не мог; но Клитемнестра, знавшая о его значении для похода, научила его действительному средству сломить сопротивление ее мужа: она передала ему своего младенца Ореста и посоветовала ему вместе с ним сесть просителем у царского очага. Ее замысел удался, к ее близорукой радости: она не подозревала, какое горе она себе готовит. Агамемнон протянул руку просителю; но все же исцелить его он не мог: это мог только «ранивший» владелец чудесного пелионского копья – Ахилл. Как склонить пылкого человека, чтобы он спас человека, ранившего его лучшего друга? Клитемнестра и тут нашла средство: «Обещаем ему в жены нашу старшую дочь Ифигению».
Ахилл согласен. Чудесное копье оправдывает свою славу: Телеф исцелен, поход может состояться. Итак, в Авлиду, к стоянке кораблей! Вдруг – знаменье: два орла садятся на кровлю дворца, в когтях у них зайчиха – да, но зайчиха с приплодом, охраняемая Артемидой тварь. Калхант смущен: орлы – это Атриды, беременная самка – это Троя с ее сокровищами. Она отдается на разграбление, но – Артемида, Артемида! Народ ропщет: долгий поход – из-за одной женщины. Под грозный рокот божьего и человеческого гнева войско выступает из Аргоса.
Вторая трагедия, «Ифигения», переносит нас в авлидский стан. Пророчество Калханта оправдалось: Артемида не хочет отдать ахейцам на разграбление любимый город своего брата, а Артемида – владычица авлидского взморья. И вот она посылает бурные фракийские ветры собравшемуся флоту; отплытие невозможно. Вопрошающему же прорицателю она отвечает, что прекратит эти ветры лишь в том случае, если Агамемнон принесет ей в жертву свою дочь Ифигению. Это равносильно приказу распустить войско; никогда, конечно, отец не согласится купить возможность похода такой неслыханной ценой.
Но и Менелай со своей стороны не щадит усилий; происходит борьба между братней и отцовской любовью; долг военачальника принимает сторону первой – опять несчастный царь уступает. Он посылает в Аргос Одиссея со своим глашатаем Талфибием за Ифигенией: предлогом служит условленная свадьба с Ахиллом, которую, мол, желательно отпраздновать до похода. Клитемнестра наказана первая за свое содействие этому походу – она наказана своим собственным оружием, ею придуманным браком Ифигении с Ахиллом.
Сама она этого, однако, не знает; радостная, она ведет свою дочь в Авлиду. Здесь, конечно, все обнаруживается: несчастная мать узнает, что она обманута своим мужем при помощи Одиссея. В отчаянии она обращается к врагу последнего, мудрейшему и в то же время честнейшему из ахейских витязей – к Паламеду. Он горячо за нее вступается, извещает о готовящемся Ахилла, заручается его обещанием всячески помочь своей невесте. Но и Менелай принимает меры: его союзник Одиссей всей силой своего красноречия действует на ахейскую рать, настраивая ее против Паламеда и Ахилла. Здесь Паламед, там Одиссей; их тайная борьба завершается явной междоусобицей в ахейском стане: Ахилл – один против всех, даже против своего войска, он ушиблен, ранен – теперь уже нет препятствий к совершению страшного обряда. Ифигения приносится в жертву – плачущая, негодующая, со связанными устами, чтобы она не могла в минуту смерти произнести проклятие против своего палача-отца… Конечно, ее кровь не проливается: богиня незримо спасает страдалицу и переносит к своему чудесному народу для вечного блаженства. Но знает об этом один Калхант; Клитемнестра убеждена, что ее дочь заклали ради Елены и честолюбия ее мужа, она уходит гневная, с обетом страшной мести на устах.
В третьей трагедии, «Паламеде», сцена опять меняется; перед нами ахейский стан под Троей. Вражда между Одиссеем и Паламедом, разыгравшаяся в Авлиде по поводу Ифигении, находит себе завершение в суде над героем, вызванном клеветническим обвинением Одиссея. Собственно, эта вражда была более старинного происхождения: Паламед в свое время изобличил хитрость Одиссея, посредством которой счастливый муж Пенелопы хотел уклониться от участия в троянском походе, что и было, вероятно, надлежащим образом развито в «Ифигении». Охотно ли согласился Агамемнон пожертвовать верным товарищем, доставившим ему содействие этого самого Одиссея, оказавшим ему столько услуг во время вынужденного бездействия в Авлиде? Нет, конечно; опять творится насилие над его волей, как и в «Телефе», как и в «Ифигении»; в этом насилии – внутренняя, идейная связь трех трагедий. Происходит неправый суд, Паламед осужден и побит камнями; туча гибели сгущается над головой недальновидного царя. Глашатаем рока является Навплий, отец Паламеда; опоздав к суду, он произносит проклятие и против всего войска, пророча ему все невзгоды войны и возвращения, и против Агамемнона, долженствующего отвечать за всех.
И вот почему мы имеем право назвать всю трилогию «Агамемнонидой». Ее героем был Агамемнон; только в его душе происходит душевная борьба, повторенная, мучительная; другие лица, и в том числе Ифигения, были представителями единой, прямолинейной воли; они могли остаться и вовсе неохарактеризованными. Уже по этой причине мы вряд ли ошибемся, причислив «Агамемнониду» к трилогиям среднего (для нас) периода творчества Эсхила, т. е. к шестидесятым годам, периоду «Фиваиды» и «Прометея», трагедии с одним центральным характером при неохарактеризованности прочих действующих лиц.
Но это еще более явствует из другого соображения, которое только теперь может быть использовано. Читатель не забыл внушительного просительства Телефа в первой трагедии, как он, по наставлению Клитемнестры, сел у очага Агамемнона с младенцем Орестом на руках? Поэт перенес в мифическую обстановку исторический факт: просительство изгнанника Фемистокла у очага эпирского царя Адмета, о котором рассказывает Фукидид. Бегство Фемистокла относится к времени между 470 и 464 гг.; и отсюда видно, что «Агамемнонида» поставлена в шестидесятых годах, ближе к их концу. Просительством Телефа поэт хотел напомнить афинянам об обиде, которую они нанесли саламинскому герою; и можно ли сомневаться, что он и в «Паламеде», изображая неправый суд, нашел возможность воскресить ее в памяти своих зрителей?
В «Киприях» эпизод мог следовать за эпизодом и без внутренней связи: «киклический» характер ее не требовал. Другое дело – эсхиловская трилогия. И замечательно искусство, с которым поэт сумел ее создать. В «Телефе» помолвка Ахилла с Ифигенией и тревожное знамение указывают вперед на «Ифигению», в этой средней трагедии заступничество Паламеда за героиню и его борьба с Одиссеем указывают вперед на «Паламеда». Но сильнее всего эта связь выражена последовательностью душевной муки главного героя, Агамемнона; это и есть то «страданием – учение», в котором наш поэт в «Агамемноне» видит внутренний смысл предыдущей судьбы своего героя.
Вернемся, однако, к «Ифигении», сравнив ее мифопею с мифопеей «Киприй», как мы ее резюмировали выше.
Итак, во-первых, Эсхил коренным образом изменил значение жертвоприношения: прегрешение Агамемнона он устранил, оно вследствие своего случайного, внешнего характера не укладывалось в роковую последовательность жизни героя. А потому и жертвоприношение Ифигении было не искупительным, а умилостивительным, имея в виду предстоящий поход; Агамемнон мог бы спасти свою дочь, отказавшись от него.
По второму пункту – о противных ветрах – традиция «Киприй» была удержана: также и по третьему, согласно которому Артемида требовала от Агамемнона именно Ифигении.
Что касается четвертого, то мы по отношению к Эсхилу можем высказаться определеннее: Ахилл не участвовал в обмане Атридов, он, жених Ифигении, был обманут ими вместе с ней.
Также и по пятому пункту дело представляется определеннее: Ифигения явилась в авлидский стан вместе с матерью.
Что касается, наконец, шестого, то Эсхил удержал киклическую традицию, согласно которой дева, перенесенная к таврам, была удостоена бессмертия.
Переходим теперь к Софоклу и его «Ифигении», непосредственной предшественнице еврипидовской. Его концепция уже тем отличается от концепции Эсхила, что, разорвав трилогическую связь «Ифигении» с «Телефом» и «Паламедом» (хотя он и этим героям посвятил по трагедии), он этим самым разрушил последовательность развития характера Агамемнона. Но он сделал еще больше: он устранил его самого как действующее лицо, перенеся сцену трагедии из Авлиды в Аргос. Там тоскует Клитемнестра, покинутая мужем ввиду троянского похода. Представил ли ее поэт уже здесь предметом вожделений – не столько любовных, сколько честолюбивых и мстительных – Эгисфа? Указаний на это нет, но Гомер давал ему на это полное право, мотив был благодарен, и в одном месте еврипидовской трагедии можно видеть намек на него. Во всяком случае, его старания были напрасны; Агамемнон мог быть спокоен за свою честь. Но вот в Аргос являются двое: Одиссей и Диомед (последним Софокл заменил подневольного и безличного Талфибия). Из их разговора мы узнаем об авлидских событиях: Агамемнон оскорбил Артемиду и убийством ее священного оленя и своей кощунственной похвальбой; богиня наказала его полным безветрием – нет пути рати ни в Трою, ни домой, необходимо исполнить ее жестокую волю, а эта воля состоит в том, чтобы ей была принесена в жертву, в возмездие за оленя, прекраснейшая из дочерей Агамемнона. Таковой признана Ифигения, за ней они и явились. По сговору с Ахиллом решено представить дело так, что ее уведут из дома Клитемнестры под предлогом свадьбы с ним; неохотно согласился прямодушный юноша на это злоупотребление его именем, но воинский долг подчинения и общее благо заставили его побороть свои личные чувства. Перед Клитемнестрой разыгрывается драма притворства; ее поздравляют с ее блестящим зятем, она польщена, обрадована. Обрадована и Ифигения, обещанный жених волнует ее молодое девичье сердце. Охотно отпускает Клитемнестра свое любимое дитя с друзьями своего мужа на славную, прекрасную жизнь – надо полагать, дав ей в спутницы ее няню; сама она тем временем с аргосскими девами, подругами невесты, – из них состоял хор – поет заочно свадебную песнь в честь ушедшей; весь чертог гудит от ликующих звуков Гименея.
Не было здесь какой-нибудь зловещей приметы, нарушившей радостное настроение поющих? Какого-нибудь тревожного знака на закланной брачным богам жертве? Софокл любит, чтобы события таким образом бросили вперед свою тень… Во всяком случае, злая весть не медлит; приносит ее вестник, быть может, Талфибий (такой сдвиг его роли тоже вполне в духе Софокла). Уберите, девы, ваши венки и наряды; свадьба была притворством; Артемида требовала мнимую невесту жертвой на свой алтарь. Рассказывается подробно про жертвоприношение. И все-таки скорбеть не должно: Ифигения не пала под ножом палача-отца, богиня, наведши мглу на очи присутствующих, заменила ее ланью, ее же самое для вечного блаженства перенесла в свой земной рай, к благочестивому народу тавров. Правда, никто из смертных этого не видел: но Калхант знает о деяниях богов, он рассказал о них Агамемнону, а Агамемнон шлет его, Талфибия, к своей царице-жене, чтобы она вместе с вестью о вечной разлуке с дочерью услышала и слово утешения о ее дальнейшей судьбе.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































