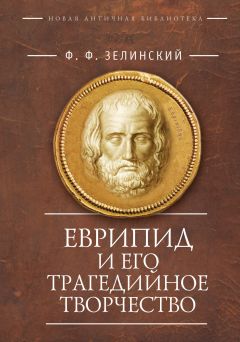
Автор книги: Фаддей Зелинский
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 28 (всего у книги 32 страниц)
Эсхил назвал свою трагедию «Немеей», Еврипид – «Ипсипилой»; этим многое сказано. Тот мотив, который у Эсхила был второстепенным, у Еврипида становится главным – мотив страдалицы-женщины. Она была царицей и стала прислужницей; все мечты, соединенные с ее давнишним царским величием, сопровождают ее в ее рабскую долю, составляя трогательный, патетический контраст с ее безотрадной действительностью. Где имеем мы еще этот контраст? В патетической VI рапсодии «Илиады». Предвидя будущее, Гектор говорит своей жене Андромахе:
…как тебя аргивянин, медью покрытый,
Слезы лиющую в плен повлечет и похитит свободу.
И, невольница, в Аргосе будешь ты ткать чужеземке,
Воду носить от ключей Месеиды иль Гипереи
С ропотом горьким в душе, но заставит жестокая нужда.
Льющую слезы тебя кто-нибудь там увидит и скажет:
Гектора это жена, превышавшего храбростью в битвах
Всех конеборцев-троян, как сражались вкруг Илиона.
Скажет, и в сердце твоем пробудится новая горесть.
Но это – мимолетное видение будущего; в настоящее его превратил все тот же Еврипид, давший в своей «Андромахе» именно трагедию Андромахи-прислужницы. То было лет пятнадцать назад; что же нам дает «Ипсипила»? Повторение? Нет; Еврипид не повторяется.
Не о своем царстве мечтает Ипсипила в неволе – не свой дворец в высокой Мирине видит она пред собою, не своих богоотверженных амазонок, запятнанных «лемносским грехом» и вдобавок ее изгнавших. При виде ее подруги заранее знают, что она:
Как прежде, неустанно
Струг чудесный воспевает,
Стовесельную «Арго».
И когда ее волочат на смерть, она с отчаянием взывает:
О борт «Арго»! О белые разливы
Лазурных волн!
Да; все счастье ее прошлого сосредоточено в моменте, когда к лемносскому берегу стала подплывать «Арго». Она величаво рассекает волны с устремленными вперед гребнями, обливающими белой клокочущей пеной морскую лазурь; высоко на борту стоит Пелей с причалом в руках, готовящийся прыгнуть на берег, как только судно подойдет; а дальше, на среднем мосту, прислонившись к мачте, виднеется Орфей, дающий своей игрой сигналы дружным усилиям гребцов; еще дальше… Да, эта картина незабвенна. «Арго» – это больше чем царство; «Арго» – это чудо.
Такой же униженной и в атмосфере такого же чуда изобразил Рихард Вагнер свою Эльзу в ее ясновидческой песни первого акта; другой параллели я не знаю.
Это – новый образ, новая ценность; слава вечно подвижной, вечно изобретательной музе Еврипида, что она могла его создать! Слава также египетским пескам, что они нам его возвратили! Но сколько несчастья в счастье! Как нестерпимо больно бывает читателю новонайденных фрагментов, когда они то и дело обрываются именно там, где развитие действия возбуждает самый живой его интерес!
«Уж слишком мечтательна тщеславная дева» («Traumselig ist die eitle Magd») – говорит про Эльзу ее обвинитель. Слишком мечтательна и наша Ипсипила. Вначале, слыша о походе Семи, она остается к нему вполне равнодушна. Но вот этот поход мало-помалу втягивает ее в свои круги. Является Амфиарай, лучший из Семи; он знает и видит в ней бывшую царицу, а не прислужницу, он просит ее о важном, богоугодном деле. Так точно и Ясон некогда во главе своих аргонавтов являлся к ней – там, на Лемносе. Долг прислужницы велит ей обратиться к ее госпоже, чтобы она или ее отпустила, или другую послала. Она так и хочет сделать, но – «Арго», «Арго»! Нет, в присутствии этого человека она себя прислужницей не чувствует. Долг нарушен; грех и кара налицо.
Да, красиво и ясно вырисовывается характер героини на туманном фоне разрушенной трагедии. К сожалению, он – единственный: Амфиарай, Евридика, Ясониды погибли в развалинах. Тем сильнее запечатлевается он в памяти, и читатель охотно уносит с собой это новое обогащение музея женских типов Еврипида – образ царицы-прислужницы, тешащей погремушкою вверенное ее заботам дитя, в то время как чудесная «Арго» стоит неподвижно перед очами ее души.
1909
Из «Баллад-посланий» Овидия
Будучи отправлен со своими товарищами к царю Колхиды Ээту за золотым руном, Ясон на своем корабле «Арго» заехал по пути на остров Лемнос. Здесь незадолго перед тем лемниянки из ревности перебили своих мужей и вообще все мужское население; только царевна Ипсипила спасла своего отца Фоанта, сына Вакха. В течение двух лет аргонавты жили в браке с лемниянками, причем Ясон имел женою Ипсипилу; затем они уплыли в Колхиду, с обещанием по исполнении подвига вернуться на Лемнос. Но так как Ясон мог исполнить свой подвиг лишь с помощью Ээтовой дочери Медеи, отдавшей ему свою любовь, то он и взял ее с собой и, не заезжая на Лемнос, проехал прямо на родину, в фессалийский город Иолк к царю своему Пелию. Туда ему теперь пишет свое послание оставленная им Ипсипила.
XIII. «Протесилай»
Слышу, добыл ты златое руно и на судне спасенном
Вновь фессалийских брегов благополучно достиг.
Что ж, как могу, поздравляю тебя. Об одном лишь жалею —
Что не своим ты письмом подал мне весть о себе.
Что не заехал ты сам в мой Лемнос, что тебе был обещан,
В этом тебя не виню: ветер причиной мог быть.
Письмам же мысли свои и при встречном мы ветре вверяем;
Даже приветом почтить ты Ипсипилу не мог!
Да, не письмо, а молва мне деянья твои рассказала:
Как под ярмо ты повел Марса священных быков,
Как из чудесных семян урожай ты взрастил исполинов,
Как без десницы твоей смертью они полегли,
Как сторожила руно неусыпного змея зеница
И как его добыла мужа бесстрашного длань.
Если б могла я сказать, недоверье людей побеждая:
«Так мне он сам написал!» – как бы горда я была!
Мне ли скорбеть, что со мной неучтив был забывчивый муж мой?
Честью великой сочту, если останусь твоей!
Слышу: с чужой ты земли чародейку привез – и на ложе
Принял, что только со мной вечно делить обещал.
Ах, легковерна любовь. Я б охотно упрек заслужила,
Что я облыжной молвой верного друга корю!
Гость-чужестранец недавно приплыл из земли фессалийской
В Лемнос; едва он успел через порог преступить,
«Что мой Ясон? – говорю. Мой гость умолкает смущенно,
Долго стоит предо мной, долу глаза опустив…
Я разрываю хитон. – Он жив? – восклицаю в испуге, —
Иль и меня уж на смерть рок беспощадный зовет?»
«Нет, – отвечает. – Он жив». С оробевшего клятву взяла я;
Именем бога едва веру снискал он мою.
С духом собравшись, его о деяньях твоих вопрошаю;
Он мне про пахотный труд меднокопытных быков,
Он про змеиный посев излагает чудесную повесть
И как взошедший народ в битву внезапно вступил.
Быстро исполнилась участь мужей земнородных лихая:
Братоубийственный бой в день их один уложил.
Дале – над змеем победа. И все вопрошаю я: «Жив он?»
Попеременно царят страх и надежда во мне.
Всю по порядку он повесть ведет – и рассказом искусным
Исподволь рану души он обнажает моей.
Вот она, верность твоя! Вот брачные клятвы и светоч —
Ах, погребальным костром был он достоин служить!
Ты не любовницей тайной имел меня: брачная Гера,
С нею венчанный Гимен наш освятили союз.
Но не Гимен и не Гера держали наш свадебный светоч,
Нет, Евменида его в длани кровавой несла.
Что мне дружина твоя, что мне твое вещее судно?
И для чего его к нам кормчий направил Тифис?
Здесь ли овен златорунный сверкал своей шерстью чудесной?
Здесь ли высокий дворец старца Ээта стоял?
Первым движением было – но в гибель влекли меня боги! —
С женскою ратью моей в море вогнать пришлецов.
А уж умеют – и очень! – мужей побеждать лемниянки;
Было б защитой от бед племя, столь храброе, мне.
Я приняла тебя в город… в свой дом приняла… в свое сердце;
Дважды нам лето с тобой, дважды зима протекла…
Третий взошел урожай, когда ты, уезжая с дружиной,
Мне со слезами в очах слово такое сказал:
«Долг нас зовет, Ипсипила; но если возврат мне дарован —
Мужем твоим ухожу, мужем вернуся твоим.
О, береги ты надежду, что в лоне твоем созревает!
Будешь ты матерью ей – буду и я ей отцом».
Так ты сказал и умолк. О, я помню: не мог продолжать ты;
Слезы на лживый твой лик градом лились из очей.
Вот из друзей ты последним взошел на священную «Арго»;
Та понеслася; Зефир парус висячий надул.
Из-под скользящей ладьи убегают лазурные волны;
Взор твой недвижно на брег, на море мой обращен. Башня с высокого мыса царит над синеющей гладью;
К ней я лечу, свою грудь слез увлажняя росой. Хоть затуманены очи, – души угождая желанью,
Дальше обычных границ режет пространство мой взор. Путь твой мольбой провожаю, обеты творю… Ах, обеты!
Ты ведь спасен, и богам я их исполнить должна! Я ль их исполнить должна, чтоб плоды их Медея вкусила?
Сердце обида щемит, гнев отравляет любовь. Я ли дары понесу, что живого Ясона теряю?
Я ль за утрату свою жертву богам заколю?
Правда, в тревоге жила я и раньше, всегда опасаясь,
Чтоб из Аргоса снохи не предпочел твой отец. Я аргивянок боялась: разлучницей варварка стала;
Жданную рану нанес враг неожиданный мне. Ни красотой не пригожа, ни нравом; но чары ей служат:
Заговоренным ножом зелье срезает она; Часто с косой расплетенной средь свежих могил она бродит,
Чтобы из теплой золы верные кости добыть; Губит заочно людей, восковое подобье терзая;
Печень больную бедняг тонкой иглою сверлит; Может с небесных путей непокорной Луны колесницу
Сдвинуть и Солнца коней мраком внезапным покрыть; Может и рек устремленных обратно направить теченье;
Может и скалы, и лес в путь за собою увлечь; Может… и то, что неведомо мне. Не позорно ли, зельем —
Вместо красы и ума – ласк добиваться любви?
И ты способен ее обнимать: среди ночи молчанья
С нею вдвоем в терему сон безмятежный вкушать?
Вижу я, как на быков – ярмо на тебя наложила,
Как того змея – тебя заворожила она.
Ей ведь приятно самой пожинать твоих подвигов славу:
Мужа великого блеск меркнет пред силой жены.
И Пелиады не прочь волшебству приписать твою доблесть;
Так они шепчут, и им верит безумная чернь:
«Тщетно кичится Ясон, что руно он добыл золотое, Тщетно:
Ээтова дочь славу стяжала ему!»
Мать ты спроси Алкимеду, отца ты спроси дорогого,
Рады ль они, что сноху север им дальний прислал?
Там, где волнуется Дон, где Скифии влажной трясины,
Там, где Риона исток, мужа б искала она!
О, вероломный Ясон, ветерков ненадежней весенних,
Как невелик твоего был обещания вес!
Мужем моим ты ушел, но не мужем моим возвратился;
Я же, чем раньше была, тем и остаться хочу.
Если имен тебя блеск или знатность породы пленяет,
То ведь Миноса слывет внуком отец мой Фоант;
Вакха я дедом зову, а венчанная Вакха супруга
Ярким сияньем лучей сонм побеждает светил.
Лемнос приданым бы был, благодатный трудящимся остров.
Да и сама я дарам не уступаю своим.
Ныне ж я матерью стала. Поздравь, мой Ясон, нас обоих.
Ношу свою о тебе я услаждала мечтой.
Счастлива я и числом; улыбнулась мне дважды Луцина,
Два я залога любви, двух близнецов родила.
Спросишь, в кого наши детки? Отца мы по ним вспоминали:
Лгать не умеют они; все остальное – твое.
Я уж послать их хотела, за мать чтоб отца упросили, —
Мачехи образ лихой начатый путь преградил.
Как я Медеи боюсь! Она больше, чем мачеха, верь мне:
Все преступленья свершить руки способны ее.
Та, что родимого брата в пустынной поляне решилась
Кости рассеять, – детей не пощадила б моих!
И на нее – о безумец, о жертва колхидской отравы! —
И на нее променял ты Ипсипилу свою?
Девою мужа познала в прелюбодеянии гнусном
Колхянка; нам же с тобой свадебный светоч сиял.
Та изменила отцу; я спасла от убийства Фоанта.
Та лишь беглянка: меня Лемнос родной бережет…
Впрочем, что пользы мне в том, коль невинность нечестьем побита?
Вместо приданого грех мужа помог ей добыть!
Мне лемниянок вина… не похвальна, Ясон, но понятна:
Быстро берется за меч длань оскорбленной жены!
Что, если б гневные ветры, обиду мою вымещая,
Вместе с подругой тебя в гавань загнали мою?
Если б навстречу тебе со своею я парочкой вышла —
Землю ты стал бы молить, чтоб поглотила тебя!
Как на детей бы взглянуть, как мог бы меня ты приветить?
Казнь бы какая могла смыть вероломства пятно?
Все же ты в царстве моем сохранил бы и жизнь, и свободу —
Не по заслугам твоим, а по моей доброте.
Нет; но обидчицы кровь как мои бы обрызгала очи,
Так и того, чью любовь приворожила она. Я бы Медеей Медеи была! – Если с выси небесной
Всесправедливый Зевес слышит молитву мою, Плач Ипсипилы зачтется бесстыдной преемнице ложа
И испытает она горечь законов своих! И как покинута я, – и супруга, и мать малолеток —
Стольких же быть ей детей, быть ей лишенной тебя! Быть ей недолго царицей добытого кривдою царства:
Вскоре по миру всему будет приюта искать; И как сестрой она доброй была, и как дочерью верной, —
Будет и к детям своим, будет и к мужу нежна. Суша и море отвергнут ее; обретет она воздух,
Сил лишена и надежд в мести безумной своей!
Вот оскорбленной супруги мольба! На такую судьбину,
Муж и жена, да хранит ложе проклятое вас!
I
Скоро исполнится сто лет с тех пор, когда на страницах «Вестника Европы» появилась русская баллада, впервые познакомившая русскую публику с романтическим мотивом бюргеровской невесты смерти Леноры – знаменитая в свое время «Людмила» Жуковского (1808). Как известно, этим почином поэта-романтика и русская интеллигенция была приобщена к тому спору за народнический романтизм, который загорелся много раньше в Германии по поводу оригинальной баллады-знаменосицы Бюргера. С тех пор много воды утекло: романтизм отшумел, но народничество осталось, и именно у нас, в России, оно наиболее окрепло и дало миру свои самые могучие и прекрасные произведения. Бесспорно, много жемчужин вынесло оно на поверхность из глубины народного сознания, но и много ила и тины; часто горькое разочарование постигало тех энтузиастов, которые смело бросались в пучину народного моря, надеясь найти на его дне прочные и вечные устои тех коралловых островов добра и красоты, которые так заманчиво разнообразят его поверхность. И чем далее, тем более увеличивается у нас число тех, чье «злобою сердце питаться устало»; чем далее, тем напряженнее прислушиваются они к новым голосам, раздающимся опять-таки с Запада, и к нарождающейся новой песне, которой только наши потомки сумеют дать имя.
Но пока народнический романтизм переживал фазисы своей естественной эволюции в литературе, его значение в науке как важного культурно-исторического фактора оставалось непоколебимым: «мотив Леноры» – поныне одна из любимейших тем для фольклористов и историков литературы, причем первые собирают варианты этого мотива в народной поэзии всех времен и стран, а вторые изучают движение, вызванное в европейской литературе балладой Бюргера. И та и другая тема оказалась очень благодарной, и «литература о Леноре» росла с каждым десятилетием; специально русская наука обладает обстоятельным руководством в этой области в труде профессора Созоновича, под заглавием: «К вопросу о западном влиянии на славянскую и русскую поэзию» (Варшава 1898).
Был ли «мотив Леноры» создан народной поэзией новой Европы, или же перешел он к ней от народов древности, т. е., через посредство Рима, от Греции? Вопрос этот, разумеется, независим от вопроса о том, имелся ли у древних наш мотив: об этом последнем и спорить нечего, так как факты налицо и они достаточно известны исследователям. Нет; но можно, признавая наличность этих фактов, тем не менее отрицать прямую преемственность между античной и романтической Ленорой. Я должен, однако, заметить, что профессор Созонович, говоря об античных сказаниях, родственных сказаниям о Леноре, склонен признать эту преемственность; я полагаю, что он прав, и надеюсь, что настоящий очерк еще более подтвердит вероятность этого мнения. Все же не в этом состоит его главная задача: составляя его, я хотел, прежде всего, представить в более полных и наглядных чертах, чем это делалось доселе, историю развития античной Леноры.
II
При всем том мы, чтобы отнестись сознательно к историко-литературному значению античной родоначальницы романтической Леноры, должны взять за точку исхода эту последнюю, и я прошу позволения напомнить читателю вкратце содержание бюргеровской баллады – ее точный перевод Жуковский, как известно, дал русской публике через двадцать с лишком лет после своего вольного подражания в «Людмиле».
Встревоженная страшными сновидениями, молодая Ленора ждет с душевным трепетом возвращения своего жениха, отправившегося с войском Фридриха в силезийскую войну. Ее предчувствия оправдываются: среди возвращающихся воинов ее милого нет. Тогда она проклинает и свою жизнь, и Бога, и святые тайны, и надежду на вечное блаженство; тщетно ее мать старается ее успокоить – в отчаянных воплях и жалобах проходит весь день, наступает ночь. Слышится топот коня, дверь отворяется: в вошедшем она узнает жениха. Тот ее торопит в путь, на новоселье, устраняя ее сомнения зловеще-двусмысленными успокоениями. Недолго думая она садится на его коня; они едут. «Месяц светит нам, гладка дорога мертвецам». Поля и луга, села и рощи летят мимо них; чем дальше, тем страшнее: вот погребальное шествие, вот рой привидений у виселицы. Наконец, они прискакали: кругом могилы, сама она в объятиях мертвеца, и духи поют ей предсмертную песнь: «Терпи, терпи, хоть ноет грудь, Творцу в бедах покорна будь!»
Эти последние слова особенно ярко оттеняют нравоучительный характер баллады, который, впрочем, и без них очевиден. Свидание с милым понимается не как награда Леноре за ее любовь и верность, а как кара. Радость совершенно отсутствует; не успела невеста при появлении жениха стряхнуть бремя долгого горя, как его странное требование отъезда в ненастную ночь ввергает ее в новую тревогу. Описание страшной ночной скачки с мертвецом занимает в балладе преобладающее положение; рядом с этим впечатлением меркнут все остальные.
Повторяю, участь Леноры представлена сплошным ужасом, представлена карой; а причину кары благочестивый поэт-христианин усмотрел в богохульственном отчаянии, которым она ответила на ниспосланное ей Господом испытание.
Конечно, религиозная мотивировка кары остается собственностью поэта; в народной легенде мотивировка могла быть иная или отсутствовать совсем. Зато одно несомненно: везде там, где ночная скачка с мертвецом стоит в центре баллады, представление о свидании как о каре напрашивается само собою и представление о нем как о награде исключается. С этой точки зрения прямой противоположностью к бюргеровской Леноре и ее народным первообразам является другая, тоже народная, обработка мотива; она записана в нескольких вариантах в разных областях Германии (один из этих вариантов, немецко-моравский, приведен профессором Созоновичем). Ввиду ее важности для нашего вопроса я позволю себе привести ее в переводе, синтетически примиряющем отдельные варианты; оговариваюсь, что мой перевод точно приноровлен к напеву, но не к размеру немецкой народной песни:
Тихо друг бредет к подруге
И в окно стучится к ней:
– Дома ль ты, моя зазноба?
Встань, впусти меня скорей!
– Нет с тобой для нас беседы,
Не могу тебя впустить:
Я давно люблю другого,
За тобою мне не быть.
– Тот, кого давно ты любишь,
Милый друг мой, это я;
Ручку дай; меня узнает
Ручка белая твоя.
– От тебя землею пахнет,
Сам ты смерти холодней!
– Как не пахнуть мне землею?
Восемь лет лежу я в ней!
Разбуди отца родного,
Разбуди родную ты:
Дан венок тебе зеленый
До небесной высоты!
Первый благовест раздался —
Помертвел невесты лик:
Благовест второй раздался —
Смертный хлад ее проник;
Третий благовест раздался —
Испустила дух она;
Так-то ночь двоих влюбленных
Упокоила одна.
В ночь одну для двух влюбленных
Вечной жизни час настал;
Сам Господь с небесной выси
Друг их с другом обвенчал.
Нельзя сказать, чтобы страх вовсе отсутствовал в этой обработке: он ясно слышится в четвертой строфе. Но дальше ее он не проникает; затем идет описание свидания влюбленных и медленного, счастливого умирания невесты в объятиях жениха под торжественный звон утреннего благовеста, которым сам Бог как бы освящает их брак. О ночной скачке не только не говорится – она прямо исключается всей обстановкой рассказа. Итак, мотив кары отсутствует; его заменяет мотив награды, звучащий особенно сильно в последних словах жениха с их красивой загадочностью: «дан венок тебе зеленый до небесной высоты» (Grun Kranzlein sollst du tragen – Bis in den Himmel’ nein). Награды – за что? И в этом песня не оставляет никакого сомнения: за верность, с которой невеста хранила свою любовь для жениха за все время его долгого отсутствия, верность, о которой свидетельствует ее отказ вступить даже в беседу с чужим человеком в ночное время. Именно ею она заслужила зеленый венок.
Я ограничиваюсь этими двумя обработками, так как они знаменуют собою оба полюса в нравственной оценке мотива Леноры. А теперь переходим к ее античной родоначальнице.
Это – фессалийская царица Лаодамия.
III
Упоминается она впервые – хотя и безымянно – в том месте «Илиады», где перечисляются по городам дружины ахейцев, выступившие в поход против Трои. Среди прочих называются и жители некоторых фессалийских городов, между прочим и Филаки (песнь II):
Всех их при жизни своей вел в поле питомец Ареса
Протесилай; но тогда он в земле уж покоился черной.
Там, он, в Филаке, жену неутешной вдовою оставил
И полуконченый дом; уложил же дарданец героя
В миг, когда первым из всех с корабля соскочил он на берег.
И только. Знал ли Протесилай, что, соскакивая первым на берег, он обрекал себя смерти? Это, собственно, не сказано, но понятно, что если бы позднейший поэт позанялся специально его участью, то такое предположение было бы для него очень заманчиво: простая случайность превратилась бы в обдуманный план, несчастье – в самоотвержение. Такое развитие, повторяю, было бы вполне естественно. Но зато для вдовы Протесилая краткое упоминание «Илиады» никаких зачатков дальнейшего развития не заключало; ее неутешная скорбь – общий удел всех вдов.
Но мы давно отказались от мысли видеть в Гомере первичную ячейку всей греческой мифологии; были местные традиции, память о которых поддерживалась местными культами. Будучи значительно древнее Гомера, они, тем не менее, могли значительно позже его попасть в литературу. В литературу – т. е. прежде всего в послегомеровский эпос. Действительно, тот эпос, в котором были описаны первые события Троянской войны, – так называемые «Киприи», – должен был поневоле заняться и подвигом Протесилая. Но мы об этом знаем очень мало. Знаем, что в нем самоотверженный герой пал от руки Гектора; очевидно, автор хотел почтить Протесилая, давая ему в противники лучшего троянского героя, но он этим противоречил Гомеру, который строго отличал дарданцев от троянцев с Гектором во главе. Знаем, далее, что здесь жена Протесилая была названа Полидорой, но был ли к ней приурочен мотив Леноры – неизвестно. Скорее – нет: этот мотив неразрывно связан с именем Лаодамии.
Итак, где впервые встречается Лаодамия? Для нас – в трагедии Еврипида под заглавием «Протесилай», но именно только для нас. Хотя эта трагедия и потеряна, но ее фабула может быть до некоторой степени восстановлена по литературным и археологическим свидетельствам; и вот тут-то оказывается, что Еврипид, ради разнообразия действия, соединил два параллельных мотива, которые раньше существовали отдельно. Существовали; но где? Промежуточное место между эпосом и трагедией занимала лирика; и действительно, мы увидим, что ей придется поставить в счет если не оба параллельных мотива, то по крайней мере один из них.
Но что же это за параллельные мотивы? Они известны нам из позднейших свидетельств, из которых я – ради ясности – приведу самое позднее, византийского грамматика Цециса. Конечно, Цецис в оригинальные источники не заглядывал; но так как александрийская и римская ученость, из которых он черпал свою эрудицию, нам не сохранена, то приходится поневоле им пользоваться. Итак, вот его свидетельство, если перевести откровенной прозой его прозаическую поэзию: «Этот Протесилай был сыном Ификла. Оставив свою молодую жену Лаодамию, он вместе с прочими эллинами отправился в поход против троянцев и, первым соскочив на берег, первым изо всех был убит. А затем мифографы говорят, что Персефона, увидев его красоту и его скорбь о разлуке с Лаодамией, упросила Плутона вернуть ему жизнь и отправила его из обители Аида к жене. Так говорят мифы; правдивая же история рассказывается вот как. Когда вышеназванная супруга Протесилая узнала о случившемся с мужем несчастии, а именно о его смерти, она изготовила себе деревянное подобие Протесилая и из тоски по супругу ложилась спать с ним, не будучи в состоянии вынести его отсутствие. А другие тогда стали говорить, что ночью его призрак всегда является его жене; так-то и было сочинено то сказание».
Здесь дело ясно: мы имеем, повторяю, два параллельных мотива. Согласно первому, убитый Протесилай, с соизволения подземных богов, возвращается к нежно любимой жене; это и есть то, что мы называем мотивом Леноры. Согласно второму, Лаодамия по смерти мужа изготовляет его изваяние, с которым и ночует, точно с живым человеком. Это подсмотрели, и люди, не зная в чем дело, пустили в ход басню, что ее по ночам навещает призрак ее мужа. Что это такое? В этом никакого сомнения быть не может: это – рационалистическая обработка мотива Леноры. Ее автор плохо верил в чудеса, но относился доверчиво к мифологической традиции; там, где она была неприемлема, он старался объяснить ее путем недоразумения: «дело обстояло следующим естественным образом; но люди, но ошибке и невежеству, пустили в ход следующую басню, которая и удержалась». Повторяю: мотив статуи – мотив искусственный, книжный; но он имеет своим основанием «мотив призрака», т. е. мотив Леноры, являясь его рационалистическим толкованием.
Можно ли приписать этот книжный мотив, это толкование народного мифа индивидуальной фикцией – эпохе, которая нас здесь интересует, эпохе греческой лирики, около 500 г. до Р. X.? Я думаю, вполне; но пусть читатель посудит сам. Пиндар в первой олимпийской оде предлагал новую форму предания о Пелопе: «Сын Тантала, – говорит он, – о тебе я скажу иначе, чем мои предшественники». Те давали старую, грубую, каннибалистическую версию, согласно которой Тантал, чтобы испытать богов, пригласил их на пир и угостил мясом собственного сына Пелопа; но Пиндару противна мысль о таком «обжорстве богов». Нет, дело произошло вот как. Пир действительно состоялся; на нем Посидон, пленившись красотой отрока Пелопа, похитил его. «А когда ты исчез, тогда кто-то из завистливых соседей распустил молву, что ты был съеден богами». Это – не единственный пример; но мы удовольствуемся им.
Да, рефлексия дала знать о себе в лирическую эпоху греческой мифологии; мы ей смело можем приписать и мотив статуи, придуманный для объяснения мотива призрака. Мало того; мы должны это сделать, так как трагедия Еврипида – мы это увидим тотчас – предполагает оба мотива не только существующими, но и достаточно вкоренившимися в народное сознание. Но об этом будет сказано тотчас; теперь же остановлю внимание читателей на самой идее параллелизации призрака и статуи. Она у греков была тем более естественна, что у них одно и то же слово (eidolon) означало и то и другое; но я могу подтвердить ее интересным, не замеченным до сих пор примером. Спасая честь Елены, лирический поэт Стесихор допускает идею, что не она сама, а ее призрак был увезен Парисом в Трою. Последователем Стесихора был Эсхил. Идея предшественника была для него данной, с которой следовало считаться; с другой стороны он, не чувствуя надобности спасать честь Елены, держался исконной традиции, согласно которой она сама дала себя увезти троянскому похитителю. А если так, то, значит, ее призрак остался у Менелая. С этим он считается; но, находя эту идею в этой форме неприемлемой, он толкует ее по-своему – и притом точь-в-точь так же, как и тот наш аноним идею о призраке Протесилая. Менелай искал утешения в созерцании статуи Елены, но тщетно: «ненавистна мужу ласка прекрасного изваяния: в его пустых глазах нет места Афродите» («Агамемнон»). Но и это будет превратно понято, «и люди скажут, что ее призрак властвует в доме». Сходство полное: статуя заменяет призрак. И дальше, и дальше тянется параллелизация: она переходит к народам новой Европы, и, много столетий спустя, статуя – этот раз уже самого нового Менелая – вернется с кладбища в опозоренный дом, чтобы увлечь с собой в царство мертвых дерзновенного обольстителя его молодой жены.
IV
Возвращаемся к нашим параллельным мотивам: от внимания читателя не ускользнуло, что в них пока нет развязки. По одному – сам Протесилай из преисподней возвращается к жене; по другому – она нежится с его изваянием. Прекрасно; но какова же в конце концов ее участь? Цецис нам на этот вопрос ответа не дает: он придумывает – как он заявляет сам – свою собственную развязку, которая именно поэтому для нас неинтересна. Просмотрев, однако, внимательно прочие разрозненные отрывки мифографической традиции, мы находим искомую развязку, или, вернее, две, по одной для каждого мотива – а это, в свою очередь, доказывает их первоначальную самостоятельность.
Развязку первого мотива дает нам древний комментатор Виргилия Сервий; комментируя то место своего автора, где тот в числе прочих теней преисподней упоминает и Лаодамию («Энеида»), он поясняет: «Лаодамия была женой Протесилая; получив известие, что ее муж погиб первым в Троянской войне, она возымела желание увидеть его призрак; когда ей это было дозволено, она уже не могла оторваться от него и погибла в его объятиях». Стоит сравнить этот краткий рассказ с той народной песенкой, перевод которой я поместил выше. Сходство прямо поразительное: то же блаженное умирание в объятиях милого, явившегося на кратковременное свидание из могилы. Здесь все понятно: царство умерших прочно держит того, кто раз в него вступил, и если дает ему отпуск, то ненадолго: с исчезновением ночного мрака – «при звуке утреннего благовеста», как сказал бы поэт-христианин, – должен исчезнуть и тот, кто отныне принадлежит ночи. Но эта вторая разлука еще тяжелее первой; ее влюбленная уже не может пережить. Таков наш мотив, общий рассказу Сервия и немецкой народной песенке; как объяснить это сходство? Хотелось бы думать, что и в древности существовала такая песня о Лаодамии, что она, перейдя в средние века, вызвала появление той немецкой… А впрочем, нужна ли тут песня? Виргилий был самым популярным и любимым поэтом средневековья, а вместе с ним жил и его толкователь Сервий; то место, где упоминается Лаодамия, стоит в непосредственном соседстве с одним из знаменитейших эпизодов всей «Энеиды» – свиданием Энея с Дидоной в царстве теней. Нет сомнения, что молодые «схолары», насущным хлебом которых был Виргилий, знали это место особенно хорошо, а эти схолары были в свою очередь создателями средневековой поэзии Западной Европы. Я думаю, если вообще признать прямую зависимость новейшей Леноры от античной, то предположенный нами здесь переход представляется наиболее вероятным.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































