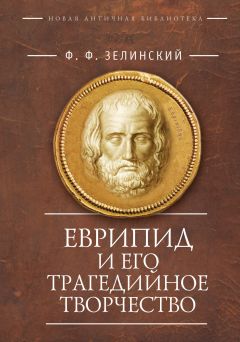
Автор книги: Фаддей Зелинский
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 30 (всего у книги 32 страниц)
1906
Из «Баллад-посланий» Овидия
Протесилай, молодой царь фессалийской Филаки, взял в жены фессалийскую же царевну Лаодамию, но после первой же ночи должен был отправиться в поход против Трои. Оракул предвещал, что первый, кто соскочит на вражеский берег, будет убит. Протесилай решил пожертвовать собою и в первой же битве пал от руки Гектора. Настоящее послание Лаодамия пишет своему мужу еще задолго до грустной развязки, когда Протесилай вместе со всем флотом был задержан в беотийской Авлиде в ожидании попутного ветра.
Источником Овидия была, несомненно, потерянная, но знаменитая в древности трагедия Еврипида «Протесилай».
Протесилаю привет шлет за море Лаодамия,
Сыну Фессалии дочь, милому мужу жена.
Ветром лихим, говорят, ты задержан в Авлиде туманной;
Ах, как меня ты бросал, где был тот ветер лихой?
Вот бы когда разыграться ветров непокорных потехе,
Вот бы бурунам когда весел осилить напор!
Больше б тебе поцелуев, заветов дала я прощальных…
Сколько тебе досказать я не успела тогда!
Разом не стало тебя, и умчал тебя ветер попутный,
Столь же приятный пловцам, сколь роковой для меня.
Вовремя им он подул, но не вовремя сердцу влюбленной.
Вмиг из объятий моих мой был исторгнут супруг.
Полные ласки уста обрывают напутствия слово —
И успевают едва грустным закончить «прости».
Пуще свежеет Борей, надувается вдаль устремленный
Парус… ах, как уж далек Протесилай от меня!
Все я, покуда могла, на тебя наглядеться старалась,
Спутником взор мой твоих был неотступным очей.
Вскоре исчез ты; вдали только парус белел одинокий.
О, мой тоскующий взгляд долго приковывал он.
Но когда скрылся в тумане и ты, и твой парус летучий,
И уж пустыни ничто не оживляло морской,
Скрылся и свет для меня; окруженная мраком внезапным,
Чувств я лишилась и ниц скошенной пала лозой.
И лишь с трудом меня свекор Ификл, и Акаст престарелый,
И горемычная мать жизни могли возвратить.
О, они любят меня, но напрасен их труд был усердный;
Жаль мне, что в горе таком я умереть не могла.
Чувства вернулись, но с ними и жгучая мука вернулась,
В преданном сердце я все горе познала любви.
Уж неохота мне косу рабыне вверять хлопотливой,
Уж неохота носить золотом шитую ткань.
Точно вакханка, копьем пораженная бога зеленым,
Взад и вперед я, куда гонит безумье, несусь.
Тщетно с укором ко мне филакийские жены приходят:
«Сану приличный наряд, Лаодамия, надень!»6262
Воспроизводит, по-видимому, хорическую песнь из трагедии Еврипида.
[Закрыть]
Мне ли багровые ткани носить, когда там, под стенами
Трои, быть может, его кровию плащ обагрен?
Мне ли уборы, когда медь шлема чело ему ранит?
Мне ли обновы, когда грудь его давит броня?
Пусть я хоть этим, о муж мой, участвую в наших невзгодах,
Пусть я хоть скорбью своей время отмечу войны!
Сын недостойный Приама, на горе отчизне прекрасный,
Будь твоя храбрость в бою верности гостя чета!
Ах! И зачем тебе розы спартанки-красы полюбились?
Лик твой цветущий зачем сердце спартанки пленил?
Ты ж, Менелай, что так нежно о беглой супруге радеешь —
Сколько заставишь ты вдов плакать о мести твоей!..
Что я?.. Молю, отвратите несчастное знаменье, боги!
Дайте, чтоб Зевсу побед муж мой доспехи принес!
Ах, мне так страшно, как вспомню про этот поход безотрадный,
Слезы, что тающий снег, так и текут из очей.
Ксанф – Симоент – Тенедос – Илион – эта дикая Ида6363
Ксанф (Скамандр) и его приток Симоент – троянскпе реки. Тенедос – остров у троянского побережья. Ида – гора над Троей.
[Закрыть] —
Звук уж имен их одних страхом мне сердце щемит…
И неспроста он Елену увез. Рассчитав свои силы,
Знал уж злодей, что ее он без труда отстоит.
Златом обильным сияя, предстал перед ней искуситель, —
Славу фригийских богатств пышный наряд подтвердил —
И кораблями, и ратью могучей, успеха залогом;
А ведь лишь малую часть сил своих взял он с собой. Этим себе подчинил он и Лединой дочери волю;
Этим он может и вам тяжкий урон нанести.
Есть там и Гектор какой-то; его я боюсь.
Беспощадна, Хвастал предатель, его в сече кровавой рука.
К Гектору этому ты – уж запомни, молю тебя, имя —
Не приближайся в бою, если мила тебе я.
Гектора пыл миновав, и с другими ты будь осторожен:
Мало ли город троян Гекторов может таить?
И говори про себя перед каждой ты битвы началом:
«Жизнь мне велела беречь Лаодамия мою».
Если уж пасть суждено Илиону от рати аргосской,
То и без раны твоей гибель свершится его.
Пусть Менелай на врагов устремляется с дикой отвагой —
Он, что из города недр должен супругу добыть.
Повод иной у тебя; твоя цель – уберечься от смерти
И возвратиться скорей в верной объятья любви.
Вас я молю, Дарданиды6464
Дарданиды у Овидия – то же, что троянцы. Дардан был родоначальником династии троянских царей, сыном Зевса и плеяды Электры, отцом Эрихтония, дедом Троя, прадедом Ила (основателя Трои), прапрадедом Лаомедонта, отца Приама.
[Закрыть], его одного пощадите!
Из его раны моя брызнет навстречу вам кровь.
Не для того он рожден, чтоб мечом поражать обнаженным,
Иль чтоб удары врага грудью отважной встречать:
С большим гораздо он пылом способен любить, чем сражаться;
Битвы другим суждены; Протесилаю – любовь.
Ныне признаюсь тебе: я хотела назад тебя кликнуть —
Знаменья лютого страх заворожил мне уста.
Помнишь, когда выходил из дверей ты, в поход снаряжаясь,
Как невзначай ты порог, переступая, задел?
Стон издала я, увидев, и в тихой молитве шепнула:
«Пусть возвращенье его эта примета сулит!»
В этом тебе признаюсь, чтоб не слишком ты бодро сражался.
Пусть опасенья мои ветер развеет скорей!
Есть, говорят, и вещанье: «Кто первый из рати данайской
Вражьей коснется земли, жертвою рока падет».
О ты бедняжка, что первой погибшего мужа оплачешь!
Ты лишь, мой друг, не пленись славою рвенья пустой.
Нет, если тысяча всех, пусть твое будет тысячным судно,
Пусть утомленных уж волн силу смиряет оно.
Помни еще: из него выходи ты последним на берег.
Да и к чему там спешить? Ждет не родной тебя край!
Вот как домой поплывешь – торопи и веслом, и ветрилом
Судно и резвой стопой первым с него соскочи!
Скрылся ли Феб за горой, с высоты ль озаряет он землю —
Ты мне и ночью глухой, ты мне зазноба и днем…
Ночию боле, чем днем. Как сладко текут для влюбленной
Ночи часы, коей стан друга обвила рука!
Я ж на холодное ложе обманчивый сон призываю:
Нет наяву мне утех – тешусь хоть грезой пустой.
Только зачем ты, мой друг, таким бледным являешься милой?
И почему твоя речь дышит печалью такой?
Я просыпаюсь в испуге, молюсь привидениям ночи,
Всех фессалийских богов ладаном чту алтари.
Ладан дымится, и слезы текут, и от влаги горючей
Светится, как от вина, вспышкой внезапной огонь.
Скоро ль прижмусь я к тебе? Бесконечно – пока сама радость
Сладкой истомой любви уз не развяжет моих?
Скоро ль в объятиях друга, покоясь на ложе веселом,
Повести буду внимать подвигов бранных его?
Чудная будет то повесть! А все же приятно нам будет
И поцелуем прервать воспоминаний поток.
Это – законный отделов конец, и живее польется
После задержки такой речь о троянских боях!
Троя! Лишь вспомню о ней, мне чудятся бури и волны,
Гаснет в тумане забот светоч надежды моей.
Что б это значить могло, что ветрами поход ваш задержан?
О, я боюсь, что ему силы противятся вод.
Даже домой против воли ветров не решаемся плыть мы;
Вы ж против воли ветров из дому плыть собрались!
Сам Посидон преграждает вам путь в свой излюбленный город6565
Посидон по просьбе Лаомедонта окружил Трою неприступной стеной.
[Закрыть]:
Что же вас гонит? Домой каждый вернитесь скорей!
Что же вас гонит, данайцы? Ветров повинуйтесь запрету!
Это не прихоть судьбы – гнев это бога на вас.
Ради блудницы презренной поход вы такой снарядили!
Есть еще время: назад бег поверните, ладьи!..
Что я? Назад вас зову? Отвратите вы знаменье, боги!
Пусть вас по ровным волнам ласковый ветер несет!
Счастлив троянок удел. И своих многослезная гибель
Будет у них на глазах, будет и враг недалек.
Там на супруга лихого своею рукой молодая
Латы наденет, чело шлемом его осенит…
Латы наденет, свой труд облегчая лобзанием нежным;
Будет и ей и ему служба такая сладка.
В бой провожая супруга, совет ему даст на прощанье:
«Помни доспехи свои Зевсу родному вернуть!»
Он же, в душе затаив своей милой прощальное слово,
Будет сражаться умно, с мыслью о доме своем.
Та по возврате героя и шлем с него снимет, и латы —
Белою грудью своей снимет усталость с него…
Да, ее сладок удел. А нас неизвестность замучит,
Всякой возможной беде верить заставит нас страх.
Все же, пока на чужбине ты в бранной заботе томишься.
Образ из воска твои мне сохраняет черты.
Он моей ласки предмет; он к тебе обращенные речи
Слышит, объятья мои он получает пока.
Верь: не простой это воск. В нем я тайную чувствую силу:
Дар бы был слова – нашла б Протесилая я в нем.
Все на него я смотрю: точно к мужу, к нему прислоняюсь;
Плачусь ему, точно речь он понимает мою…
Я же возвратом твоим и священною жизнью клянуся,
Пламенем общим сердец, брачных святыней огней,
Друга главой, что седою я некогда видеть желаю,
Друга главой, что обнять я с нетерпением жду…
Всюду, куда б ни позвал ты, на том ли, на этом ли свете,
Я за тобой, мой супруг, спутницей верной пойду…
Ныне же кратким заветом свое я закончу посланье:
Если меня ты сберечь хочешь, себя береги!
Из «Сказочной древности»
Итак, высадка. Она затруднена – берег занят троянами. И тут еще смущающее вещание: чья нога первая коснется вражеской земли, тот падет первой жертвой войны. Робких оно смущает, но смелых – нет; а смелых большинство. Соскочили Ахилл, Диомед, другие в воду по пояс, вброд направляются к берегу, потрясая копьями; но всех ближе к берегу корабль Протесилая, он первый достигает земли, торжествующим криком возвещая о своей победе. Его бы окружили, но второй за ним – Ахилл со своим огромным копьем, пелионским ясенем. Трояне несколько подаются назад: но вот два их бойца протискиваются в передние ряды, два сына богов: Эней, сын Афродиты, и огромный Кикн, сын Посидона. Эней выступает против Протесилая, Кикн – против Ахилла; остальные невольно замерли, следя за единоборством вождей. Храбро защищается Протесилай, но ему не сравняться с сыном богини: после нескольких безуспешных ударов он падает, сраженный Энеем. Война нашла свою первую жертву. Эней бы не прочь по праву победителя сорвать с него доспехи, но Ахилл, видя грозящее товарищу бесчестие, мощным ударом поражает Кикна и бросается против Энея. Остальные за ним: и труп Протесилая спасен, и побережье осталось за ахейцами.
Они с помощью вальков вытягивают свои корабли на сушу в один длинный ряд; с наступлением вечера они торжественно сжигают труп Протесилая, чтобы отправить его вдове урну с его прахом…
Этой вдовой была Лаодамия, молоденькая дочь Акаста Иолкского, сына Пелия. Как таковая, она была племянницей знакомой нам Алкесты и нравом была вся в нее: подобно ей, нежно, до самозабвения любила своего мужа. Недолго она им насладилась: уже на следующий день после свадьбы он должен был отправиться в Авлиду. Отныне у нее было только одно утешение: статуя из воска, изображающая Протесилая, изделие лучшего в Элладе художника, ученика Дедала. Сходство было поразительное: если бы не неподвижность, его бы можно было принять за Протесилая.
И вот вестник от войска:
– Пал твой Протесилай, мы приносим тебе его прах.
Похороны, тризна, соболезнование родни, утешения Акаста. Она в забытьи, безучастно и глядит, и слушает, и исполняет, что от нее требуют. А затем затвор, заповедный терем, где, весь убранный, стоит кумир Протесилая. Проходят дни; кончились месяцы траура, можно молодой вдове подумать о новой свадьбе… а если не ей, то ее отцу. Жених уже найден; назначен день для торжественного бракосочетания. Но Лаодамия только головой качает, и загадочная улыбка играет на ее устах: новый муж? Ей? К чему?
Фессалийская родина Лаодамии – страна колдуний: они многое знают и многому могут научить. А между изображением и изображаемым есть таинственные необоримые узы. Не все это знают, не все их умеют использовать, но кто умеет, тот может через изображение подействовать на изображаемого, где бы он ни находился, на суше или на море, на земле или под землею… На земле или под землей…
Счастливая Лаодамия ничего не знала, но в горе она научилась и знает многое…
Отец недоволен ее отказом; пусть! Она удаляется к себе в терем, в заповедный покой, где в озаренном светильниками углу стоит весь убранный в зелень кумир Протесилая. Плющевый венок покрывает его голову, небрида свешивается с плеча: он и Протесилай, и Дионис. И Лаодамия надевает символ службы Дионису, плющевый венок и небриду; тирс в одной руке, тимпан в другой: она – вакханка, прислужница Диониса. Пусть слышит дом ее песнь, шум пляски и звон тимпана: тем лучше, никто не посмеет к ней войти, священнодействующей вакханке. И она начинает пляску перед кумиром – восторженную, безумящую пляску. Гудит тимпан, льется песнь: «Эвоэ, эвоэ! Явись, Дионис, явись… Протесилай!»
Долгая, безумящая пляска. Ее сознание тонет в этом вихре, рука выпускает тимпан, она падает, мрак заволакивает ей глаза. Но только на мгновение: она их поднимает – что это? Рядом с ее Протесилаем стоит другой, такой же. Двоится у нее перед глазами? Нет. Такой же, да не совсем. Тот недвижен, а этот подходит к ней: «Радуйся, моя верная! Любовь сильнее смерти; песнь любви раскрыла врата Аида. Я твой и ты моя – на эту ночь…»
К утру старый раб подходит к терему Лаодамии: хозяйка должна выйти к нему, принять от него корзинку с плодами: так в доме заведено. Но она не выходит, и в терему все тихо. Что бы это могло значить? Старость имеет некоторые права: он заглядывает в щелку – и в ужасе отскакивает. Так вот она какова, эта прославленная верность! Вот оно, это безутешное вдовство! О женщины, женщины!..
Идет к царю Акасту:
– Ступай, царь, посмотри на свой позор! Твоя дочь в терему, а с ней… стыдно сказать…
Акаст в ярости выхватывает меч и бросается к дочери. Вот, значит, почему ей понадобились эти притворные Дионисии! Вот почему она отказывается от нового, законного и честного брака! Он хочет уже ворваться в заповедный покой – вдруг его дверь сама отворяется и из нее выходит… Любовник? Осквернитель? Нет, ее законный муж, его зять, Протесилай. Ярость сменяется ужасом, ужас – негодованием. Зачем ты здесь? Зачем из преисподней простираешь ненасытную руку на ту, которой место еще долго под лучами солнца?..
Призрак проходит мимо него с кроткой улыбкой на устах; он видит в тени Гермеса, пришедшего за ним. Но где же дочь? Где Лаодамия? Она сидит под кумиром Протесилая, заря блаженства на ее лице. Под кумиром – а, теперь он понял всё. Чары тут действовали, нечестивые, вредные чары. Этот кумир был не только немым утешителем ее вдовства – он был звеном цепи, соединяющей ее с подземным миром. Но он уничтожит это звено, разобьет эту цепь, отвоюет свою дочь обратно для подсолнечного мира, который имеет все права на ее молодую жизнь.
По его приказу на дворе разводится костер: он сам идет за кумиром. Лаодамия в отчаянии: отдать его, залог дальнейших блаженных свиданий? Никогда! Ну что ж, в таких случаях позволительно и насилие; потом сама благодарить будешь. Кумир в его руках, он бросает его в костер. Вмиг беседка пламени окружает его; о, как ему больно, как исказилось его прекрасное, благородное лицо! Что это? Он стонет, зовет ее… Иду, иду… ты мой, и я твоя, не на этом, так на том свете! Опять ее руки обвили дорогое изображение, а ее – багровые змеи всепожирающего пламени.
Лаодамия не умерла; вечную молодость обрела она в огненной купели; вечной сказкой пережила она гибель своего народа. Она живет и среди нас, под различными именами – Леноры, Людмилы, Светланы. Все это – та же Лаодамия, та же сказка про жениха, возвращающегося из могилы к нежно любящей невесте, сказка про любовь, поборовшую смерть.
Приложение
Сатирическая драма у Софокла и Еврипида
Перевод «Киклопа» едва ли не лучший из всех исполненных покойным Иннокентием Федоровичем; он, видимо, воодушевился новизной и оригинальностью взятой им на себя задачи, и я живо помню прекрасное впечатление, которое он произвел чтением своего перевода на своих слушателей в Обществе классической филологии.
Перевод и вступительная статья (в виде послесловия) были напечатаны в его петроградском издании. Статья перепечатывается здесь (т. е. в III томе «Театра Еврипида». – О. Л.) без изменений. Она была написана еще в то время, когда «Киклоп» должен был считаться единственной сатирической драмой, сохранившейся нам из древности; автору не было суждено дожить до обнаружения – в 1912 г. – второго представителя этой ветви драматической поэзии греков, а именно: «Следопытов» Софокла6666
Ф. Ф. Зелинский. Новонайденная сатирическая драма Софокла «Следопыты». Вестник Европы, 1914, № 1. С. 157–177; № 2. С. 141–162.
[Закрыть]. Не подлежит сомнению, что эта счастливая находка заставила бы его кое-где изменить и еще чаще дополнить свою статью; мне же как редактору было бы и неуместно, и неловко производить такую коренную ломку в ней и частично разрушать то, что у него так хорошо сложилось в одно целое. Довольствуюсь поэтому тем, что отсылаю читателя к своей собственной статье о новонайденной сатирической драме Софокла, в которой подведены итоги тому новому, чему она нас научила.
1. Софокл и сатирическая драма
(Новонайденные «Следопыты» Софокла)
I
«Сатирическая драма» в древнегреческом смысле этого слова – т. е. веселая драма сатирического содержания с непременным хором из сатиров – является наиболее чуждой нашему пониманию отраслью античной поэзии и единственной разновидностью драмы, не давшей никаких ростков в новейшей литературе. Уже римляне, благоговейно перенесшие на почву своей словесности другие выработанные греками типы, с этим ничего поделать не могли. В 54 г. до Р. Х. поэт Квинт Цицерон, брат знаменитого оратора, попытался переделать по-латыни одну сатирическую драму Софокла, а именно «Сотрапезников»; но его брат, которому он ее послал для критики, ответил ему: «“Сотрапезники” Софокла мне решительно не понравились, хотя я и готов признать, что ты переделал эту пьесу не без юмора». Затем, центральное положение, которое занимает коротенькая теория сатирической драмы в «Поэтике» Горация, наводит нас на мысль, что главный из Пизонов – адресатов Горация был не прочь испытать силу своего таланта в этой новой для его земляков области; но исполнил ли он это намерение – мы не знаем.
А впрочем, даже греки и специально афиняне относились к своей сатирической драме с постепенно убывающим интересом. Было время, когда она господствовала на трагической сцене; это была эпоха Пратина и Херила – «когда Херил был царем между сатирами», как говорили впоследствии, – около 500 г. до Р. Х. Но вот явился Эсхил и ограничил сатирическую драму четвертой и последней частью тетралогии, представляемой каждым из трех одобренных поэтов на дионисические состязания. Сам он относился к ней очень серьезно и заслужил среди позднейших славу лучшего вообще поэта сатирической драмы. Его преемники Софокл и Еврипид следуют его традиции, но их сатирические драмы мало заставляют говорить о себе, их обоих затмил в этой области второстепенный трагик Ахей Эретрийский. В IV в. сатирическая драма потерпела новую утрату: она была изъята из тетралогии и ограничена одной пьесой для всего состязания, которой зато было отведено первое место. По-видимому, она и здесь только прозябала, пока в двадцатые годы ее не оживил некто Пифон, сделав из нее в то же время сатирическую драму также и в нашем смысле слова: в своем «Агене» – заглавие для нас загадочно – он изобразил жизнь казначея Александра Великого Гарпала с афинской куртизанкой Гликерой в городе Тарсе – ту веселую жизнь, за которой последовал позорный побег Гарпала с царской казной, его происки в Афинах и все дальнейшее движение этой знаменитой на всю древность «гарпаловской панамы». Для сатирической драмы это было последним проблеском; после него она угасла навеки.
От ученых поздней римской эпохи, которым мы обязаны сохранившимися нам выборками из древнеафинских трагиков, и подавно нельзя было ожидать особого понимания этой своеобразной отрасли античной драмы. Всё же они отнеслись к ней с интересом и – точно предчувствуя предстоящий всемирный потоп культуры – приняли в свой ковчег, вместе с 32 трагедиями, также и один экземпляр сатирической драмы. Они остановились на «Киклопе» Еврипида – скорее всего потому, что его содержание почерпнуто из самой популярной рапсодии Гомера, XI песни «Одиссеи». Так-то и до самых последних времен «Киклоп» Еврипида был для нас единственным представителем всей сатирической драмы.
Один представитель это то же что одна точка: он не дает возможности судить о направлении линии – а в данном случае линии эволюции сатирической драмы. Можно себе поэтому представить радость филологического мира, когда в начале 1912 г. стало известным, что неутомимый охотник за папирусами английский ученый Артур Гёнт (Hunt) нашел в египетском Оксиринхе рукопись, содержащую около половины сатирической драмы Софокла – а именно его до тех пор неизвестных «Следопытов» («Ichneutai»). Летом того же года появилось и само издание драмы; оно составляет самую интересную часть IX тома «Оксиринхских папирусов». Только с тех пор мы и получили возможность говорить о сатирической драме Софокла.
Но что такое прежде всего сама сатирическая драма?
* * *
Ее родина – лес; а что такое лес – для чувства, и прежде всего для религиозного чувства?
Это живой источник душистой прохлады, столь благодатной под палящим солнцем юга. Прохладой веет на путника с зелени шумящих над его головой ветвей, прохладой дышат струящиеся у его ног ручейки, жизнетворную силу этой прохлады он охотно воплощает в ласковых, чарующих образах лесных нимф деревьев и родников – дриад и ореад. Да, нимфы населяют этот полный живительной прохлады лес; они живут в каждом из его деревьев, оживляя его своей сочной, могучей жизнью; они изредка показываются путнику, чтобы дать ему добрый совет или осчастливить его видом своей вечно юной красоты; они по ночам при свете луны ведут нескончаемые хороводы вокруг своей повелительницы Артемиды; ибо что такое блаженство, как не вечная пляска?
Это – одна сторона лесной природы; но есть в ней и другая.
Жутким бывает молчание в нелюдимой лесной чаще; но еще более жуткими кажутся загадочные голоса, прерывающие по временам это молчание. Мы отовсюду окружены непроницаемой зеленой завесой; кто знает, что происходит за ней, что значат эти таинственные сигналы, эти зловещие переклички? Того и жди, что вот-вот прорвется эта завеса и из-за нее появится – что? Нечто страшное, звероподобное… Впрочем, нам тут нечего особенно напрягать свою фантазию: и наш народ воплотил в образах своего «суеверия» обе стороны лесной природы, и он населил свои родные леса не только красавицами-русалками, но и внушительными фигурами леших. Лешие – это и есть те существа, о которых говорится здесь. Называли их различно; чаще прочих упоминаются две их разновидности, сатиры и силены, те – помесь человека с козлом, эти – с лошадью.
Сатиры с силенами и нимфы – это обе души лесной природы, страшная и ласковая, мужская и женская; но вместе взятые, все они представляются носителями главной деятельности леса. А эта деятельность – вечное, могучее, безудержное плодотворение. Лес – роскошная мастерская жизни; это на юге еще более бросается в глаза, чем у нас, так как там зеленый лес сам собою вызывает сравнение с выжженной солнцем, мертвой почвой обезлесенных склонов. В ту отдаленную эпоху «аниматизма», о которой здесь идет речь, откровенность и даже грубость не должны возбуждать удивление: только что указанная задача леса отразилась на характере его фантастических обитателей и представителей. Их жизнь – вечная любовь, вечное плодотворение: дерзкая похотливость сатиров и силенов, ласковая податливость нимф. Последнее для нас не так важно, важно первое: дерзкая похотливость – это основная черта, с которой силены и особенно сатиры перешли из своей родной лесной природы также и в сатирическую драму.
Случилось это, однако, не сразу.
* * *
Одним из важнейших событий в религии периода, отделяющего ахейскую эпоху Гомера от эпохи исторической Греции, было перенесение культа Диониса из Фракии к эллинам. Пронесся он по их городам и селам в угаре экстаза, в вихре восторженной пляски; а эта пляска, замутив при своем появлении «широкохороводные улицы» Эллады, все же звала население для завершения веселья на святые «оргады», на окаймленные лесом поляны Пинда, Киферона, Парнаса. В этом особенность культа Диониса: его место – не горная вершина Зевса, не стройный храм Аполлона, не приморский луг Деметры, а именно лесная поляна. Там – закулисная сцена «Вакханок» Еврипида; при чтении его описаний на нас так и веет зеленой прохладой дуба и смолистой негой ели.
А раз вступив на почву живого греческого леса, Дионис, естественно, увидел себя окруженным его обитателями: сатиры, нимфы схватили тирсы, надели небриды и закружились в хороводах как вакханты и вакханки в честь новообъявленного бога. Люди – те только последовали их примеру. Основная черта тех лесных обитателей от этого нимало не пострадала, ведь сам дионисический праздник был по своему первоначальному значению праздником чаемой весны и приливающих соков, праздником оплодотворения дремлющей в зимнем забытьи природы. Нет, сатиры и нимфы могли остаться тем, чем были искони. Люди – те вначале и в этом отношении, как можно догадаться, последовали их примеру. Но вскоре умеряющее влияние религии Аполлона дало себя знать. Он через своего пророка Мелампа «исцелил от бесстыдства» дочерей Эллады; он ввел дионисический экстаз в рамки гражданского благочиния, воздвигши между действительностью и фантазией четкую, хотя и зыбкую грань – грань искусства. В пристойном веселье служили своему богу всеэллинские вакханки на склоне Парнаса; зато в городской театр ворвалась необузданная в своей изначальной удали драма – драма «сатирическая».
И тут природа лесных обитателей обогатилась еще одной важной чертой. Греческие праздники стояли под знаменем работы; пришлось и новым, дионисическим праздникам подчиниться общим правилам. Их приурочили к работе винодела, благо вино, как одно из средств экстаза, было сродни Дионису. Дионис стал богом вина; его лесная свита пошла за ним. Не в одинаковой степени, однако. Я уже сказал, что эта лесная свита состояла из двух, так сказать, пород леших – сатиров и силенов. В широком приволье лесов они мирно уживались вместе, но на арене городского театра пришлось потесниться. Сатиры победили и составили хор благодатного бога. Силены были ограничены числом; обыкновенно выступал только один, и сатиры были поставлены к нему в сыновние отношения. Коневидный отец козловидных детей – это как будто против зоологии. Но фантазия смягчила эти крайности известной неопределенностью характерных примет, по крайней мере этих последних. Правда, она этим подала повод к спору ученых конца XIX в. о том, чем в сущности были сценические сатиры – конями или козлами. Мы этого спора касаться не будем; новонайденная драма прибавила еще одно доказательство в пользу мнения, которое мы всегда разделяли, – что сценические сатиры, несмотря на некоторую неопределенность примет, всегда понимались как козлы, tragoi, и что от этих tragoi и получила свое имя «песня козлов» – «трагедия».
Итак, силен – соответственно старый, лысый, с брюшком – стал отцом сатиров. Для него утехи любви – скорее дело прошлого, о котором он вспоминает охотно и не без хвастовства, как, впрочем, и о других подвигах своей доблести. Но в эти последние будет благоразумнее не верить; в те первые верить приходится, так как их живые доказательства – эти самые сатиры, его дети от лесных нимф. Зато другая утеха для него – живое дело настоящего: это – вино. Его любимый товарищ – винный мех. На то он – воспитатель юного бога; воспитал же он его в этих самых правилах – на радость себе, ему и всему человечеству.
У сатиров, его детей, эта приверженность к вину отходит на задний план; их выдающаяся черта – та похотливость, о которой речь была выше. Правда, в нашей драме она не заметна, если не считать одного сглаженного в переводе места; здесь их благовоспитанность по отношению к нимфе Киллене нас прямо удивляет и наводит на мысль, не пожелал ли Софокл облагородить в этой драме беспутных баловней аттической сцены. Не везде они так приличны: в «Свадьбе Елены», в «Пандоре», вероятно и в «Салмонее», в «Суде богинь», в «Поклонниках Ахилла» они выступали со всей безудержной откровенностью своей исконной лесной природы. В первой из названных драм старый Силен, забыв о собственном прошлом, счел даже отеческим долгом их пожурить, за что, впрочем, получил от них довольно непочтительную отповедь.
Третья черта – та, без которой первые две не были бы достаточно смехотворны: трусость. Ее нам уже не вывести ни из исконной природы наших лесных обитателей, ни из их соединения с культом Диониса; ею они всецело обязаны сцене и обязательной веселости сатирической драмы. А впрочем, и здесь наблюдается количественная разница между старым Силеном и его молодым потомством. Тот все-таки старается хоть внешним образом соблюсти достоинство и поддержать во мнении своих детей легенду о бранных подвигах своей молодости; стоит сравнить ту полную благородного негодования речь, в которой он их распекает в нашей драме. В душе, разумеется, и он полагает, что «осторожность – лучшая часть мужества», подобно шекспировскому Фальстафу, которого наш старый грешник предвосхитил в своей смеси винолюбия, женолюбия и трусости. Сатиры и здесь иного склада. Благоприобретенное стремление их родителя к почтенности им совершенно чуждо; унаследовав от него его стихийную трусость, они проявляют ее самым откровенным образом. Этим создан благодарный контраст между отцом и детьми, которым не преминули воспользоваться поэты.
Таковы оба постоянных элемента сатирической драмы; остальные изменяются в зависимости от ее содержания. Но каковым могло оно быть, это содержание?
* * *
Первоначально – но именно только первоначально, в очень древнюю эпоху, – оно, несомненно, было заимствовано из цикла преданий о Дионисе, свиту которого составили силены и сатиры. Надо полагать, что само «сатировское действо» имело тогда скорее характер кантаты или дифирамба, чем драмы. Дело в том, что религия Диониса, согласно своему экстатическому характеру, сама по себе не была мифотворной: миф получался только при ее столкновении с внешним миром вследствие чинимых этим миром препятствий – миф о Пенфее, Ликурге, дочерях Прета. Таким образом, это были мифы периферические, а не центральные, да и их было очень мало.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































