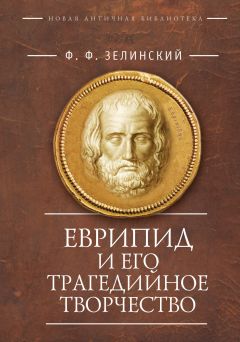
Автор книги: Фаддей Зелинский
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 32 страниц)
Только одно исключение нам известно – трагедия Еврипида под заглавием «Елена». Здесь поэт всецело воспроизвел версию Стесихора – но без всяких политических и этических расчетов. Это было то время, когда он увлекался сложной и запутанной интригой; весь его интерес сосредоточивается на осуществлении побега Менелая и Елены из Египта. Для этого он допустил, что благочестивый царь этой страны умер, а его преемник сам влюблен в Елену и хочет на ней жениться, так что супруги должны его обмануть для того, чтобы вновь соединиться. В сравнении с этим интересом интересы не только психологии и этики, но даже и политики отходят на задний план.
В течение четвертого века политическая мифология пошла на убыль, но с нею и поэзия; когда же эта последняя возродилась, обстоятельства изменились настолько, что для поэтического образа Елены настали новые времена.
VIII
Возрождение греческой поэзии в конце четвертого века было результатом, с одной стороны, потери греческой свободы, с другой – распространения греческой власти на народы восточной цивилизации; оно запечатлено характером романтизма. Взоры поэтов, естественно, обращены назад; они стараются читать в скрижалях прошлого, стараются восстановить с возможной полнотой давно умолкшую, полузабытую песнь – и именно своею нежной любовью, не лишенной известного привкуса грусти, вносят в поэзию новый элемент. Этический и политический элементы в этом греческом романтизме отсутствуют: все хорошо и ценно, что носит отпечаток древнеэллинского гения. Поэзия, чистая поэзия вступает в свои права.
Как же отнесся этот греческий романтизм – который мы, по его главному центру, называем александринизмом, – к преданию о Елене? Мы ничуть не будем удивлены прежде всего, что дельфийская реформа, предпринятая с этическими и политическими целями, была им предана забвению. Ядро фабулы предполагается гомеровское; для александрийской эпохи более чем для какой-либо другой авторитет Гомера был непреложным. Но школа еврипидовского эротизма не прошла даром для александрийских романтиков. Именно здесь, при блестящем дворе Птолемеев, можно было безнаказанно прославлять чары Афродиты и ее непреоборимую силу. Симпатии певцов отвернулись от покинутого супруга; все венки их поэзии были предназначены для смелого юноши, который ради любви пренебрег властью и мудростью и, послушный воле Афродиты, ввел роковую невестку в дом своего отца. Впервые в истории литературы Парис делается любимцем поэзии.
Но это перемещение центра симпатии не было единственным нововведением романтической эпохи: важнее было обогащение самой фабулы.
Дело в том, что первоначальное предание о Сверхчеловеке и Деве не было совсем забыто греческим народом; но его расщепление на отдельные народы, плод племенного деления Греции, породило много имен и вариантов, которые по мере этнографической интеграции снова воссоединялись – воссоединялись произвольно, часто невпопад, под влиянием разных неопределимых ныне случайностей. Помнили, что Сверхчеловек пользовался покровительством и любовью Девы божественного происхождения; что он под влиянием роковой страсти изменил ей ради другой и что эта измена стала причиной его гибели. Теперь этот пережиток первоначального сказания был воскрешен вновь: но так как, вследствие перемещения центра симпатии, Парис стал героем новой поэмы, то и измена была приписана ему. Итак, еще до Елены Парис имел подругу божественной крови, которой он и изменил ради нее. Ее имя было заимствовано из параллельного дорического сказания о Геракле; верной подругой последнего была Деянира, дочь Энея (Oeneus) – именно так, «дочерью Энея», Эноной (Oenone) была названа предполагаемая первая подруга Париса. Не буду вдаваться в исторический анализ частностей; цельное предание, созданное или воссозданное фантазией александрийских поэтов, гласило так.
Когда жена царя Приама Гекуба собиралась родить Париса, ей приснился вещий сон – что она рожает пылающую головню, от которой вслед за тем загорается и сгорает дворец ее мужа. Узнав об этом сне, Приам приказывает родившегося младенца бросить в лесах троянской горы Иды. Но рок спасает своего избранника: Париса находят пастухи, он вырастает в их среде и, выросши, пасет вместе с ними стада своего неузнанного отца. Во время этой беспечной жизни в идейских лесах он знакомится с Эноной. Она – дочь речного бога; а стало быть, и сама богиня, нимфа; ради прекрасного юноши она покидает хрустальный терем своего отца, жертвует своим бессмертием. Все свое знание, все свое умение она посвящает своему возлюбленному; с ним вместе охотится, с ним вместе отдыхает под тенью деревьев. Эта счастливая жизнь царевича-пастуха и девушки-русалки кончается разом, когда Гермес, посланник богов, требует Париса на вершину Иды, чтобы решить спор трех богинь о красоте. Раз насладившись зрелищем божественной красоты Афродиты, он уже не может удовлетвориться миловидностью своей лесной подруги; его тянет к той, которая одна на земле является отражением той небесной красоты.
Тем временем выяснилось и его царское происхождение; на корабле, который ему как царевичу удается без труда добыть, он едет в Спарту, к царю Менелаю и царице Елене. Энона сама снаряжает его в роковой путь, прощается с ним: «В годину крайнего бедствия, – говорит она ему, – вернись ко мне!»
Идиллия кончена; начинается эпос. Его развитие известно нам всем: Парис едет в Спарту, находит у Менелая радушный прием, похищает его жену Елену, вводит роковую невестку в дом своего отца… Как странно обменялись ролями действующие лица нашего сказания! Подобно тому как Парис занял место первоначального Сверхчеловека – и Елена уступила свою роль Эноне и стала той земной невестой, из-за которой герой изменяет своей небесной подруге и навлекает на себя гибель. Вслед за Еленой война надвигается на дом Приама; десять лет бушует она под стенами Трои, лучшие герои гибнут здесь и там; наконец, после падения Гектора, Парис остается последней надеждой осажденного города. Его глава освящена роком: никто из живых не может его сразить, его, от руки которого пал великий Ахилл; только мертвый герой – тот, от стрел которого уже раз пала Троя, – только Геракл может погубить Париса. Далеко на Лемносе, всеми покинутый, живет его последний друг и владелец его чудесного лука Филоктет; за ним посылают – и час возмездия настает.
Эпос кончен; начинается драма. В кровавом бою получает Парис гибельную рану от стрелы Геракла, отравленной ядовитой кровью гидры. Он знает, что ему сулит эта рана; теперь, в годину крайнего бедствия, он вспоминает о той, которая была подругой его счастливой юности. Опять он в лесах Иды; полузабытые образы далеких дней возникают перед ним. Верный товарищ отыскивает Энону в той скрытой пещере, в которой она, пожертвовав своим бессмертием ради своей любви, прогоревала десять лет безотрадной вдовьей жизни. Теперь она может вернуться к своему жениху: смертельная рана восстановила ее права на него. Но пожелает ли она к нему вернуться? Вначале, когда она слышит о постигшей его участи, чувство обиды берет верх над нежностью: она отказывается помочь изменнику в его предсмертный час, пусть он идет к ней, к разлучнице! С этим жестким ответом отпускает она посланца; с грустью в сердце возвращается он к умирающему: последняя надежда угасла! Но вслед за тем Энона раскаивается в своей жестокости; она оставляет свою пещеру, спешит к тому месту, где ее ждал ее неверный друг… Поздно! Он лежит бездыханный под сенью дерев. Поздно – для других, но не для нее; она обладает всем знанием вещей русалки, ей ведомы все зелья, которые рождает Мать-Земля. Силой своего волшебства она возвращает телу только что улетевшую душу: вот грудь заколыхалась, вот легкий румянец украсил помертвевшие щеки, вот благодарная улыбка заиграла на бледных устах… они зашевелились, они шепчут какое-то слово.
Энона прислушивается в мучительном напряжении – да, они явственно шепчут слово… имя… имя Елены!.. Вновь гнев овладевает ее душой; она вскакивает, отшатывается от него; вторично мрак смерти осеняет Париса, и этот раз уже навсегда.
Тем временем солнце зашло; глубокая ночь воцарилась над Идой. Немногие верные друзья, сопровождавшие раненого в его бегстве, вместе с пастухами и охотниками горы воздвигают костер для него. Под их ударами падают вековые сосны Иды; вскоре костер воздвигнут, готова обитель вечного покоя для мятежного сердца Париса. И вот, пока друзья предаются немой грусти у горящего костра, к нему приближается окутанная густым покрывалом женщина. Это – Энона; в последний раз пришла она к своему возлюбленному, но не для того чтобы вернуть ему жизнь, нет: для того чтобы разделить с ним смерть.
IX
Такова эта «романтическая Елена», последний фазис в развитии ее мифа на чисто греческой почве. Кто был ее творцом, сказать наверное нельзя; очень возможно, что им был сам Каллимах, родоначальник романтической школы. Нам она известна лишь из позднейших, производных источников, среди которых эпический поэт Квинт Смирнейский занимает первое место.
Повторяю: наша романтическая Елена была последним отпрыском мифа о Елене, выросшим на чисто греческой почве. Я думаю, всякий без затруднения назовет ее «прекрасной»; многим она, пожалуй, покажется даже интереснее наивной гомеровской грешницы, не говоря уже о призраке Стесихора. Такого мнения была и греко-римская поэзия эпохи империи, принявшая наследие александрийского романтизма; в виде образчика приведу, в своем переводе, фиктивное послание Эноны Парису, написанное Овидием («Послания героинь», V). Временем послания предполагается то, когда Парис уже похитил Елену и ахейцы требуют ее обратно, угрожая войной в случае отказа.
Что ж, прочитаешь? Иль нет? Новозванной боишься супруги?
Полно, прочти; этот лист – дар не микенской руки. Пишет Энона тебе, твой товарищ в фригийских дубравах;
Пишет и друга корит… дай мне сказать: своего! Бог ли своим мановеньем мои пересилил желанья?
Грех ли мешает мне быть впредь, как и раньше, твоей? О я смиренно несла бы заслуженной горести бремя;
Но невиновной душе – боже, как тяжек удар!
Ты не царевичем был, когда я, бессмертная нимфа,
Бога речного дитя, мужем тебя назвала;
Ты лишь теперь Приамид, а тогда – не стыдиться же правды! —
Был ты рабом; для тебя стала рабыней и я.
Часто покоились мы среди стад под древесною сенью;
Ложем зеленый нам был листьями шитый ковер.
Часто над стужей седой мы, зарывшись в глубокое сено,
В бедной избушке своей резво смеялись вдвоем.
Вспомни! Не я ли тропу среди зарослей диких являла?
Вспомни! Берлогу зверей между скалами – не я ль?
Часто, мой друг, мы с тобой расставляли плетеные сети,
Часто по склонам горы лающих псов я гнала.
Горные вязы по воле твоей мою память лелеют:
Имя Эноны на них – дело ножа твоего.
Горные вязы растут и с собой мое имя возносят;
Выше растите, друзья, – выше, во славу мою!
Долго, мой тополь, живи, над бурливой рекою повисший,
Ты, что на жесткой коре надпись такую хранишь:
«В день, когда, бросив Энону, Парис своей жизни не бросит,
Волны свои задержав, вспять их погонит Скамандр!»
Что же ты медлишь, Скамандр?.. Что ж вспять своих волн не погонишь?
Бросив Энону свою, жизни не бросил Парис!
День роковой! От тебя мое горе пошло, чрез тебя я
Счастья конец, чрез тебя зиму познала любви!
Гера с Кипридой и та, что в доспехах почтенней, Паллада,
Снявши покровы, пред суд твой согласились предстать.
Сам ты мне все рассказал. Моя грудь содрогнулась, внезапный
Холод до мозга костей все мое тело проник.
Страхом объятая, к старцам, к старушкам согбенным лечу я —
Все мне твердят: «Это грех, дева! Неслыханный грех!»
Падают сосны, пила заскрипела; суда снаряжают;
Скоро в лазурную гладь врезались грудью они;
Мы расстаемся; ты плачешь… Уж в этом стыдись запираться!
То была честная страсть; эта позорит тебя!
Друг мой, ты подлинно плакал; с тобою и я разрыдалась;
Общих потоками слез вылилась общая грусть.
Как вокруг вяза родного лоза в винограднике вьется,
Так мою шею тогда руки обвили твои.
Часто друзьям говорил ты, что плаванью ветер мешает;
Те лишь смеялись: и впрямь, ветер попутный то был!
Часто, расставшись со мною, ты новых просил поцелуев;
Поздно, насилуя грудь, мог ты шепнуть мне: «Прости!»
Вот уже ветер морской твой дремлющий парус колышет;
Вот под ударом твоих весел белеет лазурь.
Взором своим провожаю я вдаль устремленное судно,
Сколько могу, и в песок слезы стекают мои.
«Быстрое плаванье дайте, зеленые дочери моря!»
Да, – чтоб на горе ты мне быстро свой путь совершил!
Так-то моей ты мольбой занесен был в чужие объятья,
Был для разлучницы мой морем услышан обет!
Кряж самородный с земли на широкое море взирает;
Прежней остаток горы, ярость он волн поборол.
Здесь я стояла; вдруг вижу – твой парус вдали показался…
Вижу, и в воду скорей броситься просит душа.
Вижу – над темным бортом незнакомая блещет порфира…
Сердце заныло: не твой, знала я, был то наряд!
Близится судно, попутным гонимое ветром, пристало…
Вся я дрожу: средь мужей женщины вижу лицо!
Вижу… Зачем я так долго, безумная, медлить решилась!
Ах! На коленях твоих дерзко сидела она!
Тут сорвала я покровы, ударами грудь истязуя,
Влажные щеки своим ногтем изранила я,
Жалобным воплем в слезах огласила я Иду святую;
В мраке пещеры лесной скорбь схоронила свою.
Так да горюет Елена, в пустом терему убиваясь!
Радость, что мне принесла, так да познает сама!
Ныне милы тебе те, что по вольному морю скитаться,
Те, что законных мужей склонны бросать для тебя;
А когда в бедности жил и к стадам пастухом был приставлен,
Бедной женой бедняка только Энона была.
О, не богатства твои, не дворец меня царский пленяет
Иль чтоб Приама снохой быть среди многих и мне!
Впрочем… не стыдно Приаму быть свекром наяды могучей,
Или Гекубе – своей имя невестки мне дать.
Да, я хочу – я достойна вельможи женой называться;
Княжеский скипетр моя только украсит рука.
Если ж с тобой я когда-то на листьях дубовых лежала,
Не попрекай: и порфир не посрамлю я твоих.
Ласка моя безопасна: не двинется запад войною
Из-за меня, не пошлет за море сильную рать.
Нет; но Елену обратно с оружием требует мужи,
Этим приданым гордясь, в дом твой вступает она.
Гектора-брата спроси, выдавать ли ахейцам беглянку,
Иль с Деифобом-бойцом Полидаманта спроси;
Что Антенор тебе мудрый, что царственный старец, отец твой,
Скажет, спроси: им был долгий учителем век.
Гнусно, жены ради беглой, вести на погибель отчизну!
Дело позорно твое; прав в своем гневе супруг.
И не надейся ты тщетно на верность лаконской невесты:
Ласке твоей отдалась слишком уж быстро она.
Как Менелай удручен оскверненного ложа позором,
Как он горюет, лихой раненный страстью жены,
Так загорюешь и ты. Невозвратна стыдливости гибель:
Раз только в жизни жена жертвует честью своей.
Любит Елена тебя? Она так и Атрида любила;
Ныне доверчивый муж вдовую греет постель.
Сладок удел Андромахи, что Гектору верной осталась!
Счастье такое мой брак, друг мой, сулил и тебе.
Ты ж ненадежней листа, что, оставленный соком зеленым,
Тканью сухой шелестя, в вихре осеннем летит;
Колоса ты легковесней, что, зноем нестанным палимый,
Гордо пустою главой тянется к солнцу своей.
Я не забыла: все это сестра мне твоя предсказала:
Косу свою распустив, так мне вещала она:
«Ах, что творишь ты, Энона? Пескам семена ты вверяешь!
Парой бессильных волов пашешь ты берег морской!
С Греции телка идет, на погибель отчизне и дому
Нашему; о, берегись: с Греции телка идет!
Граждане! Есть еще время: проклятый корабль потопите!
Сколько, ах, сколько, друзья, крови троянской на нем!»
С криком пустилась бежать; исступленную слуги схватили;
Русые волосы все дыбом на мне поднялись.
О, для меня ты, Кассандра, правдивой пророчицей стала:
Да, захватила поля с Греции телка мои!
Пусть она блещет красой: не пристала развратнице гордость,
Ей, что пришельцем пленясь, брачных забыла богов!
Да и пред тем ее некий Тезей – так, кажется, звали —
Некий Тезей из родной дерзко похитил земли.
Чтоб ее юноша пылкий в семью возвратил непорочной?..
Как я узнала про них? Спрашивать праздно: люблю!
Скажешь: «Насильно увел», – прикрывая вину ее словом;
Слишком уж часто, поверь, терпит насилье она.
Я же, неверный мой друг, и поныне храню тебе верность,
Хоть на измену ты сам лучшее право мне дал.
Тщетно во мраке лесном дерзновенное сатиров племя,
В быстрой погоне резвясь, ласк добивалось моих;
Тщетно и Пан-повелитель, увенчанный ветвью еловой,
В зарослях Иды глухих нимфе любовь предлагал;
Тщетно сам Феб-сладкопевец, троянской твердыни создатель,
Пел про любовь мне; и все ж дар свой оставил он мне:
Всякое зелье лесное и всякий целительный корень,
Все, что рождает земля, силе подвластно моей.
Ах, если б знала я зелье, что раны любви исцеляет!
Горе! Владычице чар чары не служат ее.
Помощь, в которой не властны зеленые дети природы,
В коей не властен и бог, ты лишь мне можешь явить.
Можешь – и должен, мой друг. Пожалей невиновную деву:
Я не носила копья в войске данайском на вас;
Но как была я твоей в беззаботные юности годы,
Так и до жизни конца быть я твоею хочу.
Х
Эта романтическая Елена интересует нас не одной только своей поэтической красотой: введение Эноны, героическая роль Париса доказывают нам, что старинное космогоническое сказание еще было живо в недрах народного сознания, в таинственной обители Матерей. Вспомним элементы этого сказания: Бог (Зевс), Дева, Сверхчеловек – небесная Дева, дочь Зевса, из любви жертвующая своим бессмертием и превращающаяся в смертную подругу Сверхчеловека, – пленение девы Гигантами и ее освобождение Сверхчеловеком, условие обоготворения последнего. Из созданных греческими племенами мифов два были наиболее влиятельными – дорийский и ахейский; по дорийскому, Дева была Палладой на небесах и Деянирой-Эноной на земле; по ахейскому, она была Афродитой на небесах и Еленой на земле. Слияние греческих племен в историческую эпоху привело, как мы видели, к сплетению между собой всех этих образов – иначе и быть не могло.
Но александрийская эпоха была не только эпохой романтической поэзии; она была также эпохой сближения греческой религии с восточными, эпохой космополитизации греческой религиозной мысли. Это космополитическое стремление повело к тому, что мифологические образы перешли в отвлеченные представления, мифологема – в философему; это явление, прослеженное мною уже в области так называемого герметизма, мы наблюдаем и здесь. Там путем последовательных абстракций Зевс превратился в Высший Разум, его сын Гермес – в Разум-Демиурга, сын Гермеса Пан – в Логос; здесь произошло нечто совершенно аналогичное. Старинный миф, упоминаемый еще Эсхилом, о том, что мудрая богиня Афина была рождена Зевсом без матери из собственной головы, подал повод к естественной абстракции: Афина-Мудрость. Таким-то образом дальнейший ход предания о Деве был перенесен на Мудрость. Мудрость бога снизошла с неба на землю; Мудрость воплотилась в образе смертной; Мудрость была взята в плен темными силами; Мудрость в образе Елены стала причиной Троянской войны; Мудрость, пленная, ждет своего освобождения, и богом станет тот, кто ее освободит.
Такова была магистраль дальнейшего развития мифа о Елене – этот раз уже не на чисто греческой, а на греко-восточной почве. Но кроме этой магистрали мы можем наблюдать еще две-три побочных тропинки – что делать, иначе не бывает в коллективном творчестве. Одна тропинка была вызвана созвучием Елена – Селена (=Луна); созвучием, быть может, и не случайным – по крайней мере, многие мифологи и ныне считают эту этимологию правильной. Итак, Елена есть Луна; а Луна получила в нашу греко-восточную эпоху особое значение как богиня чар. Таковой она, положим, была всегда – еще в эпоху Аристофана верили, что фессалийские колдуньи умеют стягивать Луну с небесной тверди и с ее помощью творить чудеса. Но теперь только, с развитием греко-восточной демонологии, это суеверие получило своего рода научное основание: было установлено, что все воздушное пространство до первой планетной сферы, т. е. именно до Луны, кишит демонами; владычицей этого подлунного мира с его демонами предполагалась именно Луна. А раз Луной была Елена, то ясно, что именно Елена была царицей демонов, владычицей чар, богиней магии: кто стяжает Елену, тот получит власть над всеми силами подлунного мира.
Это – одна тропинка; понятно, что она без особого труда могла соединиться с магистралью. Можно ли представить себе мудрость в виде архиколдуньи? О да, вполне: с народной точки зрения это даже единственная возможность. Так получился синтез: Елена-Луна = Елена-Мудрость, существо, окруженное ореолом волшебства и внушающее поэтому более страха, чем любви. Но это еще не всё.
Другая тропинка была вызвана тем элементом предания, согласно которому троянец Парис похитил гречанку Елену: еще Геродот в своей наивной этиологии греко-персидских войн видит в этом факте одну из первых причин возникновения исторической вражды между Востоком и Западом. Таким образом, Елена стала символом эллинизма, носительницей эллинской идеи. Казалось бы, и созвучие должно прийти на помощь этой символизации. Имена Елены и эллинов (Helene, Hellenes) очень схожи между собою; при невзыскательности древних относительно этимологии было бы вполне естественно, если бы они этим созвучием воспользовались. Очень возможно, что это случилось; но следов нам от этой теории не осталось никаких. Поход Александра Великого в Персию воскресил политическое значение Троянской войны как первого крупного столкновения межу Западом и Востоком: молодой македонский царь охотно указывал на свое происхождение от Ахилла, могилу которого он увенчал, находясь в Илионе.
Так-то все эти три элемента: Елена-Мудрость, Елена-Луна, Елена-Эллинизм – жили в сознании греческого народа в ту эпоху, когда началась борьба между христианством и языческими религиями классического Запада. Под влиянием этой борьбы они воплотились в новом, очень знаменательном образе.
XI
Но если Елена как соперница христианства и была всецело созданием греческой мысли, то та сила, которая заставила ее выступить в этой новой для нее роли, была не греческого, а иноземного происхождения. Она была результатом того векового антагонизма, который мы наблюдаем в истории еврейского народа, антагонизма между Израилем и Иудеей, Самарией и Иерусалимом, Гаризимом и Сионом. В противоположность победоносной Иудее с ее строгой и надменной исключительностью, оттесненная и обиженная Самария широко открывала свои двери инородным верованиям и обычаям; здесь еврейство сочеталось с эллинизмом, с одной, с восточными религиями, с другой стороны; а когда христианство, свивши себе гнездо в Иерусалиме, отсюда предприняло свое шествие на западный мир, то из Самарии пошли те веяния, которые имели своей целью то, что Гарнак метко и правильно называет «острой эллинизацией христианства». Чиноначальником этого движения был тот пророк, которого сами христиане впоследствии называли «отцом всех ересей», – Симон-самарянин, обыкновенно называемый Симоном-магом.
Как известно, этот замечательный человек впервые упоминается в Деяниях Апостолов, автор которых к нему относится довольно доброжелательно. Когда апостол Филипп пришел в Самарию проповедовать Христа, он застал там Симона, «который перед тем волхвовал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого; ему внимали все, от малого до большого, говоря: сей есть великая сила Божия». Он принял крещение от Филиппа, а затем, когда апостолы отправили в Самарию из своей среды Петра и Иоанна, он пришел и к ним и «принес им денег, говоря: дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого. Но Петр сказал ему: серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги; нет тебе в сем части и жребия, ибо сердце твое не право перед Богом. Итак, покайся в сем грехе твоем и молись Богу: может быть, отпустится тебе помысл сердца твоего. Симон же сказал в ответ: помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничто из сказанного вами».
Конечно, автору, задавшемуся целью описать первые шаги зарождающегося христианства, не было особенной нужды уделять больше внимания тому, кто стал одним из его успешнейших соперников. В другом положении находились позднейшие апологеты и ересиологи, начиная с Иустина. Им мы обязаны новым родом исторических подробностей о Симоне-маге; но понятно, что они не могли строго отделить эти исторические черты от легендарных, внесенных в традицию о Симоне отчасти народным преданием, рано заинтересовавшимся популярной фигурой самарийского чудодея, отчасти же иудеохристианами, воспользовавшимися этой фигурой для обличения ненавистного им апостола Павла. Некоторым синтезом этой традиции о Симоне должны мы признать составленные во втором веке и сохраненные нам в двух изводах так называемые «Климентины» – древнейший роман в христианской литературе.
Для нашей цели вопрос об историческом ядре традиции о Симоне не имеет значения: она интересна для нас постольку, поскольку в ней нашла убежище наша героиня – Елена Прекрасная, она же и Мудрость, она же и Луна, она же и воплощение эллинской красоты и смелости. О ней нам говорят следующее.
Был в Самарии еще до Симона пророк под названием Досифея. Свою деятельность он начал после смерти Иоанна Крестителя; при этом он называл себя самого Стоящим (Hestos, Stans) и имел с собой жену, которая по одному изводу называется Луной, а по другому – Еленой; окружен он был тридцатью учениками, в числе которых уже автор «Климентин» видит намеки на число дней в месяце. Выдавал он себя за сына Божьего и за того пророка, которого Моисей обещал своему народу.
Эти данные ясно характеризуют Досифея как антихриста: и Христос ведь был Стоящим, был Божьим сыном и обещанным мессией; в его двенадцати апостолах уже раньше христианство видело символический параллелизм с двенадцатью месяцами года, совершенно такой же, как параллелизм тридцати учеников Досифея с тридцатью днями месяца. Новым элементом является лишь Елена-Луна. В ее лице эллинизм вторгается в христианскую ересь; как мы увидим тотчас, он засел в ней довольно прочно.
Учеником Досифея делается Симон-самарянин… другими словами, от него и от его Елены-Луны он научается магии и делается тем магом, которым его знает предание, – что вполне естественно, так как Елена-Луна была именно владычицей магических чар. Но он отплачивает ему неблагодарностью: он похищает Елену и присваивает себе наименование Стоящего, пророка и даже бога… Мы видим, как ревниво предание сохраняет свои исконные черты: даже здесь, в этой еврейско-христианской обстановке, Елена остается прежней Еленой. Раз она Елена, она должна дать себя похитить: ее похищает новый Парис, Симон, у нового Менелая, Досифея. Отныне Симон-маг и Елена – одна чета; они вместе разъезжают, вместе волхвуют, вместе вводят людей в соблазн и гибель. «Свою Елену Симон выдает за первую мудрость (Ennoia) Бога», – так говорит сам Иустин. Еще знаменательнее свидетельство «Климентин»: «Самую Елену, говорит он (Симон), свел он с высоты небес на землю – ее, владычицу, все производящую Суть и Мудрость, ради которой некогда эллины сразились с варварами. Но то был лишь призрак; истинная же была уже тогда у высшего Бога». Так причудливо сплетаются между собой обе Елены, древнегреческая и христианская – или, правильнее, антихристианская. Древняя дочь Зевса осталась верной помощницей своего отца в крайнем и последнем бою, который ему пришлось дать за свое владычество: она обольстила того, кто, крещенный апостолом Христа, должен был проповедовать Его народам; а через него обольстила десятки и сотни других.
Такова эта странная личность Симона-мага, отца ереси, через которую и Елена была введена в древнейший роман христианства; самый же роман имел своим героем не его, не Симона, а Климента, того самого, который был учеником апостола Петра и впоследствии римским папой. Этот Климент был сыном знатного римлянина Фауста; его брат Фаустин воспитывался у прозелитки Иусты и через нее был приобщен к еврейской вере; затем он попал к Симону-магу, стал его учеником и едва не поплатился за это своей душой. Его спасает апостол Петр; благодаря его вещему дару, разрозненная семья – отец и сыновья – соединяются. Но Симон не уступает без боя; когда его диспуты с Петром кончаются для него неудачей, он прибегает к своему сокровенному дару, к магии и волшебству. Благодаря его искусству Фауст, отец обоих братьев, изменяет свою наружность, так что все принимают его за самого Симона. Но Петр и эту уловку обращает во вред ее автору: в образе Симона Фауст отправляется в Антиохию, где раньше учил настоящий Симон, и там торжественно отрекается от симонианской ереси, признавая правильность учения Петра. Что с ним случилось дальше, остается невыясненным.
Художественное значение романа не особенно велико; очевидно, для автора главным было учение самого апостола, сама же романическая рамка имеет для него лишь второстепенное значение. Все же она для нас очень интересна; кто умеет отделять идею от ее формы, тот не может не преклониться перед пророческим духом того человека, который именно Елену избрал символом эллинской красоты и мудрости в этом последнем бою, данном эллинскими богами за свое царство. Бой был ими проигран;
под знаменем креста вступило европейское человечество в новую эпоху своего существования, Елена же надолго вернулась к Матерям.
XII
При всем том «Климентины» в средние века читались: и действительно, они представляли много интересного для средневекового читателя. Я не говорю о специально богословском элементе книги: он был доступен не каждому, да и не был лишен еретического привкуса с точки зрении позднейшей церкви. Но можно себе представить, с каким участием следили за судьбой самого героя, Климента, носителя одного из самых уважаемых имен в христианской церкви, за явным и победоносным проявлением перста Божьего в деятельности апостола Петра, за участью богоискателя Фаустина, выросшего в еврейском прозелитизме, подпавшего затем магии в лице Симона и его Елены и в конце концов спасенного Христом, – а равно и за судьбой самого Фауста, столь странно превращенного тем же представителем вражеской силы. Всё это были поэтические элементы, много дававшие уму средневекового человека и еще более обещавшие в будущем, если бы нашелся художник, способный воссоздать их в истинно поэтическом творении. Но такого не было: для того чтобы такой народился нужно было, чтобы вновь стала понятна основная идея легенды – борьба античного идеала с христианским; другими словами, нужно было, чтобы наступило Возрождение.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































