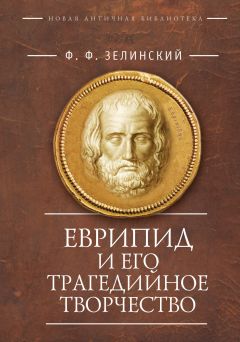
Автор книги: Фаддей Зелинский
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 32 страниц)
Итак, хорошие вести; где же сам Гилл? «Он размещает войско», – отвечает слуга. Подробности тактического характера не интересуют Алкмену:
Об этом весть он, верно, шлет не нам.
Кому это – «нам»? Алкмене и Иолаю, дело ясно. Пусть бы еще Алкмене; на то она – женщина, «война же мужей озаботит», как о том сказал еще Гомер («Илиада»). Но – Иолай! Опять старый витязь слышит, что он – ничто, и этот раз – из уст старухи. Нет, это слишком.
Здесь начинается перерождение его духа. Он расспрашивает слугу; один за другим сыплются воинские вопросы, следуют воинские ответы о числе своих и врагов, о расстоянии между ними, о построении. Чем далее, тем более старый воинственный пыл охватывает соратника Геракла; годы забыты:
И я с тобой. У нас забота та же —
Друзьям помочь, как требует наш долг.
Так и в начале Пелопоннесской войны старый Формион, соратник Перикла, стряхнул свою старость и пошел воевать за Афины – такие слова слушались тогда иначе, чем они читаются теперь.
Он уходит, предстоит бой, четвертый стасим, естественно, посвящен молитве. Стоит его прочесть даже и теперь:
Зевс за нас! Мне не страшно:
Зевс за правду воздаст нам!
Вот она, «языческая» культура! Конечно, и это место, и многие другие в нашей трагедии должны быть читаемы с постоянной мыслью о бушующей за стенами Афин войне: тогда они заживут совсем особой, могучей жизнью.
Все же Иолай уже более на сцену не вернется, его заменяет отныне Алкмена, и это – не к выгоде трагедии. Она – и женщина, и старая; вся ее жизнь была цепью страданий, и виновником всех этих страданий был Еврисфей. Теперь эти страдания завершились утратой внучки; с горем нарастала и злоба, создававшая на дне ее души бешеную мстительность. И в этом отношении Алкмена предваряет Гекубу.
К ней – в пятом действии – возвращается слуга; цель его возвращения – рассказ о победе. Самое чудесное он сообщает первым: милость богов посрамила неверие хора, его насмешливое «не видать тебе юности дважды!» – помолодевший духом герой стал божьим чудом молод также и телом.
Рассказ о битве на этот раз интересует и Алкмену. Предшествует ей вызов Еврисфея Гиллом на единоборство, отклоненный малодушным тираном; интересный мотив, перенесенный Еврипидом или его предшественником из последних лет Гилла в этот его первый бой. Согласно исторической легенде, действительно, первая попытка Гераклидов вернуться в Пелопоннес последовала еще при Гилле; он тогда, стоя на Истме, вызвал лучшего из пелопоннесцев на поединок из-за земли. Вызов принял Эхем Тегейский; Гилл в поединке пал, и Гераклиды должны были вернуться обратно.
Здесь Пелопоннес молчит; наступает битва. Для нее, как мы видели, Еврипид мог использовать два географически различных варианта, марафонский и афинский; по первому она начинается у Марафона и враги отступают на Паллену и Гаргетт. По второму она происходит в Мегариде у Скироновых скал. И мы не верим глазам своим, видя, что афинский поэт механически соединил оба: что у него Иолай, завидев Еврисфея у Паллены, настигает его у Скироновых скал. Хотелось бы верить, что здесь что-то неладно.
Но обратимся к другому чуду, гораздо более красивому. Завидев тирана:
Мольбы
Он жаркие вознес к отцу бессмертных
И Гебе, чтоб ему на день один
Они вернули молодость и дали
Врагам отмстить… И тут готовься весть
О чуде услыхать, царица. Только
Окончил он молитву – две звезды
Поверх ярма сверкнули, колесницу ж
Одела ночи мгла. Нам мудрецы
Так объяснили, что то были – Геба
И твой, царица, сын. И вот внезапно
Рассеялся туман густой и мы
Увидели того же Иолая,
Но только молодым героем, силы
Исполненным нетронутой.
Мы неожиданно попали в атмосферу сказки. Геба сама – вечная молодость; она же и дарит молодостью. Гераклу она – обетованная жена; если она осчастливила своими дарами старого соратника Геракла, то, значит, обет исполнен, – значит, Геракл стал ее супругом, – значит, он гость олимпийской трапезы, он бог. В этом великое значение новой, благой вести – и прежде всего для его матери, для Алкмены:
О Зевс! Ты поздно взор свой обратил
На бедствия Алкмены; но тебя
Благодарю я все ж за милость. Знаю,
Что сын мой средь богов – да, ныне знаю;
А раньше мне не верилось…
И зачем, зачем в это торжественное благоговейное настроение врываются резким диссонансом злобные звуки земной вражды, земной мстительности? Зачем поэт именно теперь напоминает нам, что его Алкмена – не только благословенная мать вознесенного умиротворителя вселенной, но и родоначальница тех спартанских вождей, которые тогда разоряли его родную страну?
Оставим это пока. Хор остается верен настроению; его четвертый стасим прославляет наступивший мир, добытый победою правого дела; он прославляет также и новоявленного бога:
На небесах твой славный сын,
Царица старая; неправ,
Кто молвит, что в Аиде он,
Оставив пепел на костре…
Поэт очень красиво воспользовался старинной традицией, приведенной нами выше, согласно которой «марафонцы первые признали Геракла богом»; составив хор своей трагедии из марафонцев, он их устами провозглашает новый догмат греческой религии, божественность того, кто в течение всей своей жизни служил людям и водворял человечность среди человечества.
И кто желает гармоничного конца трагедии Гераклидов, тому лучше здесь прекратить ее чтение. Поэт его не желал – здесь, как и большею частью в других трагедиях; это раз. А затем, этико-политическая тенденция этой трагедии требовала, чтобы он преподал своим согражданам еще одну науку.
Следует эксод. Освещение круто меняется; изнанка диафании, о которой нам местами напоминали и раньше, выступает во всей резкости своих багровых красок. На сцене опять Алкмена – но уже не скорбящая бабка Гераклидов, не прославленная родительница обоготворенного Геракла, а родоначальница беззаконных опустошителей Аттики. Перед нею – предмет ее давнишней ненависти, Еврисфей.
Действительно, последняя часть рассказа слуги, пропущенная нами выше, заключала весть о том, что Иолай взял его в плен. Алкмена тогда была удивлена: зачем это, зачем не убил? И в ее удивлении мы признаем элемент подлинной традиции, по которой, как мы видели выше, Иолай или Гилл, настигши Еврисфея у источника Макарии, отсек ему голову. «Зачем это?» – спрашивает Алкмена – и мы повторяем ее вопрос. Ей ответом будет:
Хотел тебе доставить радость он,
Чтоб ты врагом плененным насладилась.
А нам – убеждение, что только этим путем поэт мог дать своим согражданам тот урок гуманности, в котором они нуждались в охватившей их войне.
Но мы предупреждены: красоты, гармонии мы от того мрачного эксода ждать не должны. Перед нами мстительная женина, получившая, наконец, давно желанную возможность отплатить своему мучителю равным за равное:
Так вот ты, ненавистный! Наконец
И до тебя добралась Правда…
Она с наслаждением припоминает ему все, чем он согрешил против ее сына и внуков, и заключает свое торжествующее слово сладострастным описанием ожидающей его казни.
Но тут вмешивается некто, без которого задуманная поэтом наука не была бы наукой, – представитель Афин. Не Демофонт – его слово было бы делом, а традиция требует смерти Еврисфея: это одна из ее нерушимых вех. Афины представлены тем воином, который по поручению Иолая и Гилла привел тирана к Алкмене. Пусть же от него узнает старая царица, что казнить военнопленных нельзя. Решение относительно Еврисфея уже состоялось; оно гласило: отпустить.
Извиняюсь по поводу этого слова, которое здесь отнюдь не имеет значения «отпустить на волю»; я им буквально перевел греческое слово apheinai, техническое значение которого – «оставить безнаказанным» – сохранилось еще в молитве Господней.
На удивленный вопрос Алкмены, покорился ли и Гилл этому решению, вестник отвечает, что не мог же он оказаться ослушником Афин; итак, им и только им принадлежит почин в этой гуманной науке… Ну что ж, тогда ослушницей будет она.
Тут берет слово Еврисфей.
Я уже сказал: освещение круто меняется. Если Алкмена здесь для нас, т. е. для зрителей Еврипида, – представительница враждебной им Спарты, то Еврисфей – царь Аргоса, который в начале Пелопоннесской войны соблюдал по отношению к Афинам дружественный нейтралитет и ждал только истечения срока договора, связывающего его со Спартой, чтобы открыто перейти на их сторону. При этом новом освещении симпатии на его стороне. До сих пор он представлялся нам трусом – до его отказа от поединка с Гиллом включительно. Теперь мы вносим поправку в эту характеристику. Противоречия, впрочем, нет: он – представитель того, что я в другом месте назвал «пассивным героизмом»: трус на поле брани, стойкий перед пыткой. Перед своим кровожадным врагом он держит себя с несомненным достоинством. Правда, его самозащита относительно его вражды с Гераклом – так же как и схожая самозащита Елены позднее в «Троянках» – нас мало удовлетворяет: он все сваливает на богов, а именно на Геру. Но нам нравится в его устах похвала погибшему Гераклу, и особенно нравится заключение:
Теперь – свершилось. Смерти жаждал я —
Меня живым оставили. Отныне —
Так верует Эллада вся – никто
Меня без скверны уж убить не может.
Афины благочестье соблюли:
Не ставя гнева выше божьей воли,
Меня велели отпустить они.
Сказала ты – сказал и я; в дальнейшем
Уж нет врагов, а есть проситель скромный
И покровитель благородный… Впрочем,
Мне все равно: хоть смерти не желаю —
Без горечи расстанусь с жизнью я.
«Отпусти!» – властно повторяет за пленником и старший марафонец… и это двусмысленное слово внушает Алкмене поистине адскую мысль:
Его лишу я жизни,
А труп отдам родным, когда придут.
Так в отношенье тела волю граждан
Исполню свято, он же понесет
Из наших рук заслуженную кару.
Будь здесь Демофонт, он бы теперь крикнул коварной царице свое давнишнее благородное слово:
Перехитрить богов? Совет неумный!
Теперь оно негодующе раздается в сердце зрителей, вспоминающих вероломную расправу спартанцев со сдавшимися илотами и еще другое в том же роде. Протест вестника умолкает; Еврисфей видит, что его участь решена, и объявляет всем окружающим свой последний завет, столь же чуждый нашему чувству, сколь характерный для древнегреческой религии.
Его смерть неминуема; пусть. Но его дух переживет его тело во всей силе его загробной доли; и этот дух сохранит последние чувства, волновавшие его при жизни тела, – чувство благодарности к Афинам, чувство ненависти к потомкам Гераклидов. Пусть же его похоронят у храма Палленской Афины; отсюда он будет грозить ее врагам, охраняя как верный страж ее страну.
Прежде всего подчеркну, что поэт становится решительно на почву марафонского мифа. У храма Палленской Афины лежал Гаргетт, традиционное место погребения Еврисфея; это было преддверие марафонского Четырехградия. Конечно, выбор именно Еврисфеем этого места отдает произволом; в описании битвы он себе оправдания не находит. Там, следуя за отступающим неприятелем, Иолай у храма Паллениды только видит колесницу Еврисфея, что имеет последствием его молитву, и, превращенный, настигает его у Скироновых скал. В самой марафонской традиции дело объяснялось просто: Еврисфея убивают у источника Макарии близ Марафона, его тело выдается войску, которое, отступая, хоронит его в Гаргетте близ храма Паллениды. Еврипид уклоняется от традиции, заменяя убиение пленением. Отдачу тела он сохранил в виде рудиментарного мотива в вышеприведенном предложении Алкмены; так как сам Еврисфей от нее отказывается, предоставляя заботу о его похоронах афинянам, то о ней больше речи нет. А потому, повторяю, выбор Паллены – произвол, находящий себе объяснение не внутри трагедии, а вне ее.
Зато он, как и все предсмертное слово Еврисфея, в связи с историей первых лет Пелопоннесской войны, дает ценный хронологический намек, которым не замедлила воспользоваться новейшая филология. Я привел выше свидетельство Эфора (у Диодора) о пощаде, оказанной спартанцами в их первых набегах на Аттику марафонскому Четырехградию: они сами объясняли эту пощаду своим уважением к области, приютившей их родоначальников Гераклидов, Еврипид – их страхом перед тенью Еврисфея. Во всяком случае, весна после первого набега – 430 г. – terminus post quem для нашей трагедии. Но с растущим ожесточением войны и тот пиетет или страх пропал, в 427 г. спартанцы, по свидетельству Фукидида, «опустошили и те части Аттики, которые они щадили в прежние набеги». И это им сошло безнаказанно – значит, с 427 г. уже не могло быть речи об угрозах Еврисфея. Отсюда следует, что наша трагедия поставлена между 430 и 427 годами. Честь установления этого остроумного синхронизма принадлежит Виламовицу; современная критика с ним справедливо согласилась.
Возвращаемся, однако, к заключению нашей драмы – к тому резкому диссонансу, с которым поэт нас отпускает. Обет Еврисфея вызывает со стороны кровожадной царицы новый взрыв насмешки: «Ну вот, вы слышали, по смерти он ваш могучий друг. Ускорим же наступление этой благодати». Среди многих кощунств, отмеченных древней и новой критикой у Еврипида-«богоненавистника», это едва ли не самое сильное; отсюда уже рукой подать до прославления «подвига» Иуды Искариота.
Поселяне хора – «согласны». Как это понимать? Убеждены ли они? Или только ошеломлены? Во всяком случае, трагедия должна была кончиться здесь: без согласия хора казнь Еврисфея совершиться не могла, а ее властно требовала традиция о могиле близ храма Паллениды.
Были ли ошеломлены также и зрители? Мы не знаем. Но про одного из них мы знаем, что он не дал себя ошеломить; это был Софокл. Около того же времени, – быть может, годом раньше – он дал Афинам одну из своих лучших трагедий – «Царя Эдипа». И про его героя ходило предание, родственное тому, которое Еврипид рассказывал про своего Еврисфея, – что под конец его жизни Афины его приютили и что он стал залогом безопасности для них. Правда, тогда мужественный дух почти семидесятилетнего поэта еще не был склонен следовать ласковому призыву благодати; и прошло более двадцати лет, пока и для него не наступила старость. Но когда она наступила – он дал своим согражданам новое разрешение Эдиповой загадки в духе его родного предания, но без того диссонанса, которым страдала мятежная душа Еврипида. Кто хочет познать истинно религиозное значение заключительного мотива «Гераклидов», тот должен прочесть «Эдипа в Колоне».
VII
А теперь подведем итоги.
Что дают нам «Гераклиды» – прежде всего в художественном отношении?
Это – совокупность нескольких трагедий, не без искусства сплетенных между собой. Правда, центральная из них – трагедия самих Гераклидов – имеет своими героями безмолвную группу, красиво окружающую алтарь милосердного бога. Ее перипетия, вмешательство Копрея, начинается еще в прологе; это единичный случай. Разрешителем является Демофонт, единственный определенный и потому нетрагический характер трагедии, рыцарский представитель воли Афин и их богини. Правда, обещанное им заступничество оказывается неокончательным; но тут трагедия Гераклидов переходит уже в трагедию Макарии.
Она более прочих пострадала, отчасти по вине Еврипида, отчасти вследствие переделки. Еврипид пропустил ее предпосылки – убийство Копрея и гнев элевсинской богини. Убийство Копрея было грехом афинян, не Гераклидов; предлагая себя искупительной жертвой, Макария умирает за афинян. Все это здесь изменено. Не по вине Еврипида лишились мы развязки, рассказа о смерти Макарии. Разрешителем в первоначальной редакции был, вероятно, тот же Демофонт; судя по одному отрывку, рассказчиком выступает именно он. Но при всем том Макария была, согласно сказанному, только эскизом к Поликсене из «Гекубы», а Поликсена в свою очередь покажется только эскизом, если сравнить ее с Ифигенией (Авлидской); неудивительно, что трагедия Макарии была забыта.
Обе трагедии – и Гераклидов, и Макарии – сплетаются с трагедией Иолая. Мы видели, как сознание его старческой немощи, к которому он приходит в разговоре и с Копреем, и с Демофонтом, и, наконец, с Макарией, вызывает в нем тот подъем духа, который, начинаясь в сцене с Алкменой и слугой, подготовляет его чудесное преображение в битве. Самый факт Еврипид заимствовал у поэта фиванского варианта; к сожалению, условия трагедии не дозволили ему довести его до конца. Мы покидаем Иолая у трофея, которым он венчает свою славную победу; рассказа о его смерти Еврипид, отвлеченный трагедией Алкмены, уже не успел дать. Поэт фиванского варианта свою балладу об Иолае кончил именно ею. Что Еврипид с ним не расходился, на это можно найти указание в самой молитве старого витязя:
Чтоб ему на день один
Они вернули молодость.
А что с молодостью улетит и жизнь, это разумеется само собою; так чувствовали и поэт «Строителя Сольнеса», и поэт «Потонувшего колокола».
И, наконец, трагедия Алкмены, самая неутешительная из всех. Правда, и она пострадала: ее начало пропало вместе с концом трагедии Макарии; но, как бы мы его ни дополнили, впечатление не изменится. Мы простили бы покинутой избраннице Зевса ее богоборство, если бы она так и осталась покинутой, если бы ее патетические слова:
Уж жалобы из уст моих Кронид,
Конечно, не услышит – сам он знает,
По правде ли со мной он поступил! —
остались без опровержения. Но после того как они блистательно опровергнуты эпифанией Геракла и Гебы, дальнейшее на чисто художественной почве уже необъяснимо. В своей «Гекубе» поэт устранил этот недостаток. Та – несчастна, и нарастание ее несчастья дает ей человеческое право на ее нечеловеческую злобу – то право, которого счастливая Алкмена лишена.
Итак, при многих красотах в частностях художественные изъяны налицо. Подробный анализ трагедии только подтверждает приговор, подсказанный первым впечатлением: в художественном отношении это – сама слабая драма Еврипида. Она почти что не нашла отклика в новейшей поэзии: из эпохи французского классицизма Патен приводит (не считая ненапечатанной драмы де Бри) только две попытки ее воскресить, Данше и Мармонтеля, обе неудачные, особенно вследствие нелепой идеи авторов превратить дочь Геракла в героиню любовной интриги.
Но мы знаем уже – в этой трагедии художественность вообще отступила на задний план. Ее цель – этико-политическая. И наш главный вопрос после нашего анализа – что дал поэт своим согражданам в этой, в этико-политической области?
В той сцене, которую редактор наших «Гераклидов» пропустил, – сцене рассказа Демофонта о смерти достойной дочери Геракла, – Иолай, обращаясь к молодому царю, в следующих словах сосредоточивает науку того, что он видел и слышал:
Три доблести превыше всех, мой сын,
Ценить ты должен: чтить богов бессмертных,
Родителям почтенье воздавать
И соблюдать закон Эллады общий.
Так поступай, и ты венец стяжаешь
Неразрушимой славы навсегда.
Этот общий закон Эллады – по-нашему, закон международного права – именно тогда, вследствие растущего ожесточения войны, чем далее, тем более забывался: видя, что враги его не уважают, и граждане Паллады переставали считать его обязательным для себя. Наклонная плоскость давала знать о себе, особенно с тех пор, как место гуманных Периклов заняли решительные, ни перед чем не отступавшие Клеоны. Растущему соблазну «реальной» политики с ее близорукой рассудительностью Еврипид решил противопоставить возвеличение другой: той, которая покоится на признании закона – хотя бы и попираемого врагами – но все же закона, общего для всей Эллады.
Первое требование этого закона – это то, что правда стоит выше силы. Афинам предоставлен выбор между Еврисфеем и Гераклидами. Там – сила цветущего царства, здесь – слабые старцы и дети; да, но здесь также правое дело, узы родства, давнишние заслуги и честь. И афинская совесть в лице Демофонта избирает это, отвергая то.
Второе требование – неприкосновенность посла. Пусть этот посол будет самым недостойным в мире человеком, пусть он нарушает державные права того государства, к которому он отправлен, – священный жезл Гермеса его все-таки охраняет, и, давая отпор его насильственному деянию, справедливый царь все-таки должен оставить невредимым его самого.
Третье требование – пощада военнопленным. Суровая необходимость взаимоубийства действует не далее самой битвы – только пролитая в бою кровь не оскверняет того, кто ее пролил, не навлекает на него гнева Эриний. Пусть исступленная в своей злобе родоначальница спартанских царей не признаёт для себя этого закона – поэт отпускает своих зрителей в уверенности, что беззаконно ею пролитая кровь ляжет тяжелым проклятьем на ее потомство, на тех, которые именно тогда разоряли посевы и насаждения его родной страны.
Если это не поэзия – можем сказать и мы, – то это нечто лучшее чем она. Но афинский поэт не допустил бы этого разделения; как ни был к нему несправедлив его гениальный враг Аристофан, а все же ему, а не кому-нибудь другому вложил в уста он ответ на вопрос его противника («Лягушки»):
Отвечай мне, за что восхвалять мы должны
И великими ставить поэтов? —
тот достопримечательный ответ:
За изящество духа, за умную речь
И за то, что к добру направляют
Они души сограждан.
Да будет же он судим по собственному закону!
1916
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































