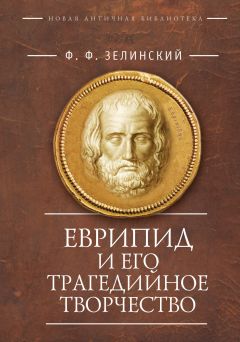
Автор книги: Фаддей Зелинский
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 32 страниц)
В таком положении были дела, когда Дионис со своими «азиатскими вакханками» вернулся из Лидии в Фивы. Узнав о клевете, распущенной его тетками про его мать, он их заразил безумием и заставил с прочими фиванскими женщинами бежать на Киферон; это отныне «фиванские вакханки», отличные от азиатских. С Пенфеем, отсутствующим, у него разговор впереди.
Таково построение в «Вакханках» Еврипида; было ли оно тем же и для трилогии Эсхила, мы сказать не можем. Да мы в сущности ничего про эту трилогию, т. е. ее несогласие с трагедией Еврипида, сказать не можем, кроме одной черты. Зато это – черта довольно интересная и драгоценная.
А именно: узнав о побеге фиванок, Пенфей берет с собой вооруженную дружину, чтобы силой заставить их вернуться в свои дома. Дионис в свою очередь становится во главе вакханок; его помощница Лисса (олицетворенное исступление) помрачает очи вакханок, так что они не узнают Пенфея и разрывают его на части «точно зайца». Я назвал эту черту драгоценной, так как ею доказывается, что данное Еврипидом развитие фабулы, совершенно отличное от только что очерченного, составляет его собственность. А в этом психологически тонком развитии – главный интерес драмы.
Второй трагик, Софокл, специально дионисических тем в своих трагедиях не касался; все же вакхический оргиазм в одной его трагедии встречался, а именно в «Терее». Отсылая читателя к сказанному в III томе моего Софокла (стр. 363)3030
Фракийский царь Терей в награду за помощь, оказанную афинскому царю Пандиону I против Фив, получил от него в жены его дочь Прокну, которая родила ему сына Ития (Itys). Однажды Прокна, стосковавшись по своей сестре Филомеле, упросила мужа ее привезти. Терей исполнил ее желание, но при этом сам влюбился в Филомелу и по прибытии во Фракию совершил над ней насилие в глухом помещении, где и оставил ее под стражей, отсекши предварительно у нее язык. Жене он сказал, что ее сестра умерла.
Филомела в заключении вышила драгоценный плащ, на котором рисунками и письменами изобразила причиненную ей обиду, и в триетерический праздник Диониса, когда фракийские женщины по обычаю одаривают царицу, послала его Прокне.
Здесь начало трагедии.
Терей отправился на охоту; Прокна грустит о себе и о сестре. Приходит хор вакханок; за ним страж с подарком царице – плащом Филомелы. Узнав из него и от стража о случившемся, Прокна сама наряжается вакханкой, в исступлении взламывает дом, где жила Филомела, и приводит ее к себе. Вдвоем они убивают Ития; по приходе Те-рея Прокна угощает его плотью собственного сына, после чего появляется Филомела с головкой мальчика. Терей с мечом в руках бросается на обеих сестер; тут боги всех превращают в птиц: Терея – в удода, Прокну – в соловья, Филомелу – в ласточку. С тех пор Прокна-соловей вечно плачет об убитом Итии, Филомела-ласточка щебечет, точно силясь что-то сказать, Терей-удод грозно смотрит и (будто бы) сторонится соловья и ласточки.
[Закрыть], укажу здесь, что вакхический оргиазм в этой трагедии должен был объяснить ужасное преступление, совершенное героиней, – детоубийство. Правда, она пылала жаждой мести – ее варвар-муж, фракиец Терей, изнасиловал и изувечил ее сестру, которую он и держит узницей в горной пещере; но то, чего было достаточно для варварки Медеи, недостаточно для афинской царевны Прокны. Хор состоит из фракийских вакханок. Повинуясь их увещаниям, она едет на колеснице в горы, за сестрой… На колеснице; Еврипид впоследствии не отказал себе в удовольствии подчеркнуть этот не совсем дионисический элемент в трагедии своего соперника:
Кадм. Но до горы не лучше ль нам доехать?
Тиресий. А богу тем почет не уменьшим?
Важнее вот что. Из «Терея» нам сохранились и хорические песни – вакханок, значит. И вот в одной из них развиваются интересные мысли о равенстве всех людей:
Одно мы племя; всех на один образец
Отец и мать родили нас; и нет в природе,
Кто б благороднее был другого.
Растит же в горе рок необорный одних,
Других – в богатстве; он в ярмо неволи жалкой
Дланью всесильною нас впрягает.
Они вполне соответствуют демократическому характеру дионисических празднеств; мы встретим их и в нашей трагедии.
К ней мы и перейдем теперь.
V
Пролог произносится Дионисом, превратившимся в смертного – в собственного своего пророка лидийской наружности. Для чего он это сделал? Он надеется склонить к миролюбивым мыслям своего двоюродного брата, молодого царя Пенфея. Ибо мы должны помнить: посвящение в дионисические таинства – это блаженство, это милость; от этого своего намерения Дионис не может отказаться. Пусть же дело обойдется без жертв; это будет лучшее для обеих сторон.
Парод по своей содержательности, а также по звучности размеров (в подлиннике) достоин лучших времен греческой трагедии. Напоминается миф о рождении Диониса, описываются атрибуты его культа; наконец в заключительной картине нам представлено буйное ночное веселье на горной поляне Киферона.
С первого действия начинается драма. Перед нами двое: Кадм и Тиресий – оба старцы, но всё же мало похожие один на другого. Применив к ним вышеприведенную поговорку, можно бы сказать: Тиресий – это вакхант, но Кадм – только тирсоносец. Изображая эту фигуру, Еврипид уступил своей обычной наклонности и снабдил ее некоторой примесью мещанства. Восторг, таинства, триетериды – все это так; но главное – это то, что Дионис сын его дочери Семелы, а поэтому надо его возвеличить. Это он и намерен сделать, но вот является помеха в лице его внука Пенфея. Это – истинный герой трагедии; мы должны немного остановиться на его характере; афинянам – зрителям Еврипида его заранее давала игра актера – новейшему читателю его должен дать толкователь.
Пенфей, в противоположность к Тиресию, представитель той культуры, которая порвала связь с природой. Он не чувствует того разлада, от которого другие искали спасения в таинствах Диониса; он для него полный абсурд… А впрочем, не совсем. Есть одна область, в которой он не всегда может сохранить свое равнодушие, это – та, в которой царствует Афродита. К Афродите не относятся равнодушно: ее или любят, или ненавидят. Пенфей ее ненавидит. Чувственность, не находя себе исхода, бушует в его сердце; он сдерживает ее своей железной волей, но она, помимо его желания, быть может, даже бессознательно для него самого, влияет на него, настраивая его воображение и давая ему направление к той области, о которой он хотел бы забыть. Это – его больное место, содрогающееся при самом легком прикосновении.
Вот где сказалось мастерство Еврипида. Дионис для Пенфея, как я сказал, – абсурд. Но в его таинствах есть нечто, не дающее покоя сердцу юноши. Ночь, вино, толпа молодых, разгоряченных дарами Диониса женщин, – а за ними заросли, ущелья, полное уединение. Его воображение разыгрывается: он видит, как они одна за другой скрываются в кустарниках для службы Афродите… Поэт здесь искусно воспользовался тем пережиточным элементом полового разгула, о котором речь была выше; для наших вакханок тут нет ни слова правды, как это докажет дальнейший ход трагедии. Нужды нет; Пенфей твердо уверен в правильности этой картины. Отныне неопределенные чувства, волнующие его душу под влиянием подавленной чувственности, воплощаются в таинствах Диониса; они же для него не простой абсурд – они помимо его воли манят его к себе той картиной порочной неги, под которой он их себе представляет. Он чувствует это – и вдвойне их ненавидит. В этом – причина его уязвимости.
Теперь, однако, он еще силен – не Тиресию и подавно не Кадму его сразить. Речь первого представляет своеобразный интерес, но скорее религиозно-исторический, чем поэтический; переходим к кроткому, старчески доброму слову Кадма, в котором вышеупомянутое мещанское соображение еще сильнее проглядывает, законно мотивируя дальнейшую вспышку Пенфея. Ее жертвой делается Тиресий; как же отвечает на нее вдохновенный старец?
Несчастный! Сам не знаешь, что творишь.
Пойдем, мой Кадм; умолим Диониса
И за него, хоть и жестоким стал он,
И за наш город, чтоб бог беды
Нам не наслал.
Много раз вчитываешься в эти слова, чтобы убедиться, что действительно они стоят в этой трагедии, написанной в 406 году до Р. Х. Но Тиресий уходит, унося с собой свое благородство. Будь Софокл автором нашей трагедии – мы знали бы, что он вернется в последней сцене и скажет свое слово примирения, как Одиссей в «Аянте». Но Еврипид его не вернет – примирения не будет.
Следует первый стасим. Поручаем его для внимательного чтения друзьям поэта: это – его исповедь3131
Первый стасим. Строфа I обращена к Правде (точнее: Госии, т. е. той же Правде, поскольку она ведает отношениями между людьми и богами): Пенфей оскорбил Диониса, но не владыку оргиазма – его он не знал, – а того, сущность которого ему раскрыл Тиресий, благосклонного друга человечества, принесшего ему дар вина. Отсюда переход к антистрофе I: «конец такому начинанию – несчастье». Здесь Еврипид говорит про себя, грустно оглядываясь на стремления своей жизни. Он имеет в виду двойную награду веры: внешнюю, которой требует народ (благополучие в жизни), и внутреннюю, которая была бы дорога ему, – спокойную от волнений душу. К чему гоняться за недостижимым, жертвуя Дионисовым счастьем – минутными радостями жизни?
Отсюда переход к строфе II: мечта о тех странах, где люди умеют наслаждаться жизнью: Кипре (в тесном смысле), Пафосе и особенно – македонской Пиерии, которая теперь была приютом поэта. Тоска по этой счастливой стране высказана отчасти от имени поэта, отчасти от имени вакханок; синтез дает антистрофа II: бог вакханок и есть тот бог, которого жаждет утомленная душа поэта, – друг благодатной Ирины, богини мира. И притом всякого мира, и международного («кормилица молодежи», которую губит Арес), и социального (Дионис одинаково одарил и богача и бедняка), и, наконец, внутреннего в душе человека.
Итак, вот дилемма. Пенфей – это стремление вперед, неудовлетворенность; это – душа, задавшаяся слишком высокой целью, ради которой она пренебрегает минутными радостями жизни; душа, обуреваемая сомнениями, томимая неустанной работой мысли, не знающей пределов себе. Дионис – это уравновешенность, блаженное пребывание в указанных природой пределах; это – душа, берущая у жизни с благодарностью все, что она дает, находящая удовлетворение и счастье в тесном, но уютном кругу народных верований и обрядов.
А что такое Еврипид? Это – Пенфей, но Пенфей, познавший себя и тоскующий по недоступном ему Дионисе.
[Закрыть]. Здесь же проследим дальше дионисическую драму.
Коротенькое второе действие сводит обоих противников. У каждого своя тайная цель: Пенфею хочется выведать то, к чему его так мучительно тянет; Дионису хочется привлечь царственного юношу на свою сторону. Его душу он видит насквозь: он знает, как его красота, влажный блеск его очей действуют на его противника – но он пока еще не хочет пользоваться этим оружием. В конце сцены оба противника сознаются в своей неудаче. Пенфей велит связать мнимого волхва; Дионис отвечает знаменитым впоследствии стихом:
Раз захочу – сам бог освободит.
Второй стасим проникнут желанием и ожиданием чуда; и действительно, чудо совершается. Истинно дионисическое чудо: призрачное землетрясение, призрачный пожар; когда оно кончено, все остается по-старому, только узник Дионис стоит свободный перед дворцом Пенфея.
Третье действие опять сводит обоих противников для нового поединка; но их силы уже не те. Ум Пенфея расшатан увиденными чудесами; он уже боится этого таинственного волхва – и тут на него производится новый натиск. Является киферонский пастух – очевидец тех сладких и страшных радений, которые так волнуют душу Пенфея. Пусть же он расскажет всё.
И он рассказывает; поэту поневоле пришлось в угоду единству места описать в рассказе то, что Эсхил представил взору зрителей в своих «Бассаридах». Но зато что это за живой, наглядный рассказ! Так и хочется разбить его на отдельные картины: вакханки на рассвете – мирные занятия вакханок – неудачное нападение – нашествие вакханок. Да и поэт его так делил: после каждой картины пастух обращается к царю, словно опуская занавес. Не то хотел услышать Пенфей; тем сильнее его злоба. Надо раз навсегда покончить с этим абсурдом; ему хочется на волю, в чистое поле, в ряды своей доброй дружины. Да, чистое поле, бранный бой – вот единственное спасение. С оружием в руках он смоет нанесенное ему оскорбление, восторжествует над абсурдом… усмирит мятежные страсти в собственном сердце.
Не будь этого последнего пункта, Дионис не имел бы теперь власти над Пенфеем, не мог бы его удержать. При эсхиловски цельном характере Пенфея и действие развилось бы по-эсхиловски: конечно, Пенфей погиб бы в неравном бою, но погиб бы как Тальбот в «Орлеанской деве»: Дионис бы его уничтожил, но не победил. Теперь не то. Дионис знает, какое побуждение самое сильное в душе Пенфея: он знает, что уничтожение вакханок для него лишь суррогат, к которому он прибегает потому, что не видит возможности прямого удовлетворения своей роковой страсти. Стоит ему предоставить эту возможность – и мысль о войне будет оставлена. Дионис это знает: оттого-то он и вмешивается теперь в разговор.
Здесь начинается игра Диониса с Пенфеем. Видя его душу насквозь, он знает, где в нем покоится живучая искра; знает, как в нем зажечь такой пожар, от которого погибнет и его ум, и он сам. Но он знает также, что это – средство страшное; даже теперь, когда он решил прибегнуть к нему, он делает это нехотя и не вдруг. Еще раз – в последний раз – предлагает он ему мир:
Мой друг, еще возможно дело сладить.
И лишь после нового, решительного отказа он произносит те слова, которые делают его господином души Пенфея:
Послушай:
Хотел бы ты их видеть – там, в дубраве?
Этим факел брошен, и пожар уже не уляжется до самой смерти героя. Теперь Дионис может требовать от Пенфея чего угодно – слова «ты увидишь вакханок» побеждают всякое сопротивление. Вначале еще приходится щадить его самолюбие, скрывать настоящую цель отправления под маской разведок перед битвой – этот мнимый предлог заставит Пенфея оправдать перед собственной совестью даже самое унизительное для него требование: требование, чтобы он переоделся женщиной. Но в то же время бушующий пожар разрушает чем далее, тем более и разум, и самолюбие, и совесть Пенфея, превращая его чем далее, тем более в безвольное орудие своего господина.
Третий стасим выражает радость вакханок по поводу близкого освобождения и кончается прославлением дионисической мудрости, велящей не заботиться о завтрашнем дне и с благодарностью брать у жизни ее минутные дары.
Четвертое действие в третий и последний раз сводит перед нашими глазами обоих противников; чтобы понять его, надо выяснить себе, в чем состоит помешательство Пенфея. Оно не столько положительного, сколько отрицательного характера, сводясь к временному параличу критических способностей ума. А раз критика молчит – те страсти, которые она до тех пор сдерживала в душе Пенфея, могут бушевать беспрепятственно. Это, во-первых, неотразимое стремление к тому сладкому неведомому, которым для него были вакханки и их таинства; эта картина порочной неги теперь постоянно перед его глазами, так как умолк тот голос, который до сих пор ему говорил: «перестань, это недостойно», – голос стыда. А затем – та гордость молодого царя, которая представляла последнее препятствие замыслам Диониса, – она была не столько усыплена им, сколько превращена из враждебной силы в послушное орудие. Он дал ей неожиданное направление: «Ты сначала должен отправиться соглядатаем; этим опасным подвигом ты обеспечишь успех своего похода». Таким образом, гордость Пенфея перешла полностью в его помешательство, он сохранил сознание опасности и величия своего подвига; а так как критика молчит, то и представление об этом величии растет до неестественных размеров. Это, таким образом, настоящая мания величия, но не простая, а осложненная той первой страстью, тем стремлением к сладкому неведомому, о котором сказано выше.
Само действие распадается на три акта, причем каждый раз произнесенное Дионисом в той или иной форме «ты увидишь вакханок» усиливает пожар и производит новые разрушения в душе Пенфея.
Четвертый стасим сопровождает Пенфея на Киферон; это призыв Лиссе, той богине безумия, которую Эсхил в своих «Чесальщицах» представил воочию своим зрителям, как она натравляла Агаву против ее неузнанного сына.
Конец трагедии Пенфея дает появляющийся в пятом действии очевидец его смерти на Кифероне. Опять перед нами проходит ряд живых картин, сначала идиллического, затем все более и более грозного характера: долина вакханок – Пенфей и Дионис – Дионис и вакханки – вакханки и Пенфей – смерть Пенфея – торжество Агавы. Чем далее, тем яснее вырисовывается перед нами то новое лицо, которое должно сменить в нашей симпатии погибшего молодого царя; это – царица-мать Агава. Вскоре она является сама.
Так как ее помешательство тоже вызвано Дионисом, то естественнее всего допустить, что оно было в том же роде, как и помешательство Пенфея. И здесь, значит, мания величия, – но только простая, не осложненная той другой страстью, которая бушевала в груди Пенфея. Зато эта мания величия здесь еще сильнее. Пенфей мечтал о подвиге, который ему предстояло совершить, – Агава уже совершила подвиг, который, так как критика молчит, представляется ей не в меру великим: она собственными руками убила – так думает она и ее товарки – льва-великана Киферонской горы.
Следующие сцены представляют нам обратное течение того потока, который нарастал в трех предыдущих действиях: там – постепенное помешательство Пенфея, здесь – постепенное отрезвление Агавы. Ее торжество состоит из четырех последовательных обращений – к хору, к гражданам, к отцу Кадму и, наконец, к далекому, как она полагает, сыну. Отсутствие всякой симпатии к ее подвигу раздражает, но не отрезвляет ее; отрезвление приводит слово любви, которое она слышит из уст своего отца.
Стоит углубиться в эту сцену, не смущаясь тем ужасом, который смотрит на нас с острия тирса Агавы. Несчастная царица находит свое потерянное сознание – она находит его в чистых волнах голубого эфира и в теплой струе родительской любви.
Но с этим сознанием дальнейшая жизнь невозможна. Следует плач Кадма, следовал плач Агавы, пропавший с теми листами основной рукописи, которые содержали также ближайшие частицы драмы – ответ хора на плач Агавы (быть может, в форме нового стасима) и появление Диониса – этот раз уже как бога, высоко над юдолью людей. Он возвещал то, что решено свыше: и Кадм и Агава должны оставить страну, последняя – потому что убийца не может жить там, где находится могила убитого.
Жить? Да разве возможно жить вообще? Вначале она машинально следует указанию бога, прощается с родным домом, с родиной, с отцом; затем она обращается к своим спутницам-вакханкам: «Отведите меня к сестрам, на Киферон». Тут ей вспоминается, что и она ведь еще вакханка: на ней небрида, в ее руке обагренный кровью ее сына тирс. Все это дал ей тот, что пред ней, Дионис, чтобы сделать ее детоубийцей. И вот горечь нарастает в ее сердце:
Да найду я тот край, где проклятый меня
Киферон не увидит, где очи мои
Киферона не узрят кровавых полян,
Где не ведают тирсов, не знают небрид —
Пусть другим они служат вакханкам!
Это – последние слова нашей трагедии; каковы были ее последние действия, мы можем только догадываться. Как я себе их представляю – отчасти по исходу Кассандры в «Агамемноне» Эсхила, – это читатель прочтет на последней странице перевода:
Срывает с себя небриду и венок и гневно бросает их под ноги Дионису. Дионис с угрозой поднимает руку. Внезапно сцена озаряется ослепительным светом, но только на одно мгновение; затем все по-старому, только Дионис исчез, и Агава, бездыханная, лежит на земле.
Хор
Многовидны явленья заоблачных сил,
Против чаянья много решают они:
Не сбывается то, что ты верным считал,
И нежданному боги находят пути;
Таково пережитое нами.
Медленно уходят. Фиванские вакханки уносят труп Агавы3232
Заключение. Отсутствие в античных рукописях сценических ремарок ставит нас в затруднительное положение везде там, где на первый план выступает пантомима. Допущенный мною исход, разумеется, не может быть строго доказан; но в его пользу говорят следующие соображения:
1) Психологически невозможно, чтобы Агава ушла со сцены в убранстве вакханки, которое ее погубило; а если она его бросила, то самое подходящее место было здесь. Так и в «Агамемноне» Эсхила – Кассандра, прежде чем встретить смерть, сбрасывает с себя перед статуей Аполлона символы пророчицы: «К чему я, точно на посмешище, храню эти знаки, посох и пророческие тесьмы вокруг головы? Вас-то я погублю раньше собственной своей гибели. Прочь, сгиньте вы – и я скоро за вами последую; другого вместо меня награждайте горем!» – причем я обращаю особое внимание на сходство этого последнего стиха с последними словами Агавы.
2) А если это так, то спрашивается, как бог ответил на это новое оскорбление. И этот вопрос идет навстречу другому: как вообще могла Агава продолжать жизнь после того, что она испытала?
3) Наконец, мне думается, что поэт и другим путем наводит нас на этот самый исход. Действительно, по обычному, независимому от Еврипида мифу, Агава вместе с Кадмом отправляется в изгнание. Здесь, напротив, Кадм уходит один; к чему это уклонение и обособление Агавы? Мое предположение дает ответ и на этот вопрос. А впрочем, за несомненное я его не выдаю. Но и никакое другое построение заключения не может быть выдано за несомненное; а что мое имеет, по крайней мере, преимущество красоты – в этом читатель, надеюсь, согласится.
[Закрыть].
VI
«Вакханки» вместе с «Ифигенией Авлидской» – посмертные трагедии Еврипида. Он написал их, уже будучи гостем македонского царя Архелая, – и, несомненно, что непосредственное знакомство с оргиями Диониса, которые в Македонии еще правились в своей первоначальной чистоте, навело поэта на тему «Вакханок». Намеки на гостеприимную Македонию встречаются в нашей трагедии, особенно в обоих первых стасимах.
Муза была благосклонна к нему: обе трагедии принадлежат к лучшим в его наследии. Но «Вакханки» занимают в нем особое место; это выразилось между прочим в том, что их влияние ограничивается древней литературой. Причина как будто ясна. Герои других трагедий Еврипида – люди; элементы сверхъестественного ограничиваются большею частью так называемым deus ex machine, который без труда может быть устранен. Но как устранить из «Вакханок» тайно действующих Гею и Зевса и явно – Диониса? А между тем, кто из нас верует в них?
Отвечу: все мы в них веруем, приблизительно так же, как в них веровал Еврипид; только мы называем их иначе. Гею мы называем природою, Зевса – культурой, а Диониса – миром между той и другой.
Гея – богиня вечная и как таковая совершенная; отсутствие всякого стремления – первый закон Геи. Она и мудра, и блаженна, и невинна; вся она живет настоящим, не думая ни о прошлом, ни о будущем. Было ли время, когда и человечество жило по законам Геи – инстинктом, а не сознанием? Конечно, да: иначе человеческая природа погибла бы в самом начале своего существования. Это время – золотой век, время природной мудрости, блаженства, невинности. Но живет ли человечество ныне по законам Геи? Нет, мы лишены совершенства, мы добываем опытом и учением то, что Гея дарит своим детям сама; зато мы чувствуем в себе стремление, думаем о завтрашнем дне, поставили цель своей жизни. Не по законам Геи живем мы, а по законам Зевса. Что такое Зевс? Это бог-представитель отделившегося от Геи человечества. Он повел человека по пути сознания, он дал силу словам: «страданием учись», как про него сказал тот, кто лучше всех его понял, – поэт-жрец Эсхил.
Но, отделившись от Геи – таков смысл мифа о титаномахии, – Зевс непричастен более ее совершенству – знанию, невинности, блаженству, вечности; его царство, имея начало, должно иметь и конец. Придет время, и Гея снова поглотит то, что отделилось от нее, – таков смысл мифа о гигантомахии; прекратится все стремление, закон Геи вновь будет властвовать над человечеством. Наступит новый период блаженного и бесцельного бытия. Эта висящая над богами гибель придает всей религии Зевса ту трагическую грусть, которую так хорошо понял, идя следом Шопенгауэра, и так хорошо изобразил в своей величавой трилогии Р. Вагнер.
Но эллин не мог, подобно германцу, примириться с мыслью о разрушении того, что он добыл своими страданиями, следуя пути Зевса; он жаждал спасения богов от грозившей им гибели. Отсюда затаенный элемент мессианизма в религии Зевса. Мессий явилось двое – Аполлон и Дионис; здесь идет речь о последнем.
Дионис обеспечивает царству Зевса вечность под условием заключения мира с Геей; а условием мира поставлено периодическое возвращение человечества под ее законы. Царство Зевса не должно уподобиться духу, заглушающему в себе те невинные позывы, которые влекут его к Гее, и этим сопротивлением превращающему их в разрушительные страсти; оно должно уподобиться духу, уступающему периодически этим позывам, пока они еще невинны, и этим очищающемуся от страстей, обеспечивающему себе свободу для других своих целей.
Так рассуждали древние эллины – или, вернее, так чувствовали они. Из рассуждений создается философия, из чувств – религия; мы говорим о тех эллинах, которые создали религию Диониса.
Но в этой религии спасение получалось лишь ценою жертвы: периодическое подчинение законам Геи было периодическим отречением духа от своей самобытности. А где жертва, там и конфликт; где конфликт, там и трагедия. Героем трагедии Диониса, согласно вышесказанному, мог быть только дух, возмущающийся против всяких позывов, которыми Гея хочет подчинить его своим законам; дух, остающийся верным завету старинной религии Зевса, завету безустанного стремления, – дух-орел, дух-лев; дух, разделяющий трагическую грусть, которой проникнута религия Зевса, – дух грустный, дух мрачный: Pentheus. Таким образом, на почве религии Диониса должна была зародиться трагедия Пенфея. Мы видим, как он, стремясь отделиться от Геи, разорвать всякую связь между собой и Геей, заглушает в себе все невинные позывы, влекущие его к ней, и этим превращает их в разрушительные страсти, от которых он гибнет.
Но где же тот вопрос, который так живо интересует всех толкователей наших «Вакханок», – вопрос о том, отрекся ли Еврипид в этой трагедии от своих вольнодумных убеждений, стал ли он в них хвалителем народной веры – или нет? Не правда ли, каким мелким кажется этот вопрос, если на него смотреть с той высоты, с которой открывается истинный смысл религии Диониса и трагедии Пенфея? Ведь на почву народной веры Еврипид становится лишь в заключительной сцене трагедии Агавы, и здесь точка зрения Еврипида не подлежит никакому сомнению: все наши симпатии на стороне несчастной царицы-матери, все мы чувствуем несоразмерность постигшего ее наказания и сочувствуем ее последним мятежным словам. Что же касается трагедии Пенфея, то здесь мы на совсем другой почве.
Дух, преследующий постоянно высокую цель в своей жизни и жертвующий ради нее всеми минутными ее усладами, – таков Пенфей. Но таков также и Еврипид; после первого и третьего стасимов в этом сомневаться нельзя.
Но странное дело! Чего не поняли новейшие толкователи Еврипида – что он в Пенфее изобразил самого себя, – то понял после постановки «Вакханок» в Афинах умнейший враг Еврипида, комический поэт Аристофан. Нам сохранены анекдотические сказания о смерти всех крупных драматургов V в., кроме самого Аристофана. Уже это совпадение наводит нас на мысль, что он и был их автором, – имеются, однако, и другие доказательства. Все эти анекдотические рассказы примыкают к поэтическому творчеству драматурга, к которому они относятся, причем большею частью поэт уподобляется герою одной своей драмы. Так вот сказание о Еврипиде гласит, что он в Македонии был растерзан собаками, точь-в-точь как Пенфей был растерзан теми быстрыми борзыми, которыми в ту минуту почувствовали себя вакханки Агавы. Значит, Аристофан отождествил Еврипида с Пенфеем – каковая проницательность, конечно, делает ему честь.
Но с этим отождествлением Пенфея и Еврипида в трагедию вводится новый элемент, который мы не можем оставить без внимания – хотя бы для того, чтобы убедиться, что им не нарушается единство трагедии Пенфея, основанной на взаимодействии трех начал: Геи, Зевса и Диониса.
Что такое Гея? В космографическом смысле – Земля, в физическом – природа. Но это еще не всё: чем для человечества в его совокупности – природа, тем для отдельных, выдающихся его личностей является народ; в этико-политическом смысле Гея – это народ. Как жилище Зевса, гора Олимп отделена от Земли и все же подвержена ее тяге, в силу которой она со временем должна быть ею поглощена; как человечество отделилось от природы и все же тяготеет к ней – так и личность отделилась от народа, а народ стремится поглотить личность. Еврипид был личностью и сознавал это; вся его жизнь была стремлением вверх от народной массы и борьбою с теми силами, которые тянули его к ней. Эта борьба обострилась, когда и народ познал себя, что случилось в эпоху Пелопоннесской войны, и устами своей души, Клеона, провозгласил политическую неблагонадежность великих умов вообще – в одной из самых замечательных речей в истории человечества. С этих пор борьба Зевса с Геей в этико-политической области не прекращалась. И вот когда она кончится, когда личность будет поглощена народом, когда человечество растворится в природе, когда горы заполнят долы и соединятся с землей – тогда торжество Геи будет полным. Тогда царству Зевса, основанному на стремлении и страдании, наступит конец и его место займет опять блаженное и бесцельное, бессознательное бытие.
И первая часть этой программы на очереди, кажется, уже теперь. Всё слышнее и слышнее раздаются кругом нас и под нами удары заступа; кто способен понимать общие законы природы и истории в смысле того высшего единства физических и нравственно-политических сил, тот знает, что это – работа Геи, подкапывающейся под царство Зевса. Удастся ли спасти это царство от угрожающей ему гибели – неизвестно; но если удастся, то не путем победы – Гея великая и святая богиня, – а путем мира. Как ни достойна сочувствия участь Пенфея, неуклонно боровшегося во имя Зевсовой идеи – не он был спасителем Зевсова царства, а Дионис, примиритель обоих высших начал в развитии божьего мира и человеческого духа.
1915
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































