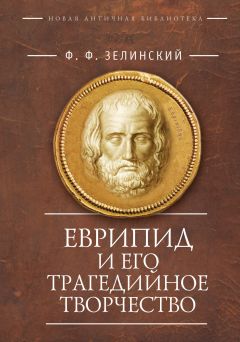
Автор книги: Фаддей Зелинский
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 31 (всего у книги 32 страниц)
Чем была первоначально дифирамбическая драма сатиров – это мы в настоящее время можем постигнуть только путем интуиции, как это сделал Фр. Ницше в своей вдохновенной книге о рождении трагедии. Отсылая читателя к его неподражаемой характеристике, мы берем сатировское действо с того момента его развития, когда оно стало драмой – или, что одно и то же, когда оно в поисках содержания должно было покинуть свою чисто дионисическую почву. Тут перед ним открылся весь необъятный мир аполлоновской мифологии… Да, но этот мир не знал ни Диониса, ни его сатиров. Надобно было его завоевать – и сатиры его завоевали легко и шутя.
Задача поэта была везде одна и та же: ввести в любой мифологический сюжет сатиров с их почтенным родителем Силеном. Эта задача была во многом похожа на ту, с которой так беспечно и всё же так удачно справились поэты итальянской комедии dell’arte. Возьмем хотя бы Гоцци с его и у нас небезызвестной Турандот. Действие происходит в Китае, при дворе богдыхана Алтоума; как туда ввести обязательные венецианские маски, Панталоне и прочих?.. Очень просто: Панталоне из-за дуэли должен был покинуть свою дорогую Венецию и бежать к богдыхану, у которого он, разумеется, тотчас стал канцлером; Бригелла получил место начальника стражи, Тарталья – мандарина, Труффальдино – старшего евнуха. Дионисическая фантазия без труда поборает все препятствия.
То же и здесь, в сатирической драме: проследим это на Софокле, оставляя пока в стороне наших «Следопытов».
Софокл написал около 120 драм; если предположить, что он всегда следовал тетралогическому принципу Эсхила, то придется допустить, что среди них было 30 сатирических. Предположение это, однако, не может считаться неоспоримым; остатки древних записей о постановке драмы – так называемые дидаскалии – нас учат, что тетралогический принцип изредка нарушался: не всегда ставилась тетралогия, не всегда последняя драма в ней была сатирическая. Тем не менее расчет в общем правилен; более или менее несомненных сатирических драм мы можем назвать 23, и вполне возможно, что среди заглавий неопределенного характера скрываются и остальные семь.
Так вот из этих приблизительно 30 драм только одна имела несомненное отношение к циклу Диониса – драма «Младенец Дионис» («Dionysiskos»), содержанием которой было воспитание новорожденного бога старым Силеном в известных нам уже принципах. Вообще же поэту приходилось исправно прибегать к своей фантазии, чтобы отыскать предлог для введения сатиров с Силеном в совершенно чуждые Дионису мифы. Предлоги могли быть различные: если героями были насильники-богоборцы вроде Амика или Салмонея в одноименных сатирических драмах, то удобнее всего было представить сатиров их пленниками, как это сделал и Еврипид в своем «Киклопе». В таком случае укрощение Амика аргонавтом Полидевком или Салмонея Зевсом было в то же время и освобождением сатиров из неволи. Совершенно другого рода побуждения вызвали появление сатиров там, где в центре драмы стояла свадьба, как в «Энее», «Андромеде», «Свадьбе Елены», «Пандоре», или вообще любовь, как в «Инахе» и др. Наличие красавицы заставляло сатиров слетаться как мух на мед; если можно, они выступали женихами – в «Энее», – а нет, так просто поклонниками. Кстати: в только что названной драме Эней (Oeneus) выдавал замуж свою прекрасную дочь Деяниру. Настоящим женихом был Геракл; и, кажется, недавно возвращенный нам сравнительно крупный отрывок кончается возвещением именно его прибытия. Столкновение сатиров с Гераклом было, судя по изображениям расписных ваз, особенно благодарной темой для сатирической драмы: хвастовство, задор, трусость с одной стороны, добродушная сила – с другой. Так, по-видимому, обстояло дело и в «Геракле на Тенаре»: герой, утомленный спуском в царство теней, заснул под открытым небом, – пользуясь его сном, наша лесная нечисть весело растаскивает его доспехи. Каково ей стало после его пробуждения – это, до некоторой степени, можно себе представить.
А впрочем, от всего этого нам сохранились только отрывки. Что такое сатирическая драма Софокла – это мы знаем только теперь, когда нам возвращена хоть наполовину его драма «Следопыты».
II
В ее основу поэт положил миф, который и ему, вероятно, был известен по тому же источнику, как и нам, – по «гомерическому» гимну в честь Гермеса. Говорю «вероятно», так как в эту эпоху живой религии и устная традиция не может считаться исключенной. Что же касается самого гимна, то вот его содержание.
В тенистой пещере аркадской горы Киллены жила прекраснокудрая нимфа Мая; к ней спускался Зевс во мраке ночи, «когда сладкий сон делал скованной белораменную Геру, тайно от бессмертных богов и смертных людей», и она родила ему сына. «Родившись на заре, он в полдень уже прекрасно играл на кифаре, а вечером похитил коров далекоразящего Аполлона». Это – тема; развивается она следующим образом.
Соскочив с колыбели, младенец отправился искать коров Аполлона. Выйдя за порог пещеры, он нашел черепаху. Ее он отнес домой, очистил костяк от мяса, вследствие чего в ней образовалась полость (для резонанса), прикрепил к нижней части тростниковый мосток, верхнюю обтянул воловьею шкурой (прошу запомнить эту подробность), приладил два «локтя», соединил их коромыслом, а между коромыслом и мостком натянул семь струн из овечьих жил. Так он приготовил лиру, на которой тотчас стал воспевать собственное рождение.
Затем, положив лиру в колыбель, он вторично вышел из дому и к вечеру был уже в Пиерии, что под Олимпом, где паслись коровы Аполлона. Из них он «отрезал» пятьдесят и погнал их по песчаной местности, «дав копытам противоположное направление, так что передние стали задними, а задние передними, да и сам он шествовал назад», подвязав себе сандалии из древесных ветвей под ноги (перевожу точно это темное место). Проходя мимо Онхеста (в Беотии), он был замечен стариком-виноградарем, которому он обещал урожай под условием молчания. При свете луны он достиг реки Алфея в Элиде; там он коров отправил в пещеру, сам же возжег огонь – искусство возжигать огонь из сухого дерева изобрел именно он. На этом огне он приносит в жертву двух коров, разделив их туши на двенадцать частей, по числу великих богов, – этим он показал смертным первый пример огненной жертвы двенадцати богам. После этого, скрыв все следы, он вернулся на Киллену в свою родную пещеру. На упреки матери он ответил, что его целью было стяжать почет среди смертных как чиноначальнику крупного скотоводства (bukoleein – текст здесь, к сожалению, испорчен). Он надеется, что Зевс даст ему эту честь; если же нет, то он решил стать покровителем воров.
Тем временем и Аполлон отправился искать свое стадо. Отчасти благодаря болтовне онхестского старика, отчасти благодаря вещей птице, он догадался, кто такой похититель; но хотя он и нашел за Алфеем следы своих коров – их самих он, вследствие запутанности этих следов, отыскать не мог. Пылая гневом, он отправился в килленскую пещеру. Здесь он нашел Гермеса – в колыбели, завернутого в пеленки; на его грозную речь младенец отговорился полным незнанием. Оба согласны предоставить решение спора самому Зевсу, с каковой целью они и отправляются на Олимп. И вот перед трибуналом Зевса происходит спор обоих братьев; Гермес и там запирается самым беззастенчивым образом. Зевс от души смеется над его хитростью, но все-таки приказывает ему выдать Аполлону его коров. Поневоле ведет Гермес старшего брата туда, куда он их запрятал.
Здесь в тексте досадный пробел: неясно, каким образом обнаружилась лира, которую похититель все время держал под мышкой. Играя на ней, он до того обворожил Аполлона, что тот охотно ему за нее уступает коров. Все же поразительное воровское искусство Гермеса внушает ему беспокойство; а что, если он похитит обратно уступленную лиру, а заодно и лук? Но когда малютка дает ему торжественную клятву ничего не трогать из его имущества, тогда обрадованный Аполлон дарит ему еще и золотой волшебный жезл, и одно из прорицалищ под Парнасом, и вообще объявляет его своим любимцем на все времена. Так-то с тех пор сын Маи вращается среди богов и смертных «немногим на пользу, многим на обман, особенно ночью», как не без юмора заканчивает поэт.
* * *
Новейшего читателя этот гомерический гимн поражает прежде всего своим своеобразным отношением к богу Гермесу, да и к остальным богам. Непочтительным его назвать нельзя: его автор с видимой симпатией относится к плутням своего героя. Но в то же время он, по-видимому, совсем забывает, что имеет дело с богом; мы имели бы право назвать его отношение к нему прямо атеистическим, если бы это слово не было слишком страшным для детской наивности нашего певца. Оглядываясь в прочей гомерической литературе, мы найдем самую близкую параллель нашему гимну в той песни Демодока в честь любви Ареса и Афродиты, которая составляет жемчужину VIII рапсодии «Одиссеи». Та песнь поется у благочестивых феакийцев, – очевидно, об атеизме не может быть и речи. Но она поется на пиршестве, последовавшем за жертвоприношением, после многих чарок вина, когда и людьми и богами овладело самое благодушное, беззаботное настроение. Смех и насмешка – приправа веселой трапезы; от них не убудет ни людям, ни подавно легкоживущим богам.
А если так, то ясно одно: своеобразный характер нашего гимна знаменателен только для греческой религиозности, но не для греческой религии. Говоря о последней, мы должны восстановить прямое направление лучей, преломленных в призме затрапезного юмора гомерических певцов.
А для этого полезно вспомнить, что Гермес был великим богом в своей аркадской родине – даже своего рода богом-творцом. Сын Зевса и Маи – или, что одно и то же, неба и «матери»-Земли, рожденный на снеговерхой Киллене, где небо соприкасается с землею, он был родоначальником древнейших людей в мире, каковыми себя почитали аркадские пастухи. Их незавидное положение среди прочих эллинов отразилось также и на положении их бога среди прочих богов греческого Олимпа; но их политическое возрождение в IV в. до Р. Х. повело и к возрождению их родной религии – столь влиятельного в позднейшие времена «герметизма». Это не мешает иметь в виду и при оценке этого древнейшего памятника аркадской религии.
И, всматриваясь в него пристально, мы замечаем в нем черты, действительно характеризующие Гермеса как благодетеля и просветителя человеческого рода. Читатель не упустил из виду, что ему приписывается изобретение искусства добывания огня – очевидно, для его потомков и почитателей Прометей не был нужен. Он же установил для смертных порядок огненной жертвы – это также делает его соперником Прометея, которому ее установление приписывается Геродотом. А если так, то можно без преувеличения сказать, что Гермес дал людям и религию; ведь огненная жертва – главная часть религиозной обрядности. Наконец, наш гимн приписывает ему также изобретение лиры, а лира – символ не только музыки, но и всего покоящегося на ней «мусического» образования эллинов.
При этих условиях можно смело спросить себя: не имело ли и похищение Аполлонова стада такого же серьезного, «прототипического» значения? Не хотели ли аркадцы выставить своего бога и чиноначальником скотоводства, т. е. той отрасли труда, которой они жили до позднейших времен в своей гористой, неудобной для земледелия стране? Мы всматриваемся в важное для этого вопроса место, в разговор Гермеса с матерью Маей… Но нет, мы видели, что текст здесь испорчен, решающее слово bukoleein введено путем конъектуры. А с другой стороны, Гермес еще до похищения тех коров обтягивает новоизобретенную лиру воловьей шкурой – итак, коровы и скотоводство существовали в Аркадии и до него. При таком положении дела приходилось отказываться от прототипического толкования похищения Гермесом Аполлонова стада и видеть в нем грубоватый символ конкуренции между Аполлоном и Гермесом как обоими пастушескими богами Пелопоннеса, пришлым и местным, – что я и сделал в 1905 г. в своей статье «Гермес Трижды-Величайший»6767
См. «Из жизни идей», т. III.
[Закрыть]. По-видимому, аркадцы горой стояли за своего родного бога и не прочь были посрамить его конкурента: «уже, конечно, если Аполлон собственного стада досмотреть не мог, то было рискованно доверять ему другие».
Останемся ли мы при этом толковании и теперь, после нового материала, которым мы обязаны новонайденной драме Софокла? Посмотрим – и для этого обратимся к анализу этой последней. Мы можем это сделать теперь же, так как промежуточных звеньев между гомерическим гимном и «Следопытами» в греческой литературе не имеется.
III
Чтобы использовать гомерический гимн для драмы, Софоклу, связанному единством места, пришлось прежде всего упростить его топографическую пестроту. Колыбель младенца-бога находилась в пещере аркадской Киллены; коров он похищает под пиерийским Олимпом между Фессалией и Македонией, прячет их в элидском Пилосе, попутно останавливаясь в беотийском Онхесте. Тот же путь совершает и разыскивающий свое стадо Аполлон. Софокл должен был сделать выбор между этими местностями; по весьма понятной причине он остановился на Киллене.
Итак, действие происходит перед пещерою Киллены, на склоне горы. Этим заодно дана та обстановка, в которой поэт сатирической драмы более всего нуждался. «Сатирическая сцена, – говорит Витрувий, – украшается деревьями, пещерами, горами и прочими элементами дикой природы, изображаемыми так, как это делают пейзажисты (topiarii)». На основании этого свидетельства, к слову сказать, и предложено в моем переводе описание сцены; иллюстрациями могут служить помпеянские ландшафты.
Первым выступает Аполлон с объявлением о пропаже своего стада и о награде тому, кто укажет похищенное и похитителя, – как это нередко делали в греческих городах глашатаи. Конечно, появление бога именно на Киллене требовало объяснения, которое он и дает: оказывается, он уже давно странствует, разыскивая свое стадо, так что его теперешнее объявление – только одно из многих. Интересно, что исходный пункт этих странствий не совпадает с гомеровским: там им был пиерийский Олимп, между Македонией и Фессалией, здесь Аполлон прежде всего «переходит во Фракию». Откуда? Так как он оттуда направляется в Македонию, то, по-видимому, с востока, из Троады через Геллеспонт. Можно ли отсюда заключить, что Софокл признавал происхождение культа Аполлона из Трои?
Объявление Аполлона обращено к божествам и людям дикой горной природы; последние разделяются на овчаров (poimenes), земледельцев и (по блестящему восстановлению Виламовица) угольщиков. Волопасы отсутствуют. Поручаем пока это обстоятельство вниманию читателя; мы воспользуемся им в свое время.
На объявление Аполлона откликается Силен; он предлагает ему услуги свои и своих детей-сатиров, исключительно из дружбы, разумеется… а впрочем, к награде он тоже неравнодушен. Так-то сатиры самым непринужденным образом введены в фабулу гомерического гимна. Там Аполлон сам выслеживает своих коров; здесь он эту низменную работу поручает этим низменным божествам, которые и являются в нашей драме в роли «следопытов». Нет спора, что это было очень счастливым изменением старой фабулы в соответствии с потребностями сатирической драмы.
Но вот что нас озадачивает. В виде придачи к условленной награде Аполлон обещает Силену свободу для него и всех его детей; хотя этот стих нам сохранился не весь, но ссылки на него в других местах ставят правильность его реконструкции выше всякого сомнения. У кого же они были в неволе? Ниже нимфа Киллена упоминает об их «прежней» службе их господину Дионису; отсюда следует скорее всего, что теперь они ему более не служат. К тому же это была не такая служба, от которой они желали бы освободиться, да и не от Аполлона зависело их от нее освободить… Последнее соображение подсказывает нам, думается мне, единственно правильный ответ на поставленный вопрос: если их освобождает Аполлон, значит, ему они и служили. Но что это за служба Силена и сатиров Аполлону? Должны ли мы признать в ней отголосок смягченного варианта о состязании Аполлона с силеном Марсием? Или же деление дельфийского сакрального года на аполлоновскую и дионисическую половины имело последствием известную подчиненность Силена с сатирами также и Аполлону? Мы этого не знаем. Все же следует обратить внимание на то, что Софокл считается с этой службой как с чем-то общеизвестным: ее мотивировки нет в сохраненных частях драмы, не могло быть и в утерянных.
Подтвердив свое обещание, Аполлон уходит; на сцене остается Силен с сатирами. Пролог кончен.
* * *
При следующей за ним вступительной песни хора, как и вообще при хорических песнях нашей драмы, кроме разве последней, – поэту пришлось иметь дело со своеобразным затруднением. Обыкновенно они исполняются под аккомпанемент музыкального инструмента; здесь это было невозможно потому, что первый музыкальный инструмент, лира, только что изобретен младенцем Гермесом. Стихийный ужас сатиров при его таинственных звуках (о котором еще будет речь) был бы невозможен, если бы предыдущие песни хора исполнялись под музыку. Необходимо было поэтому обойти затруднение так или иначе.
Во вступительной песни обход состоял в том, что поэт вообще не заставил петь весь хор, а разбил его на части. На какие – об этом можно спорить; я принял то деление, которое мне показалось самым простым и естественным, – другие делят иначе.
Силен, давая свое обещание Аполлону, разумеется, рассчитывал гораздо более на своих востроглазых детей, чем на собственные способности; напутствовав их мудрым советом, он уходит – для чего, это всякому, кто его мало-мальски знает, нетрудно сообразить.
Сатиры ищут, следуя наставлению своего родителя. Их поиски недолго остаются без награды: след найден, затем и другой. Этим, казалось бы, направление, в котором был угнан скот, нетрудно определить; не попытаться ли свистнуть, чтобы вызвать его ответное мычание?.. Здесь в рукописи единственная во всей драме ремарка: rhoibdos. Руководясь значением этого слова в других местах и окружающими его здесь стихами, я полагаю, что оно обозначает именно «свист» сатира, а не что-либо другое. Но стадо молчит; с другой стороны, свои же товарищи находят новые следы, своим направлением противоречащие первым. Как видно, наш поэт удержал путаницу следов в гомерическом гимне, хотя нельзя сказать, чтобы ее описание у него вышло особенно вразумительным. Как бы то ни было, наши следопыты сбиты с толку; в каком направлении искать вора и добычи?
Оставим их пока в их недоумении и займемся нашим, едва ли не более важным, – что, собственно, нашли наши сатиры? Следы воловьих копыт. Какой отсюда вывод? Казалось бы, только один: что здесь проходило стадо коров, не более. Но почему же непременно стадо Аполлона?
Остроумный филолог Роберт, которому принадлежит одна из первых статей о новонайденной драме, обратил внимание на это затруднение. Как могут сатиры знать, что стадо коров, которое они выслеживают, есть именно стадо Аполлона? Очевидно, отвечает он, у коров Аполлона был выжжен на нижней части копыт особый знак, который оставил свой оттиск в песке. Само по себе это было бы возможно – мифология повествует нечто подобное о стаде хитрого Сизифа, уведенном Автоли-ком. Но сам Роберт уже заметил, что если бы этот выжженный знак был отличительной приметой коров Аполлона, то он должен был предупредить о нем Силена и сатиров там, где он поручает им его выследить. А между тем этого предупреждения нет в сохранившейся части трагедии и не могло быть в утраченных.
Мне думается, мы можем дать вполне удовлетворительный ответ на поставленный вопрос, сближая наше место с тем, на которое я выше обратил внимание читателя. Но мы с этим ответом торопиться не будем и отложим его до третьей и решающей улики. А пока вернемся к нашим недоумевающим следопытам.
* * *
Хотя в этом месте наша рукопись никаких ремарок не дает, но дальнейшее не оставляет сомнения в том, что здесь происходит. Из пещеры слышится игра на лире; при этих неведомых звуках вся врожденная трусость сатиров дает себя знать – пораженные ужасом, они падают на землю и остаются в этом положении до прихода своего отца.
Кстати, этой игрой Софокл вознаградил свою публику за отсутствие музыкального аккомпанемента при вступительной песни хора. Надо полагать, что исполнение этого интермеццо было виртуозным: ведь сам бог предполагался исполнителем. Зная, как искусно сам Софокл умел играть на кифаре, мы охотно предположили бы, что он и здесь, как в своем «Фамире», выступил в роли кифариста. Но нет: та же традиция сообщает нам, что то его выступление было единственным, и мы не имеем основания прекословить ей.
Чудесная игра умолкает; невольные слушатели по-прежнему лежат на земле. К ним приходит Силен; узнав о причине их страха, он пристыжает их в великолепной, проникнутой благородным негодованием речи… мы знаем уже эту его черту. Удивляться можно только скромности, с которой его выродки-дети ему отвечают; не всегда они бывают с ним так почтительны.
Решено на таинственную игру ответить удалой песней. Петь будут сатиры, аккомпанировать – Силен… Конечно, только свистом, так как никакого музыкального инструмента, мы это уже знаем, в распоряжении нашего хора не имеется. Так-то поэт вторично обошел затруднение, о котором речь была выше. Песня под аккомпанемент свиста – это была, очевидно, редкая диковина, вполне идущая к веселому характеру сатирической драмы. Ее текст, к сожалению, сильно пострадал, все же из краткого резюме Киллены видно, что наша «свистопляска» в буквальном значении слова состояла из двух частей – одной охотничьей, другой, так сказать, сыскной: мнимый зверь первой части во второй оказывается выслеженным вором. Сатиры выступают здесь настоящими собаками-ищейками: даже клички они дают себе собачьи.
А впрочем, выслежен наш вор пока только в фантазии; пыл сатиров и их вдохновителя быстро остывает, когда из пещеры вторично раздаются те же загадочные звуки. Это – второе музыкальное интермеццо, вторая награда публике за отсутствие обычного аккомпанемента в только что прослушанной песне. Новый припадок трусости у хора, новые увещания со стороны блюдущего свое родительское достоинство Силена. Решено вызвать загадочного виртуоза – сначала честью, а потом, ввиду его упорства, и более решительными мерами.
Эти более решительные меры описываются Силеном; по-видимому, речь идет о бойкой деревенской пляске. Мы знаем, что таковая была неизменной принадлежностью сатирической драмы; звали ее технически сикиннидой. Эта сикиннида эффектно отделяла первую часть драмы от другой, ознаменованной участием нового действующего лица – ореады Киллены. Силен в этой второй части отсутствует; надо полагать, что он исчез незаметно под шум сикинниды, предоставив своим сыновьям расправу с таинственным незнакомцем.
* * *
Из пещеры выходит на шум нимфа Киллена. Это – персонаж новый; гомерический гимн его не знает – там, в пещере, с Гермесом обитает одна только Мая. К чему эта замена? Поэт говорит нам, что Мая ослабла от родов; это – черта реалистическая, вполне убедительная для поэта-реалиста и поэта-врача, каким был Софокл. Но позволительно будет отметить и другое удобство этой замены: уличаемой сатирами Киллене придется играть довольно незавидную роль, вряд ли достойную богини и матери великого бога.
Все же вначале она держит себя с большим достоинством и очень свысока бранит сатиров за их шумную сикинниду. Те скромно извиняются – мы уже отметили выше эту их учтивость, мало идущую к их обычному задору, даже у Софокла. Мало-помалу разговор налаживается; она хочет узнать, зачем они пришли. Но сатиры чувствуют, что центр тяжести их интереса уже переместился: о коровах Аполлона они забыли, они все под впечатлением услышанных звуков и желали бы знать, от кого они.
Здесь мы имеем в полукомической обстановке ту же характерную для Софокла драматургию, расцвет которой в серьезной и трагической обстановке представляет «Царь Эдип». В силу человеческой воли центр тяжести интереса перемещается; но это перемещение лишь способствует развязке также и в смысле первоначального интереса. Киллена с женской словоохотливостью отвечает на вопросы сатиров о происхождении таинственных звуков; но, отвечая на него, она невольно ответила также и на основной вопрос, образующий завязку нашей маленькой драмы, – о похитителе Аполлонова стада.
И стоит обратить внимание на то, с каким искусством поэт воспользовался в видах этой развязки беззаботным рассказом певца-гомерида. Читатель помнит этот рассказ. Гермес сначала ловит черепаху, делает из нее лиру, обтягивая между прочим ее спину воловьей шкурой, а затем уже идет похищать стадо Аполлона. А у Софокла? Из слов Киллены это не сразу видно, так как она о похищении стада, разумеется, умалчивает. Тем полезнее будет для читателя знать это заранее: у Софокла Гермес сначала похищает стадо Аполлона, а затем уже изобретает лиру. Для чего это изменение? Увидим.
Итак, Киллена рассказывает сатирам о рождении Гермеса от Зевса и Маи. Рос он не по дням, а по часам: уже по прошествии шести дней он сравнялся ростом с юношей… это тоже не по Гомеру. Но по другой причине: надо было подготовить зрителя к тому, что роль Гермеса будет исполнена взрослым актером. И вот теперь этот мальчик из мертвого зверя сделал лиру и тешится ею.
Сатиры недоумевают: что это мог быть за зверь? Начинается новый разговор между ними и Килленой: наивные вопросы одних, наивные ответы другой, довольно первобытная зоология, очень мило приправленная египетской ученостью про кошку и ихневмона, которую наш поэт заимствовал у своего друга Геродота. Ну, что ж, пусть будет так; но все-таки, как же этот диковинный зверь стал после смерти голосист? И тут словоохотливая Киллена готова служить: подробно описывает она, как ее питомец из остова черепахи сделал лиру – и, между прочим, невзначай упоминает и о том, как он этот остов обтянул воловьей шкурой.
Этим она выдает всю свою тайну. Сатиры тотчас ее накрывают: воловьей шкурой, прекрасно, – а вол-то чей? Сомнений нет: именно Гермес, а не кто иной, похитил Аполлоново стадо.
…Это и есть та третья улика, о которой я говорил выше. В самом деле, прошу вспомнить вторую: сатиры находят следы воловьих копыт – и не сомневаются в том, что их оставило Аполлоново стадо. Почему именно Аполлоново? То же самое и здесь: упоминается воловья шкура – и опять для сатиров несомненно, что она принадлежала похищенной у Аполлона корове. И заметьте: Киллена изворачивается на все лады, чтобы спасти своего питомца от обвинения в воровстве, но ей и в голову не приходит сказать, что вол принадлежал ему самому или был взят у смертного пастуха. Почему так?
А вот почему: потому что другого коровьего стада, кроме Аполлонова, тогда во всем мире не было. Это – единственный ответ, который мы можем дать. Этим объясняется заодно и то, что Аполлон обращается в прологе со своим объявлением только к овчарам, земледельцам и угольщикам – это у нас было отмечено как первая улика. Почему не к волопасам? Потому что таковых еще не было.
А этот факт изменяет весь наш взгляд на похищение Гермесом Аполлонова стада. То серьезное к нему отношение, от которого нам выше пришлось отказаться вследствие беззаботной путаницы рассказчика-гомерида, – оно теперь оказывается прямо обязательным. Да, благодарные аркадские пастухи действительно признавали Гермеса чиноначальником главной отрасли своего труда, крупного скотоводства. Это он свел с Олимпа на землю стадо божественных коров и подарил его своему народу. Что он его похитил у богов, в этом в те времена не могли усмотреть ничего позорящего: ведь и Прометей в параллельном сказании похищает небесный огонь и – из человеколюбия – приносит его смертным.
Но каким же образом, можно спросить, мог быть знаком Софокл с этим серьезным взглядом на похищение Гермесом Аполлонова стада, раз его прямой источник, гомерический гимн, этого взгляда не только не признает, но даже прямо его исключает? Я уже выше заметил, что в эпоху Софокла религия была еще живой силой и люди еще не были вынуждены черпать ее исключительно из письменной традиции. В подтверждение могу привести и следующую улику. По Гомеру младенец находится на Киллене, стадо в Элиде; по Софоклу – и младенец, и стадо в той же килленской пещере. Этот последний вариант мы находим и в изобразительной традиции. Конечно, глубокого толкования мифа о похищении изобразительная традиция Софоклу подсказать не могла, но мало ли откуда мог он его почерпнуть? Одновременно с Геродотом и аркадская пророчица, мантинеянка Диотима, – я не вижу основания сомневаться в ее историчности – была гостьей Перикловых Афин; благодаря ей стало известно в Афинах аркадское предание о происхождении Эрота – то предание, на котором Платон построил свою величавую концепцию метафизики этого бога и олицетворяемого им чувства. Это – пример; быть может, лишь один из многих.
Возвратимся, однако, к Киллене и сатирам.
* * *
Киллена притворяется возмущенной наветами сатиров. Как, Зевсов сын – вор? Очень мило старается она опровергнуть обвинителей соображениями общего характера; но так как против главной улики – воловьей шкуры – она ничего возразить не может, то все ее благочестивые увещания остаются безуспешными… Кстати об этих увещаниях: в пылу раздражения она сравнивает сатира с козлом. Это сравнение является новым доказательством в пользу козловидности сценических сатиров, о которой мы говорили выше.
Хор остается при своем: обтянул воловьей шкурой – значит, он же похитил и Аполлоново стадо. Дело совершенно ясно. К сожалению, связный текст здесь обрывается. Из сохранившихся клочков видно, что Киллена продолжала настаивать на своем главном соображении, что Зевсов сын не может быть вором, но что и сатиры не давали себя выбить из своей позиции. Они ставят требование, чтобы стадо было выведено из пещеры; возмущение Киллены растет и растет, но вот какой-то зоркий сатир открывает – по-видимому, у самого входа в пещеру – новую улику, которая окончательно пристыжает Киллену, – коровий навоз. Побежденная, она (надо полагать) спасается в пещеру, к своему питомцу. Сатиры торжествуют победу и на радостях призывают Аполлона. Тот является – его имя, к счастью, сохранено в заголовке семи искалеченных стихов, из которых мы можем извлечь только то, что он с первых же слов подтвердил сатирам оба своих обещания – и о награде, и о свободе, – после чего наш папирус окончательно прекращается.
Остальную часть драмы мы поэтому можем восстановить только в общих чертах. Конечно, сатиры прежде всего докладывали богу о своем успехе; затем надлежало увенчать все дело расправой с похитителем. Для этого Аполлон – по гомерическому гимну – проникает в пещеру; в драме это тоже было возможно, но более в ее нравах будет предупредить это добровольным появлением виновника перед пещерою. Во всяком случае решающий разговор обоих братьев должен был происходить на сцене. Как защищался Гермес, трудно сказать: гомеровской ссылкой на младенчество и пеленки ему, взрослому юноше, пользоваться нельзя было – да и вряд ли можно себе представить, что он после столь подавляющих улик мог отрицать свое хищение. Это было возможно в гомерическом гимне, в котором коровы предполагались спрятанными далеко, на берегу Алфея; по Софоклу же они находятся тут же, в пещере, и Аполлону ничего не стоит уличить похитителя.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































