Текст книги "Мой муж – коммунист!"
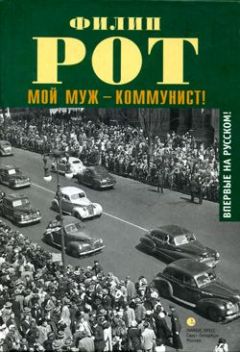
Автор книги: Филип Рот
Жанр: Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 25 страниц)
Шли месяцы; Айра становился в доме все более чужим. В те вечера, когда он не был занят на совещаниях руководства профсоюза или собраниях партийной ячейки и если они с Эвой не отправлялись вместе куда-нибудь на светский раут, Эва обычно сидела в гостиной, вышивала и слушала, как Сильфида перебирает струны, а Айра в кабинете писал очередное письмо О'Дею. Арфа замолкала, он спускался к Эве, глядь – а той и нет вовсе. Она у Сильфиды в комнате, слушает проигрыватель. То есть они уже вместе, лежат под одеялом, слушают «Cost fan tutte».[27]27
«Так поступают все» – опера В.-А. Моцарта (1790).
[Закрыть]Айра выходил на поиски, поднимался опять наверх, шел на бравурные литавры Моцарта и обнаруживал их в постели в обнимку, сам чувствуя себя при этом брошенным ребенком. Спустя час, а иногда и больше, вся разомлевшая в Сильфидиной постели, Эва возвращалась и забиралась в постель к нему, ну и – прости-прощай, последняя иллюзия супружеского счастья.
Когда наконец грохнул взрыв, Эва очень удивилась. Все, хватит, Сильфида должна жить в своей квартире. «Памела от своих родных живет в трех тысячах миль, – чеканит он. – Сильфида не помрет, если будет жить от своих в трех кварталах». Но Эва в ответ только плачет. Это нечестно. Это ужасно. Он пытается выгнать дочь, убрать дочь из ее жизни. Да нет, она же будет в двух шагах, настаивает он, ей уже двадцать четыре года, пора перестать греться у мамочки в постели. «Она же моя дочь! Как ты смеешь! Я люблю свою дочь! Как у тебя язык поворачивается!» – «О'кей, – говорит он, – тогда я буду жить в двух шагах» – и на следующее утро находит выставленный на сдачу внаем этаж в доме на Вашингтон-сквер, от них всего в четырех кварталах. Вносит в банк депозит, подписывает договор аренды, платит за первый месяц и, возвратясь, докладывает о том, что сделал. «Ты что – бросаешь меня? Ты хочешь развестись?» – «Нет, – говорит он, – просто собираюсь жить отдельно. Чтобы ты могла у нее в постели проводить уже всю ночь. Впрочем, если для разнообразия тебе когда-нибудь захочется провести всю ночь в постели со мной, – поясняет он, – тебе достаточно будет надеть пальто и шляпу и перейти через улицу, а я всегда буду счастлив тебя приветствовать. А за обедом – что, разве заметит кто-нибудь мое отсутствие? Вот подожди, увидишь: у Сильфиды все отношение к жизни улучшится кардинально». – «Зачем ты так поступаешь со мной? Заставляешь выбирать между тобой и дочерью – это бесчеловечно!» Часами он объясняет ей, мол – нет, наоборот, этим он как раз пытается избавить ее от необходимости выбора, однако вряд ли Эва понимает, о чем речь. Твердая почва понимания – не то, на чем она строит свои решения; ее стихии – бешенство и безрассудство. И поражения – в конечном счете.
Следующим вечером Эва, по обыкновению, поднялась в комнату к Сильфиде, но на сей раз чтобы ознакомить ее с предложением, которое они выработали совместно с Айрой и которое должно внести покой в их жизнь. Днем Эва вместе с ним ходила на Вашингтон-сквер смотреть квартиру. Ну, что сказать – квартира как квартира: створчатые «французские» двери с зеркальными стеклами, высокие потолки, лепнина и паркетные полы. Камин с резной полкой. Под окнами спальни обнесенный стеною садик, очень похожий на тот, что у них на Западной Одиннадцатой. Это тебе, Натан, не Лихай-авеню. Район Вашингтон-сквер в те времена был из лучших на всем Манхэттене. «Что ж, мило», – одобрила Эва. «Вот и пускай Сильфида живет здесь», – сказал Айра. Съемщиком будет считаться он, сам будет оплачивать аренду, а Эва – она зарабатывала денег много, но страшно из-за них переживала и всегда теряла их при посредстве то одного фридмана, то другого, – Эва пусть даже и не думает ни о чем. «Вот тебе выход, – сказал он. – И что тут такого ужасного?» Она присела в гостиной на солнышке в одно из приоконных кресел. На шляпе вуалетка – из тех вулеток с мушками, что она ввела в моду своим фильмом; она отвела ее от точеного личика и всплакнула. Борьба между ними окончена. Ее борьба окончена. Она вскочила на ноги, сжала его в объятиях, расцеловала и принялась бегать из комнаты в комнату, выбирая, куда поставить ту или иную милую старинную вещицу из тех, что переедут с частью мебели с Западной Одиннадцатой сюда, к Сильфиде. Счастлива была несказанно. Ей вновь семнадцать. Как по волшебству. Сияла и лучилась. Опять она прелестница из немой киноленты.
Ну вот. Стало быть, вечером, набравшись храбрости, она пошла наверх с эскизиком в руках (собственноручно вычертила план новой квартиры) и перечнем вещей из убранства дома, которые в любом случае отойдут Сильфиде, так уж пусть сразу их себе и забирает. Конечно же, Сильфиде хватило секунды, чтобы во всем разобраться и выразить несогласие, да так, что Айра рванул по лестнице наверх как ошпаренный. Ввалился в комнату. Обе в кровати. Но на сей раз без Моцарта. Крик и бедлам. Эва плашмя брошена навзничь на кровать – плачет, кричит, – Сильфида в пижаме сидит на ней верхом и тоже кричит и плачет, мощными руками арфистки вжимая плечи матери в кровать. По всей комнате обрывки бумаги – план новой квартиры, – а Сильфида сидит на его жене и вопит: «Ты когда уже перестанешь всем поддаваться? Хоть раз бы заступилась перед ним за дочь! Когда ты матерью-то будешь? Ну! Когда? Когда?»
– И что же Айра? – поинтересовался я.
– А что Айра? Из дому вон, пешком по улицам до Гарлема, потом обратно в Виллидж, милю за милей, и вдруг посреди ночи свернул на Кармин-стрит к Памеле. Вообще-то он старался без необходимости у нее не появляться, но тут придавил пальцем звонок, взлетел на пять маршей лестницы и сообщил ей, что с Эвой кончено. Предложил вместе ехать в Цинк-таун. Предложил жениться на ней. Он давно, он все время хотел на ней жениться, горячо говорил Айра, и он хочет с нею завести ребенка. Можешь себе представить, какой эффект произвела такая речь.
Она жила в богемной комнатенке – шкафы без дверок, на полу матрас, репродукции Модильяни, свеча в бутылке из-под кьянти, и ноты, ноты, ноты по всему полу. Крошечная комнатка чуть не в четыре квадратных метра, а в ней этот жираф – мечется, беснуется, сшибает пюпитр, валит на пол ее пластинки, ногой задевает ванну, стоящую на кухне, и этой благовоспитанной, но уже успевшей набраться фанаберии Гринич-виллиджа девочке-англичанке он говорит, – а она-то думала, что у них просто так, без последствий, почти понарошку: большая, страстная (но без последствий) интрижка со знаменитым (хотя, конечно, стареньким) мужчинкой, – а он тут, видите ли, вон что придумал: хочет сделать ее матерью будущих наследников и женщиной всей своей жизни.
Неудержимый Айра, Айра-громовержец, победитель и захватчик, безумный жираф и носорог одновременно, Айра загнанный и выгнанный из дому вместе с его максимализмом – дескать, все или ничего, – этот псих говорит ей: «Пакуй манатки, едешь со мной», и тут же выясняется – ведь вот как интересно-то! а так бы, может, долго еще не узнал! – что уже много месяцев Памела не знает, как всю тягомотину с ним прекратить. «Прекратить? Почему?» Она, оказывается, больше не может выдерживать напряг. «Напряг? Какой напряг?» И вот что она ему поведала: каждый раз, когда она бывает с ним в Джерси, он непрестанно лезет к ней, тискает и ласкает, а она со страху не знает, куда деваться, когда он в тысячный раз говорит, как он ее любит; потом он спит с ней, а она возвращается в Нью-Йорк и тут же идет к Сильфиде, а Сильфида ни о чем больше говорить не может, как только о человеке, которого она прозвала Чудовищем, – свою мать с Айрой вместе она называет не иначе как Красавица и Чудовище. И Памела должна соглашаться с нею, должна смеяться над ним, она и сама должна вышучивать Чудовище. Неужто он такой слепой – не видит, какую дань приходится ей за все это платить? Не может она ни бежать с ним, ни выйти за него замуж. У нее работа, карьера, она музыкант, любит музыку и ни под каким видом не хочет больше его видеть. Если он не оставит ее в покое…
Ну, он повернулся и ушел. Сел в машину и поехал к своей хижине, где я и застал его, на следующий день после школы.
Он говорил, я слушал. О Памеле он ничего мне не рассказывал; не рассказывал, потому что знал, мерзавец, как я смотрю на адюльтер. Я говорил ему, все уши прожужжал: «Что главное в браке, что самое в нем волнующее? – верность! А если эта мысль тебя не вдохновляет, не женись!» Нет, про Памелу он не рассказывал, зато рассказал про Сильфиду – как она сидела верхом на Эве. Всю ночь, Натан, всю ночь об этом говорил. На рассвете я покатил обратно в школу, побрился в учительской уборной и пошел к ребятам, у которых был классным руководителем; вечером, после уроков, снова сел в машину и опять поехал к нему. Не хотелось оставлять его там на ночь одного, потому что непонятно было, что он еще может выкинуть. Он ведь тогда не только в семейной жизни мордой об забор налетел. Это бы еще полбеды. В политике тоже тьма обступала – обвинения, увольнения, пожизненное внесение в черные списки… Вот же еще, что его угнетало-то! Кризис домашний был еще не кризис. То есть не главный кризис. Конечно же, он оказался между двух огней, в итоге оба слились воедино, но какое-то время он еще мог держать их порознь.
Американский легион уже не выпускал Айру из поля зрения за его «прокоммунистические симпатии». В одном католическом журнале его имя мелькнуло уже в каком-то списке, среди людей «близких к коммунистическим кругам». На радио его программа попала под подозрение. Да еще и в партии начались трения. Дальше в лес – больше дров. Сталин и евреи. Слухи о советском антисемитизме начали достигать ушей даже самых отъявленных партийных болванов. Среди евреев-партийцев пошли разговоры, и то, что они говорили, Айре очень не нравилось. Хотелось выяснить, узнать как следует. Ведь сколько ни кричи о чистоте Коммунистической партии и безгрешности Советского Союза, даже у Айры Рингольда возникали вопросы. Мало-помалу появлялось чувство какого-то предательства со стороны партии, хотя окончательный моральный шок пришел позже, когда выступил со своими разоблачениями Хрущев. После них для Айры и его товарищей все рухнуло, исчезло оправдание всей их борьбы и страданий. Шестью годами позже все, что было главным в их судьбе, пошло псу под хвост. Однако Айра еще в пятидесятом лез на рожон, задавал вопросы и этим создавал себе проблемы. Хотя про эти вещи он со мной не говорил. Не хотел меня впутывать и не хотел слышать моих попреков. Он знал, что, если мы схлестнемся по поводу коммунистической доктрины, кончится тем, что бывает во многих семьях: разругаемся на всю оставшуюся жизнь.
У нас уже случилась однажды перепалка будь здоров какая – это еще в сорок шестом было, когда он поселился в Калумет-Сити в одной комнате с О'Деем. Я поехал навестить его, и мне он очень тогда не понравился. Потому что в споре о вещах, которые для него были главными, Айру переубедить было невозможно. В политическом споре – особенно в те первые послевоенные годы – Айра ни за что не желал уступать. В особенности мне. Неученый младший братик учил ученого старшего. Глазами в глаза вперится, пальцем тычет, сказать ничего не дает, перебивает и, что бы я ни говорил, все на один манер кроет: «Такое даже слушать противно!», «Ты хоть с терминами разберись, все в кучу валишь!», «Хватит мне лапшу на уши вешать!» Напор при этом непреоборимый. «Да плевать мне, если я даже единственный, кто это знает!», «Тебе бы хоть на йоту понимания жизни!»… Особенно любил провоцировать, пытаясь уесть, ущучить меня именно в качестве преподавателя литературы. «Вот это вот я больше всего ненавижу: когда человек сам не понимает, что, черт побери, говорит!» В те дни пустячных тем для Айры не существовало. Если он о чем подумал – раз он подумал об этом, значит, это важно.
В первый же вечер, когда я гостил у них с О'Деем, он заявил, что учительский профсоюз должен биться за «пролетарскую культуру». Это нужно поставить во главу угла. Зачем? А я знал зачем. Затем, что это была официальная точка зрения партии. Нужно повышать культурный уровень нищего бродяги Джо и вместо классического, старомодного, традиционного образования делать упор на то, что дает вклад в пролетарскую культуру. Такова генеральная линия партии, и я считал ее в корне неправильной и нереалистичной. Но он как упрется – кремень. Я, впрочем, тоже был не мальчик, умел дать понять, что на мякине меня не проведешь. Но в Айре чувствовалась такая враждебность! Даже не отмахнешься – цепляется как репей. Вернувшись из Чикаго, я не получал от него вестей почти год.
А еще вот что на него навалилось. Мышечные боли. Его болезнь. То, ему говорили, это одно, то другое, никто так толком и не понял, что с ним было. Какой-то полимиозит. Потом сказали – ревматическая полимиальгия. Каждый врач давал этому свое название. А больше они ему ничего не давали, разве что мазь Слоуна и прочую ветеринарную дрянь. У него даже одежда пропахла патентованными болеутоляющими притирками. К одному доктору я сам его водил – по знакомству через Дорис, в больницу «Бейт Исраэль», да мы и жили от нее через улицу. Тот почитал историю болезни, послал на анализ крови, провел полное обследование и объяснил, что Айра патологически подвержен воспалениям. Он целую теорию под это подвел, картинки нам рисовал – как сам организм, привлекая собственные кровяные тельца, вызывает в себе прогрессирующее воспаление. Сказал, что у Айры и суставы тоже при всяком удобном случае мгновенно воспаляются. Развивается воспаление быстро, а устраняется медленно.
Когда Айра умер, я разговаривал с врачом, так он предположил – и даже очень на этом настаивал, – что Айра страдал от той же болезни, которая, как они считают, была у Линкольна. Надел его шмотки и подхватил от него болезнь. Синдром Марфана. Необычайно высокий рост. Большие руки и ноги. Длинные, тонкие пальцы. И постоянные боли в мышцах и суставах. С синдромом Марфана люди часто и коньки откидывают так же, как Айра. Аорта лопается, и каюк. Как бы то ни было, диагноз Айре так и не поставили, во всяком случае, в том смысле, чтобы назначить лечение, и к сорок девятому-пятидесятому году боли стали, считай, постоянными, да тут и политический прижим пошел с обоих концов спектра – и со стороны начальства на радио, и от партийного начальства, – так что я за него стал волноваться.
В Первом околотке, Натан, мы были не только единственной еврейской семьей на Фабричной заставе. Очень может быть, что между железной дорогой на Лакаванну и веткой на Белвилл мы были вообще единственными неитальянцами. Вокруг все были какие-то горцы – по большей части маленькие, широкоплечие, большеголовые – с гор, что вокруг Неаполя, и не успели они попасть в Ньюарк, как кто-то раздал им лопаты, и они принялись копать. Так всю жизнь и копали. Канавы, главным образом. Бросив школу, Айра копал канавы с ними вместе. Один из этих итальянцев пытался лопатой убить его. У моего братика язык без костей был, поэтому, чтобы в таком окружении выжить, ему приходилось драться. Драться, чтобы не дать себя растоптать, ему приходилось с семилетнего возраста.
Но тут на него прямо со всех сторон навалились, и я боялся, как бы он не выкинул какую-нибудь глупость непоправимую. Поехал я к нему не для того, чтобы что-то определенное предлагать или советовать. Не тот он был человек, чтобы ему советовать. И даже не для того поехал, чтобы сказать, что я об этом думаю. А думал я, что продолжать жить с Эвой и ее дочерью – сумасшествие. Еще в тот вечер, когда мы с Дорис у них обедали, нельзя было не заметить, какая странная между мамой и дочерью связь. Помню, как в тот вечер я рулил на машине в Ньюарк и вновь и вновь говорил Дорис: «Нет, Айре просто места нет в такой комбинации!»
Айра взывал к своей коммунистической утопии, Эва взывала к своей Сильфиде. Тоже ведь: родительская утопия совершенного дитяти. Актриса со своей утопией вживания в роль, еврейка с утопией нееврейства – и это только крупнейшие ее проекты из серии «как сделать жизнь красивой и приятной».
То, что Айре в этом доме места нет, Сильфида дала ему понять с порога. И была права: ему нечего там было делать, он там пришлец, чужак. Всем своим поведением Сильфида прозрачно намекала, что именно как дочь она вправе и непременно собирается развеять мамочкины утопические заблуждения, дав ей отведать жизненного дерьмеца в такой дозе, которая для той не пройдет бесследно. Я, честно говоря, думаю, что и на радио ему точно так же нечего было делать. Какой из Айры актер! В наглую открыть фонтан и закатить слушающим головомойку – это всегда пожалуйста, но чтобы он был актером! Да никогда! Он был всегда один и тот же. При этом легкость в мыслях несусветная, будто сидит с тобой в деревне на лавочке. Этакий свойский подход, образ рубахи-парня, только это был никакой не подход и не образ. Это было ничто. Отсутствие какого-либо подхода. Что Айра знал о театре? Мальчишкой он решил сбежать – нырнуть и выплывать самостоятельно, а причиной этому был всего лишь несчастный случай. Никакого плана у него не было. Хотел создать семью с Эвой Фрейм? Хотел создать семью с той молоденькой англичанкой? Вообще для человека это корневой и почти инстинктивный мотив; что же касается конкретно Айры, желание создать семью у него было остаточной реакцией на очень давнее разочарование. Но уж он и цыпочек выбирал – семью-то создавать! В Нью-Йорке Айра утверждался всеми силами, вложил в это всю свою жажду наполненной, осмысленной жизни. От партии он почерпнул идею, будто он рычаг, которым переворачивают мир, будто сама история призвала его в столицу мира, чтобы глаголом жечь язвы общества, и, с моей точки зрения, это выглядит полнейшей ахинеей. Он был не столько ферзем – пусть даже пешкой – на шахматной доске истории, сколько этаким слоном в посудной лавке, который мечется и вечно попадает куда не надо, всегда не соответствуя размером месту, где оказался, – как духовно, так и телесно. Но такого рода материями я не собирался с ним делиться. Мой братец хочет поработать в должности колосса? Флаг ему в руки. Я не хотел лишь, чтобы он довел себя до того, что иной перспективы, иного «Я» у него не останется.
В тот, второй, вечер я притащил с собой какие-то бутерброды, мы ели, он говорил, я слушал, и где-то, наверное, часа в три утра к воротам подъехало нью-йоркское желтое такси. Эва. Телефонная трубка у Айры уже два дня лежала рядом с аппаратом, и вот, когда Эве надоело накручивать диск и слушать короткие гудки, она вызвала такси и рванула на нем среди ночи за шестьдесят миль в кромешную глушь. Она постучалась, я встал, открыл дверь, она мимо меня влетела в комнату и к нему. Последовавшую за этим сцену она то ли продумала по дороге в такси, то ли сымпровизировала, что тоже очень вероятно. Прямо как из немых фильмов, в которых она царила. Совершеннейшая самодеятельность, все преувеличено до оскомины, и при этом настолько в ее духе, что она повторит ее почти один к одному всего через пару недель. Любимая роль. Просительница, понимаешь ли. Молящая.[28]28
«Просительницы, или Молящие» – одна из трагедий Эсхила.
[Закрыть]
Посреди комнаты она бросилась на колени и, обо мне совсем позабыв – а может, и не совсем позабыв, – вскричала: «Умоляю! Заклинаю тебя! Не покидай меня!» И воздела руки, по локоть вылезшие из рукавов норковой шубы. Длани дрожат, трепещут в воздухе. При этом слезы льет такие, будто не о браке своем печется, а о спасении человечества. Сим подтверждая – если кому понадобится подтверждение, – что здравый смысл ее покинул, разум ей чужд. Помню, я еще подумал тогда: ну-ну, на этот раз, похоже, она загнала себя в угол.
Но я, оказывается, не знал своего братца, не знал, перед чем он устоит, а перед чем нет. Чтобы люди не стояли на коленях, это как раз то, чему он посвятил жизнь, но я-то думал, что в его годы он способен уже отличать, когда человек поставлен на колени социальными условиями, а когда просто прикидывается. Как только она оказалась перед ним в такой позиции, в нем пробудилось чувство, которое он не сумел полностью подавить. Ну, то есть мне так показалось. Сострадательная, жертвенная часть его натуры незамедлительно выскочила на первый план (как мне почудилось), поэтому я бочком-бочком за дверь и сел в такси перекурить с водителем, пока не восстановится согласие и порядок.
Дурацкой этой политикой тогда все насквозь пропиталось. Сидя в такси, я об этом как раз и думал. О том, как людям идеологией забивают головы, и они перестают видеть то, что ясно, как Божий день. Но лишь под утро, когда я вел машину назад в Ньюарк, увиденное вдруг открыло мне глаза на сущность положения, в которое угодил со своей женушкой Айра. Он не был просто жертвой своего к ней сострадания. Конечно, он, как и все мы, мог иногда поддаться чувству, которое возникает, когда на наших глазах близкий человек не выдерживает и ломается; конечно, при этом у него могли возникать превратные идеи насчет того, что он должен по этому поводу делать. Но тут другое. Только по дороге домой я понял, что тут было нечто совсем другое.
Как ты помнишь, Коммунистической партии Айра отдавался душой и телом. Повторял каждый поворот на сто восемьдесят градусов ее генеральной линии. Все диалектические оправдания злодеяний Сталина Айра скушал. Когда Браудера назначили американским мессией, Айра его поддерживал, а когда Москва, вдруг дернув за шнур, Браудера выключила, в одну ночь превратив в классового коллаборациониста и буржуазного изменника, Айра купился и на это – поддержал Фостера с его криками о том, что Америка прямой дорогой идет к фашизму. Ухитрился подавить в себе сомнения и утвердиться в мысли, будто, покорно следуя за каждым зигзагом линии партии, он способствует установлению справедливости и равенства в американском обществе. При этом самого себя считал рыцарем без страха и упрека. По большому счету, я думаю, он таким и был – виноват он был только в том, что встроил себя в механизм, которого не понимал. Даже не верится, чтобы человек, который так высоко ценил свою свободу, мог допустить весь этот догматический контроль над его мыслями. Но мой брат интеллектуально себя кастрировал, как и все они. Очень был легковерным. Политически. Морально. И не хотел этого признавать. Все они – эти партийные марионетки – прямо лица руками закрывали, лишь бы не видеть источника того, за что они ратовали, чем торговали. Ведь у него вообще-то вся сила была в том, что он способен был сказать «нет». Громко сказать, прямо в лицо. Но партии он не мог сказать ничего, кроме «да».
Он помирился с Эвой потому, что ни один спонсор, ни одна радиостанция или рекламная контора не смела Айру выкинуть до тех пор, пока он женат на Саре Бернар радиоволн. И он на это делал ставку – что на него будут смотреть сквозь пальцы, особо притеснять не станут, покуда рядом с ним принцесса радио. Мужу прекрасный щит, а заодно и всей той клике коммунистов, под чью дудку плясал Айра. Она бросилась перед ним на колени, молила его вернуться, и Айра четко понимал, что лучше бы ему сделать то, что женщина просит, ибо без нее он камнем пойдет на дно. Эва – его последний оплот. Дальше обрыв и бездна.
И тут, как deus ex machinа,[29]29
Бог из машины (лат.).
[Закрыть]появляется дама с золотым зубом. Которую сама же Эва и нашла. Услышала о ней от одного актера, который слышал о ней от одной танцовщицы. Массажистка. Лет, наверное, на десять, на двенадцать старше Айры, тетенька лет под пятьдесят. Несколько потрепанного, сумеречного вида знойная женщина на склоне лет; впрочем, работа держала ее в форме, не давала ее большому, теплому телу терять упругость. Хельги Пярн. Эстонка, муж которой, тоже эстонец, был заводским рабочим. Серьезная трудящаяся женщина, которая любит пропустить рюмочку водки, за деньги запросто раздвинет ноги, а при случае не преминет залезть клиенту в карман. Корпулентная, здоровая баба; когда она впервые появилась, у нее отсутствовал передний зуб. Приходит снова, зуб уже вставлен – золотой, подарок дантиста, которому делает массаж. Потом приходит в новом платье – подарок владельца швейной фабрики, которому опять-таки делает массаж. За год у нее появляется шуба, приличная бижутерия, часы, скоро она уже покупает акции и прочее и прочее. Хельги повышает уровень, Хельги движется вверх. Иногда над этим своим продвижением посмеивается. Вот так меня ценят, говорит она Айре. Когда Айра первый раз протянул ей деньги, она сказала: «Я не перу деньги. Я перу презенты». Он в ответ: «Ну, я же не пойду по магазинам. Вот. Купите себе, что захочется».
С нею он тоже проводил обязательные беседы о классовом самосознании, рассказывал про Маркса, о том, что Маркс велит трудящимся вроде Пярнов вырвать капитал из рук буржуазии и, установив контроль над средствами производства, самим стать правящим классом, но Хельги птица не той породы, чтобы клевать что попало. Она эстонка, а русские, как на грех, Эстонию оккупировали и превратили в Советскую республику, так что она антикоммунистка на подсознательном, рефлекторном уровне. Для нее существует одна земля обетованная – Соединенные Штаты Америки. Где еще могла бы иммигрантка, деревенская девушка без образования… и тыры-пыры в том же духе. Ее продвижение вверх забавляет Айру. Обычно юмора ему как раз недостает, но не в том, что касается Хельги. Кто знает, может, ему бы на ней следовало жениться. Может быть, в этой добродушной, разбитной массажистке, принимающей реальность такой, какая она есть, ему и надо было искать родственную душу. Такую же родственную, какой была ему когда-то Дона Джонс: душу в чем-то дикую и разгульную. Я бы даже сказал, душу заблудшую.
А он и впрямь ее меркантилизм находил пикантным. «Ну как, Хельги, удачная была неделя? Чем прибарахлились?» Она не усматривала в этом проституции, чего-то дурного или зазорного – она повышает свой уровень, это же хорошо? Воплощает свою американскую мечту. Америка – страна возможностей, клиенты ее ценят, должна же женщина зарабатывать на жизнь? И вот, трижды в неделю она после обеда заходила, одетая как медсестра: белый крахмальный халат, белые чулки, белые туфли. С собой приносила складной массажный стол. Устанавливала стол в его кабинете рядом с письменным, и, хотя Айра на целый фут был длиннее стола, он на него укладывался, и в течение целого часа она очень профессионально делала ему массаж. Которым давала Айре единственное реальное облегчение, снимала постоянные мучительные боли.
Затем, по-прежнему в белой униформе и не менее профессионально, под занавес она еще кое-что делала, от чего облегчение становилось уже совсем полным. Из его пениса исторгался великолепный мощный выплеск, в котором стены тюрьмы мгновенно растворялись. В этом выплеске была свобода, которую во всем остальном Айра утратил. Всю жизнь он только и боролся за то, чтобы осуществлять свои права – права человека, гражданские права, политические, и как-то все сошлось вдруг на том, чтобы этим купленным за деньги выплеском обдать золотой зуб пятидесятилетней эстонки, пока внизу, в гостиной, Эва услаждает слух звуками Сильфидиной арфы.
Не исключено, что Хельги была интересной женщиной, но ее пустота и ограниченность бросались в глаза. Языком она владела не бог весть как, и это, вкупе с тем, что в ее венах всегда струился тоненький водочный ручеечек, заключало ее в кокон некоторой туповатости. Эва даже прозвище ей придумала. «Мотыга». Так они ее всем семейством между собой и называли. Но Хельги Пярн была не мотыга. Пустоватая, может быть, но не дура. Хельги знала, что Эва смотрит на нее как на быдло. Эва не особенно это и скрывала – вот еще, расшаркиваться тут перед какой-то жалкой массажисткой, и жалкая массажистка ее за это ненавидела. Когда Хельги делала Айре минет, зная, что внизу, в гостиной, Эва внимает арфе, Хельги забавлялась тем, что изображала, как высокомерно и барственно должна, в ее представлении, держаться при этом Эва, если уж снизойдет до того, чтобы отсосать у мужа. За расплывчатой балтийской маской крылась натура непокорная и дерзкая – эта женщина знала, когда и чем отплатить той, что от нее воротит нос. А пропустив рюмашку, Хельги и вовсе отказывалась себя сдерживать. И когда она нанесла-таки Эве удар, рикошетом он все вокруг разнес вдребезги.
– Отмщение – ого!.. – задумчиво проговорил Марри. – На свете нет ничего огромнее и ничего ничтожнее; ничто не пробуждает даже в самых заурядных из людей такую творческую активность, как жажда мщения. И даже высокородная рафинированная дама станет неимоверно изобретательным палачом, когда в ней бродит неотмщенное предательство.
Этой своей тирадой он одним махом перенес меня в школьный кабинет литературы: конец урока, учитель кратко резюмирует пройденное, подводит черту, мистер Рингольд собран, внимателен, сжато проговаривает тезисы, некоторые как бы усиливает голосом, – и этим, и четкостью формулировок намекая, что «месть и предательство» вполне может оказаться разгадкой одной из наших с ним еженедельных игр в «Двадцать вопросов».
– В армии мне, помнится, попалась книга Бёртона «Анатомия меланхолии». В Англии, пока нас там готовили к десанту в Нормандию, я читал ее каждый вечер – я тогда впервые в жизни узнал о ней. Я был в восторге, Натан, но кое-чего в ней не понял. Ты помнишь, что Бёртон говорит о печали? Каждый из нас, пишет он, предрасположен к печали, но лишь у некоторых она входит в привычку. Откуда эта привычка берется? На этот вопрос Бёртон не отвечает. Нет в его книге ответа, и все тут, так что мне пришлось самому над этим ломать голову чуть не до конца войны, пока я наконец не понял на собственном опыте.
Эту привычку приобретает тот, кого много предавали. Предательство – в нем все дело. Взять хотя бы знаменитые трагедии. Отчего там появляется печаль, вплоть до отчаяния, до бреда, до убийства? Отелло – предали. Гамлета – предали. Лира – предали. Можно представить дело даже и так, что Макбета предали – он сам себя предал, хотя это не одно и то же. Профессионалы, жизнь положившие на изучение шедевров, те немногие из нас, кто по-настоящему увлечен тем, как литература препарирует жизнь, вынуждены признать, что в самом сердце истории лежит измена и предательство. Одна Библия чего стоит. О чем эта книга? Ситуационная основа любого библейского сюжета – предательство. Адама – предали. Исава – предали. Самарян – предали. Иуду – предали. Иосифа – предали. Моисея – предали. Самсона – предали. Самуила – предали. Давида – предали. Урию – предали. Иова – предали. И кто же Иова предал? Да никто иной, как сам Господь Бог! И не забудь, что Бога тоже предавали. О, еще как предавали! Наши предки предавали его на каждом шагу.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































