Текст книги "Мой муж – коммунист!"
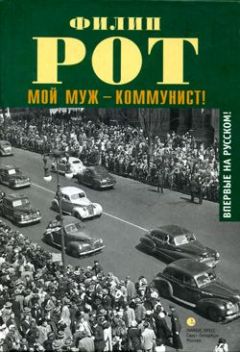
Автор книги: Филип Рот
Жанр: Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 25 страниц)
6
В середине августа 1950 года, перед тем как, поступив в Чикагский университет, покинуть дом (как оказалось, навсегда), я съездил на поезде в Сассекс к Айре, чтобы провести с ним недельку на природе – как в предыдущий год, когда Эва с Сильфидой были во Франции в гостях у отца Сильфиды, а мой отец, прежде чем дать свое родительское соизволение, учинил Айре целый допрос. В то второе лето я сошел с поезда под вечер на маленькой сельской станции, где Айра уже ждал меня в своем двухдверном дачном «шевроле». До его хижины предстояло еще пять миль ехать узкими извилистыми проселками через луга, мимо коровьих стад.
Рядом с ним на переднем сиденье была женщина в белом форменном платье, он представил ее как миссис Пярн. Она в тот день приехала из Нью-Йорка подлечить Айре шею и плечи и следующим поездом возвращалась. При ней был складной стол; помню, как она пошла и сама вынула его из багажника. Это мне запомнилось – ее сила, то, как она легко поднимала стол, а еще ее белое форменное платье, белые чулки и что она называла его «мистер Рин», а он ее «миссис Пярн». Кроме ее силы, я больше ничего особенного в ней не заметил. Я ее вообще едва замечал. Она вылезла из машины и, нагруженная столом, пошла через пути туда, где останавливался местный «подкидыш», на котором ей предстояло сперва доехать до Ньюарка, и больше я ее никогда не видел. Мне было семнадцать. Она показалась мне старой, чопорной и малоинтересной.
В июне вышла брошюра под названием «Красные щупальца», в ней содержался список из ста пятидесяти одной фамилии деятелей радио и телевидения, которым приписывалась причастность к «коммунистическим проискам», и от нее сразу пошли круги увольнений, отчего всю индустрию радио– и телевещания охватила паника. Рингольда, однако, в списке не было, как не было и вообще никого из программы «Свободные и смелые». Я и понятия не имел, что, скорее всего, Айру не тронули, потому что за Эвой Фрейм он был как за каменной стеной, а та, в свою очередь, находилась под защитой Брайдена Гранта (снабдившего информацией тех, кто стоял за публикацией этих «Красных щупальцев»), иначе бы она автоматически подпала под подозрение как жена Айры – с его-то репутацией! Да и всякие политические мероприятия она с Айрой вместе посещала, и не раз, что в те времена легко могло поставить под сомнение ее лояльность Соединенным Штатам. Ни особых доказательств, каких-либо инкриминирующих улик не требовалось; бывало, что и вовсе кто-то где-то кого-то за кого-то принял, и тогда тоже отмыться было невозможно, – так что даже на такого далекого от политики человека, как Эва Фрейм, можно было навесить ярлык «укрывателя» и лишить работы.
Но понять роль Эвы Фрейм в том, что случилось с Айрой, дано мне было лишь через полвека, когда у меня в доме появился Марри и кое-что рассказал. В то время я объяснял себе, почему на него не спускают собак, тем, что его боятся, боятся драки, шума, который он подымет, боятся, что он неисчерпаем, как электрон, и неуничтожим, как материя. Я думал, стоящие за публикацией этих «Красных щупальцев» опасаются, что, стоит его задеть, Айра голыми руками их в куски порвет. Когда за первым нашим совместным обедом Айра рассказывал об этих «Красных щупальцах», у меня даже мелькнуло романтическое такое видение, в котором хижина на Пикакс-Хилл-роуд приняла вид запрятанного в глушь Нью-Джерси сурового тренировочного лагеря, куда перед решительным боем на много месяцев удаляются тяжеловесы, причем в образе тяжеловеса предстал Айра.
– Теперь, значит, для людей моей профессии нормы патриотизма станут устанавливать трое полицейских из ФБР! Трое бывших фэбээровцев, Натан, – вот кто командует операцией «Красные щупальца». Кто должен работать на радио, а кто не должен, будут определять трое остолопов, которые черпают информацию в отчетах Комиссии по антиамериканской деятельности. Вот посмотришь, как наше начальство храбро поведет себя, вляпавшись в это дерьмо. Поглядишь, как просто сплющит систему свободного предпринимательства под этим давлением. Свобода мысли, свобода слова, нормы процессуального права… – не смешите меня. Тут головы полетят, дружок мой. Не средств, не заработков людей будут лишать, а жизни. Люди умирать будут. Одни заболеют и умрут, другие из окон повыпрыгивают. Кончится все это тем, что люди, чьи имена в этом списке, окажутся в концлагерях – спасибо мистеру Маккаррану с любезным его сердцу Законом о внутренней безопасности. Если мы вступим в войну с Советским Союзом – а правые в нашей стране просто горят желанием это сделать, – Маккарран лично проследит за тем, чтобы нас всех упрятали за колючую проволоку.
С появлением этого списка Айра нисколько не утих и не побежал, как многие коллеги, искать укрытия. Всего через неделю после публикации злополучной брошюры вдруг началась Корейская война, и в своем письме в «Геральд трибюн» Айра, вызывающе подписавшись «Железный Рин из «Свободных и смелых», публично заявил, что он против того, что он назвал стремлением Трумэна наконец-то сбросить маску и превратить окраинный, локальный конфликт в военное противостояние капиталистов с коммунистами, тем самым «маниакально выхватив из-под полы атомный ужас третьей мировой войны и уничтожения человечества». То было первое письмо Айры в газету с тех пор, как в Иране он пописывал в редакцию «Старз энд страйпс» про несправедливость сегрегации в войсках, но на сей раз его письмо было поистине пламенным призывом прекратить войну с коммунистами Северной Кореи. Смысл затеи с письмом был в том, чтобы нарочно устроить шум, специально привлечь внимание к тому, что в обществе есть сопротивление, что не все согласны с авторами «Красных щупальцев», цель которых не только изгнать отовсюду коммунистов, но, запугав, добиться от всяческих либералов и некоммунистических деятелей левого толка молчаливой покорности.
Всю ту неделю в августе 1950 года кроме Кореи Айра практически ни о чем не мог говорить. В предыдущий мой к нему приезд мы с Айрой вечерами падали в разболтанные пляжные шезлонги, обставленные цитронелловыми свечками для защиты от комаров и москитов (характерный запах цитронеллы, то есть лимонного сорго, всегда будет напоминать мне Цинк-таун), я устремлял взор на звезды, а он рассказывал мне всякие истории – то новые, то мне уже известные – о том, как он мальчишкой работал в шахте, о том, как во времена Великой депрессии бездомным бродягой скитался по стране, о приключениях во время войны, когда был грузчиком на американской базе, что в Абадане, полном нефтехранилищ городе на реке Шатт-эль-Араб – она образуется слиянием Тигра и Евфрата и течет примерно вдоль границы Ирана с Ираком, впадая в Персидский залив. Прежде я никогда не встречал человека, чья жизнь была бы так затейливо вписана в американскую историю, – того, кто собственными ногами прошел американскую географию, кто сталкивался с таким количеством всяческого – но ведь американского же, нашего – отребья. И никогда не знал человека, который был настолько погружен в злободневность – и так ею ограничен. Затиранизирован ею, став ее воплощением, орудием и жертвой. Вообразить себе Айру вне злободневности – невозможно.
В те вечера на его дачке в облике Айры Рингольда передо мной возникала будто сама Америка, которую предстоит унаследовать. Поток его речей, поток любви и ненависти подчас страдал повторениями и не был кристально ясен, но пробуждал во мне возвышенно-патриотическое стремление самому познать Америку за пределами Ньюарка, я вновь горел той же сыновней любовью к Родине, которую разожгли во мне в ранней юности Говард Фаст и Норман Корвин и которая через год-другой еще усилится при поддержке романов Томаса Вулфа и Джона Дос Пассоса. А в это, следующее, лето на окружающие хижину холмы вечерами опускалась восхитительная предосенняя прохлада, я совал в печку поленья, которые утром сам наколол под жарким солнцем, а Айра, попивая кофе из щербатой старой кружки, сидел в шортах, стоптанных кедах и застиранной оливковой футболке, сохранившейся еще от армии, – ни дать ни взять старший вожатый американских скаутов, здоровенный нормальный парень, которого любят мальчишки и который может найти пропитание в лесу и в поле, может отпугнуть медведя и подстраховать кого-то из младших, чтобы тот не утонул в озере; но при этом он говорил все время о Корее, вновь и вновь о Корее, исключительно и единственно о Корее, говорил с сердцем, с возмущением – говорил так, как, скорее всего, ни в каком американском скаутском лагере у вечернего костра не говорили.
– Я просто представить себе не могу, чтобы вменяемый американский гражданин, хотя бы наполовину укомплектованный мозгами, поверил, что войска северокорейских коммунистов погрузятся на суда, приплывут за шесть тысяч миль и захватят Соединенные Штаты. Но в народе-то говорят именно так! «Надо быть настороже насчет коммунистической угрозы. А то они так и нашу страну захватят». Трумэн перед республиканцами играет мускулами – вот что он делает. Вот зачем все затеяно. Ему надо поиграть мускулами за счет безвинного корейского народа. Вот придем сейчас и разбомбим сволочей, врубаешься? И все только затем, чтобы там не свалили нашего ставленника, фашиста Ли Сын Мана. Какой молодец президент Трумэн! Какой молодец генерал Макартур! А коммунисты все сволочи! Какой расизм, какое неравенство? Коммунисты – вот наша проблема! В этой стране линчевали пять тысяч негров, и ни один линчеватель не был осужден. Это что – коммунисты виноваты? С тех пор как Трумэн, с его беспрерывной болтовней о гражданских правах, воцарился в Белом доме, линчеванию подверглись девяносто негров. Это что – вина коммунистов? Или это вина трумэновского генерального прокурора, белого и пушистого мистера Кларка, который с большим наслаждением устраивает отвратительное судебное преследование двенадцати лидеров Коммунистической партии, безжалостно разрушает их жизнь, мстя им за их убеждения, однако, едва дело доходит до линчевателей, как он и пальцем не желает шевельнуть! Все на войну с коммунистами, давайте пошлем солдат, пусть бьются с коммунистами, – а ведь куда бы ты ни пошел, везде, во всем мире первые, кто погибает в борьбе с фашизмом, – это коммунисты! Первые, кто борется на стороне негров, на стороне рабочих…
От всего этого у меня уже уши вяли, а он все бубнил и бубнил – точно в тех же выражениях, много раз, так что к концу недели я томился, только и ждал, когда можно будет слинять домой. В этот раз житье у него в хижине понравилось мне куда меньше, чем прошлым летом. О том, каким он себя чувствовал затравленным, как переживал фальшь своей якобы дерзкой, якобы независимой позиции, я не имел ни малейшего понятия – все еще воображал, что мой герой вот-вот возглавит и выиграет радиобой с реакционерами из «Красных щупальцев», и не мог понять, как одолевали его страх и отчаяние, как нарастало в нем чувство безнадежности и одиночества, то есть все то, что он изливал в этих возмущенных монологах праведника. «Зачем я делаю в политике то, что я делаю? Я это делаю потому, что считаю это правильным. Приходится что-то делать, потому что это надо сделать. И если я единственный, кто это понимает, тогда и черт с ними со всеми. Меня корежит, Натан, просто корежит от трусости былых соратников…»
Предыдущим летом, несмотря на то что я был еще слишком юн, чтобы получить права, Айра научил меня водить машину. Когда мне исполнилось семнадцать и отец собрался наконец поучить меня, я чувствовал: если признаюсь, что на этом поприще его обошел Айра Рингольд, он обидится, поэтому с отцом я притворялся, будто ничего не знаю и не умею, будто вообще я за баранкой первый раз. На даче у Айры был черный двухдверный «шевроле-купе» тридцать девятого года выпуска, и выглядел автомобиль еще вполне прилично. Айра, с его огромным ростом, за рулем смотрелся странно – прямо какой-то цирк на колесах, а в то наше второе лето, когда он ездил со мной на пассажирском месте, мне казалось, что я вожу с собой изваяние, монумент, символизирующий дикую ярость по поводу Корейской войны, воинский памятник, воздвигнутый на месте сражения против сражений.
До Айры машина принадлежала какой-то бабульке, поэтому, когда в сорок восьмом году он ее купил, на одометре было всего двенадцать тысяч миль. Коробка трехступенчатая, рычаг переключения передач в полу, включение заднего хода – влево и вперед. Спереди два отдельных кресла, а за ними место, куда еле-еле мог втиснуться, например, ребенок. Ни радио, ни печки. Чтобы открыть воздухозаборники вентиляции, следовало повернуть рычажок вниз, и перед лобовым стеклом приподнимались два прямоугольных щитка с сетками от насекомых. Безотказное устройство. От сквозняков в окнах уплотнители, и каждый стеклоподъемник со своей ручкой. Чехлы сидений из той мышино-серой ворсистой ткани, без которой ни одно авто в те дни не обходилось. Широкие подножки – ну а как же! Большой багажник. Запаска и домкрат в багажнике под настилом. Передняя декоративная решетка как бы заостренная, а на капоте фирменный значок со стеклышком. И уж крылья так крылья – большие, округлые; и отдельно стоящие фары, как две торпеды, смещенные чуть-чуть назад от обтекаемой решетки. Привод стеклоочистителей вакуумный, поэтому, когда нажмешь на газ, «дворники» замирают.
Вот, еще вспомнил: пепельница. В самом центре приборной доски между пассажиром и водителем изящная пластмассовая коробочка с шарниром на донце, чтобы ее можно было раскрыть, а потом снова убрать. Чтобы добраться до двигателя, достаточно было просто откинуть защелку снаружи. Замок капота не предусматривался, так что любой вандал мог расправиться с мотором в две секунды. Левая и правая стороны капота открывались независимо. Покрытие рулевого колеса было не гладким и блестящим, а шершавым, и кнопка гудка только в центре. Стартер включался маленькой круглой педалькой, накрытой гофрированным резиновым колпачком. Ручка «подсоса», то есть привода воздушной заслонки, находилась справа – ее надо было вытянуть на себя, чтобы завестись в холодную погоду, и была еще одна, под названием «дроссель» – слева. Зачем был нужен этот дроссель, ума не приложу. На крышке «бардачка» притопленные механические часы, которые надо было заводить. Горловина бензобака торчала прямо в боку, позади пассажирской дверцы, и закрывалась винтовой крышкой. Чтобы запереть машину, надо было нажать на кнопку под водительским окном, а выйдя, поворотную ручку опустить вниз и захлопнуть дверцу. Так что, если ты о чем-то задумался, можно было ненароком запереть ключ в машине.
Об этой машине я мог бы рассказывать бесконечно, потому что именно в ней я впервые трахался. В тот второй мой приезд к Айре я познакомился с дочкой начальника цинк-таунской полиции, и однажды вечером, договорившись с ней встретиться, позаимствовал у Айры машину и повез ее в кино типа «драйв-ин» – заведение, где смотрят фильм, не выходя из машины. Девчонку звали Салли Сприн. Рыженькая, года на два старше меня, она работала в сельском универмаге и среди местных была известна своей «доступностью». Мы маханули с нею вон из Нью-Джерси, пересекли реку Делавэр и уже в Пенсильвании заехали в «драйв-ин». Киношные динамики в те дни не орали на всю округу: их вешали на окна машины каждому персонально, а смотрели мы какую-то комедию с Абботтом и Костелло. Довольно вульгарную. С ходу принялись обжиматься. Она и впрямь оказалась доступной. Самое пикантное (если считать, что только часть происходящего была пикантной) – это когда трусы обмотались у меня вокруг левой щиколотки. Нога была при этом на педали акселератора, и в запарке я устроил в цилиндрах потоп. К тому времени, когда я кончил, трусы каким-то образом навернулись еще и на педаль тормоза. Костелло кричит: «Эй, Абботт! Эй, Абботт!», окна запотели, двигатель не завести, ее отец – начальник цинк-таунской полиции, а я еще и за ногу к полу привязан.
Отвозя девицу домой, я пребывал в задумчивости: не знал, что теперь говорить, что чувствовать и какая меня ожидает кара за то, что, имея целью совершить половое сношение, я перевез ее через границу штата. Потом я вдруг поймал себя на том, что объясняю, как это неправильно, что американские солдаты воюют в Корее. И уж про генерала Макартура все ей высказал, словно это он ее отец.
Вошел в хижину; Айра оторвал взгляд от книги, которую читал, и говорит:
– Ну и как она?
Я не знал, как на такой вопрос положено отвечать. Смотреть на произошедшее в таком разрезе мне даже в голову не приходило.
– Так ведь – мне ж было все равно с кем… – оторопело проговорил я, и оба мы расхохотались.
Наутро обнаружилось, что, выйдя из машины наконец-то уже не мальчиком, вне себя от восторга я хлопнул дверцей и запер ключ внутри. Узнав об этом, Айра снова хохотал, но больше за всю неделю, что я пребывал у него в хижине, развеселить его мне не удалось ни разу.
Иногда Айра приглашал на обед соседа, Реймонда Швеца. Рей был холостяк, жил милях в двух дальше по дороге, у края брошенного карьера – огромной, доисторического вида ямы, этакой рукотворной жутковатой бездны, вид пустоты в которой, ломаными уступами уходящей чуть не в преисподнюю, даже при свете дня вызывал у меня мурашки. Рей жил один в однокомнатном строении, которое когда-то, десятки лет назад, служило складом рудничного оборудования и в качестве жилища имело довольно жалкий вид. Во время войны он был в Германии военнопленным и вернулся с тем, что Айра именовал психической травмой. А через год, вновь приступив к работе бурильщика в цинковой шахте – в той самой, где Айра мальчишкой сам вкалывал с лопатой, – он попал под обвал и получил еще и травму черепа. В четырехстах пятидесяти метрах под землей потолочный каменный выступ размером с хороший гроб в полтонны весом грохнулся у стены, которую он бурил, и раздавить не раздавил, но здорово приложил мордой об пол. Рей выжил, но под землю больше не спускался, и врачи с тех пор не раз ремонтировали ему череп. Рей был мастером на все руки, и Айра иногда давал ему подработать: Рей полол у него в огороде сорняки, поливал в его отсутствие грядки, делал в доме ремонт, красил и тому подобное. Бывало, много недель подряд Айра давал ему деньги за просто так, а когда видел, что Рей плохо питается, приглашал его и кормил. Говорил Рей очень мало и редко. Покладистый и всегда какой-то полусонный, он вежливо кивал головой, которая, говорят, мало походила на ту, что была у него до несчастного случая… и, кстати, даже когда за обедом с нами был Рей, Айра без умолку громил и громил наших врагов.
Этого следовало ожидать. И я ожидал этого. Можно даже сказать, предвкушал. А ведь казалось, никогда не надоест, все будет мало. Ан нет, насытился. На следующей неделе предстояло идти в колледж, обучение у Айры закончилось. Вдруг внезапно, с невероятной скоростью все завершилось. Это как и с невинностью. В хижину на Пикакс-Хилл-роуд я вошел одним человеком, а выходил другим. Как бы ни называлась та новая, непрошенно вырвавшаяся на поверхность движущая сила, она вдруг сама собой обозначилась и была непреоборима. Когда-то мое увлечение Айрой привело к тому, что сыновние чувства во мне ослабли, и я отдалился от отца, а теперь это же повторялось с ним – я в нем все более разочаровывался.
Даже когда Айра привез меня к своему ближайшему приятелю из местных, Хоресу Бикстону, который с сыном Фрэнком жил в большом сельском доме у грунтовой дороги и держал в пополам разгороженном и не бог весть как отмытом коровьем хлеву мастерскую по набивке чучел, Хоресу Айра не мог поведать ни о чем ином, кроме того, о чем непрестанно твердил, говоря со мной. Годом раньше мы уже бывали у Хореса с Фрэнком, и я с огромным удовольствием слушал, но не разглагольствования Айры о Корее и коммунизме, а то, что рассказывал Хорес о ремесле таксидермиста. «Вот, слушай, слушай, Натан! Можно целый сценарий написать для радио – про одного только этого парня с его чучелами!» Интерес Айры к таксидермии отчасти происходил от его непреходящего восхищения рабочим классом, кроме того, Айру волновали отношения человека с природой, причем не столько красота природы как таковой, сколько индустриализация природы, эксплуатация природы, то, как человек берет природу в свои руки, использует, обезображивает и, как это начинало уже проглядывать в глуши цинковой провинции, – разрушает.
В тот первый раз, когда я вошел в мастерскую Бикстонов, меня потряс странный и причудливый хаос, царивший в маленькой передней комнате: повсюду дубленые шкуры грудами; рога с бирками, свисающие на проволоке с потолка, – там и сям по всей длине комнаты рога, рога, десятками; огромные лакированные рыбы, тоже подвешенные к потолку, – рыбы с растопыренными плавниками, рыбы с длинными мечами вместо носов, и одна рыба с обезьяньей мордой; звериные головы – маленькие, средние, огромные и гигантские, – прикрепленные к стенам, где не осталось ни дюйма свободного места; многочисленная стая уток, гусей, орлов и сов, размещенная на полу, – многие с расправленными крыльями, будто в полете. Были там и фазаны, и дикие индейки, был один пеликан, один лебедь, а среди птиц там и сям таились звери – скунс, рысь, койот и пара бобров. Пыльные стеклянные ящики, составленные вдоль стен, заключали в себе птиц поменьше – главным образом голубей и перепелок, – а также маленького аллигатора, свернувшихся змей, ящериц, черепах, кроликов, куниц, белок и грызунов всех мастей, вплоть до мышей, крыс и прочих отвратных тварей, которых я и поименовать-то толком не умею, и все они реалистично располагались среди засохших трав в натуральнейших сочетаниях и позах. И везде пыль, клочья шерсти, шкуры и прочая, честно сказать, всяческая дрянь.
Тут из задней комнаты вышел пожать мне руку Хорес, тщедушный старикашка, одетый в комбинезон и панаму цвета хаки, ростом и сам не превышавший размаха крыльев какого-нибудь из своих стервятников. Увидев мои округлившиеся глаза и отвисшую челюсть, он смущенно улыбнулся.
– Н-ну да, – сказал он. – Мы редко чего выбрасываем.
– Хорес, – сказал Айра, глядя откуда-то из поднебесья на крошечного человечка, который, как Айра мне уже рассказывал, сам гнал себе сидр, сам коптил мясо и каждую птицу узнавал по голосу, – это Натан. Он еще школьник, но уже писатель. Я рассказал ему, что ты мне говорил насчет того, как стать хорошим таксидермистом: дескать, чучельником становится тот, кто может создать иллюзию жизни. А он мне в ответ: «То же самое можно сказать и о писателе», – вот я и решил взять его с собой, чтобы вы, оба художники, могли промеж собой о том о сем покалякать.
– Вообще-то да, мы к своей работе всерьез подходим, – сообщил мне Хорес. – Работаем с чем угодно. Рыбы, птицы, млекопитающие. Головы охотничьих трофеев. Любые виды и в любом виде.
– Расскажи ему вон о той зверюге, – со смешком сказал Айра, указывая на большую птицу с длинными ногами, которая, на мой взгляд, напоминала петуха из горячечного кошмара.
– Это казуар, – сказал Хорес. – Птица из Новой Гвинеи. Не летает. Сюда она попала с цирком. В бродячем цирке ею паузы заполняли. А потом сдохла – это в тридцать восьмом было, – мне ее принесли, я сделал чучело, но так за ней никто из цирка и не явился. А это сернобык, или орикс, – перешел он к следующему своему произведению. – Вот ястреб Купера в полете. А вот череп бизона, это называется «оформить по-европейски» – вот: верхняя половина черепа. А это лосиные рога. Огромные, да? А вот вильдебиста – они так в Африке называются, а вообще-то антилопа гну, смотри, на верхушке черепа еще шерсть сохранилась…
Полчаса наше сафари продвигалось через выставочный зал, наконец вошли в заднее помещение – «цех», как называл его Хорес; там оказался Фрэнк, лысеющий дядька лет сорока, абсолютно точная копия отца, – он сидел за окровавленным столом, снимал с лисы шкуру ножом, который, как мы впоследствии узнали, своими руками сделал из ножовочного полотна.
– Между прочим, у каждого зверя свой запах, – пояснил Хорес для меня. – Чуешь, как пахнет лисой?
Я кивнул.
– Да уж, запашок у лисоньки, – поморщился Хорее. – Мог бы быть и поприятнее.
Фрэнк уже ободрал к тому времени у лисы почти всю правую заднюю лапу до кости и голых мышц.
– Эту, – указал на нее Хорес, – мы целиком оформим. Выглядеть будет в точности как живая.
Лисица, только что застреленная, лежала на столе; она и так выглядела в точности как живая, только спящая. Мы все сидели вокруг стола, смотрели, как ловко и точно Фрэнк делает свое дело.
– У моего сына очень ловкие пальцы, – с отцовской гордостью произнес Хорес. – Сделать лису, медведя, оленя или больших птиц – на это многие способны, но мой сын может делать и певчих птиц, во как! У Фрэнка есть свое секретное оружие, – пояснил Хорее. – Такая маленькая самодельная ложечка – выковыривать мозги у мелких птиц: таких мелких, прямо собственным глазам не веришь.
К тому времени, когда мы с Айрой встали, чтобы уходить, Фрэнк, который оказался глухонемым, снял с лисы всю шкуру окончательно, отчего животное превратилось в тощенькое красное тельце размером примерно с новорожденного человеческого ребенка.
– А лис едят? – спросил Айра.
– Ну, обычно-то нет, – ответил Хорее. – Но во время Депрессии мы много чего пробовали. Тогда ведь все были равно утрамбованы, понимаешь ли. До мяса, как до луны. Ели опоссумов, сурков, кроликов…
– А кто вкуснее? – спросил Айра.
– Да все было вкусно. Мы были вечно голодными. Во время Депрессии ели все, что можно поймать. Ворон ели.
– И как вороны?
– С воронами проблема в том, что никогда не знаешь, насколько эта скотина старая. Одна, помню, попалась такая – все равно что ботинок жуешь. По большей части вороны годятся разве что на суп. Еще мы белок ели.
– Как же вы белок готовили?
– В чугунке. Черный такой, знаете? Литой. Жена ловила их силками. Свежевала и, когда наберет три штуки, тушила в чугунке. Потом их грызешь, как цыплячьи крылышки.
– Ну, надо к вам женку засылать, – пошутил Айра. – Вы с ней поделитесь рецептом.
– Был такой случай – жена пыталась скормить мне енота. Но я распознал. А она мне втирала, будто это черный медведь-барибал. – Хорес усмехнулся. – Она хорошо готовила. Умерла в День сурка. Семь лет назад.
– О! А этот когда у тебя появился, а, Хорес? – Айра указывал поверх панамы хозяина на присобаченную к стене голову дикого кабана; она висела между полок, уставленных проволочными каркасами и заготовками из пропитанной шпаклевкой мешковины, на которую натягивают куски звериных шкур, а потом сшивают, чтобы создать иллюзию жизни.
Кабан был настоящее чудовище, огромный, почти черный, с коричневой шеей и беловатой шерстью в виде маски между глаз и на щеках, а влажно поблескивающее рыло у него было большое и твердое, как черный камень. Челюсти угрожающе приоткрыты, так что видна хищная пасть и впечатляющие белые клыки. Нет слов, кабан действительно был как живой; но и лиса на столе у Фрэнка, воняющая так, что сил моих не было терпеть, – тоже.
– Кабан прямо настоящий, – сказал Айра.
– Так он и есть настоящий. Язык, правда, не настоящий. Язык, конечно, – муляж. Охотник требовал, чтобы зубы были настоящие. Обычно мы используем искусственные, потому что в процессе работы зубы не сохранить. Становятся ломкими и выпадают. Но он хотел, чтобы зубы были настоящие, и мы вставили настоящие.
– Сколько на это нужно времени – от начала до конца?
– Около трех дней… часов двадцать.
– И сколько вы за этого кабана получите?
– Семьдесят долларов.
– По-моему, как-то даже и дешево, – сказал Айра.
– Ну, это вы привыкли к нью-йоркским ценам, – отозвался Хорес.
– А у вас был весь кабан или только голова?
– Обычно нам дают голову, отрезанную с куском шеи. Ну, случается, конечно, и целиком дают – вот медведь как-то попался – черный медведь… или вот тигра я делал.
– Тигра? Нет, правда? Ты никогда мне не рассказывал.
При том, что Айра, как я заметил, расспрашивал Хореса нарочно – специально для моего писательского образования, – ему и самому нравилось задавать Хоресу вопросы и слушать, как он этаким тихим, отчетливым, бодрым голосом отщелкивает ответы, будто отсекает их от цельного куска деревяшки.
– А тигра-то где тут подстрелили? – спросил Айра.
– Да один чудак их дома у себя держал, они были вроде как ручные. Один издох. А шкуры-то ценные у них, вот он и захотел из него ковер сделать. Вышел на нас, положил его на носилки, Фрэнк погрузил в машину и привез сюда, целиком. Они ведь вовсе там не знали, что с ним делать, как шкуру снять и так далее.
– А вы что – с ходу знали, как делать тигра, или пришлось специальные книжки читать?
– Да ну, Айра, какие книжки! Нет. Когда имеешь в этом деле определенный опыт, знаешь, как разобраться с любым животным.
Тут Айра говорит мне:
– Ну, может, у тебя вопросы есть какие к Хоресу? Образовательного, так сказать, порядка.
Но мне вполне довольно было просто слушать, и я отрицательно помотал головой.
– И что, Хорес, с тигром интересно было поработать? – спросил Айра.
– А что, занятно. У меня приятель один есть с кинокамерой, я ему денег дал, так он весь процесс заснял на пленку, и я ее в том году на День благодарения показывал.
– Это как – перед праздничным обедом или после? – спросил Айра.
Хорес усмехнулся. Хотя в самой таксидермии, как ремесле, ничего смешного я не усмотрел, сам этот мастер был наделен здоровым американским чувством юмора.
– Так ведь едят-то в этот день непрерывно, не правда ли? Зато тот День благодарения все запомнили. В семье таксидермиста к таким вещам привыкают, иногда хочется народ слегка расшевелить, ты ж понимаешь.
Все общение шло в том же духе – спокойная приятельская беседа с шутками и прибаутками, а под конец Хорес даже подарил мне оленье копыто. Все время, что мы гостили у Хореса, Айра был мягок и безмятежен; при мне он таким не бывал ни с кем. Если не брать в расчет того, как меня тошнило из-за запаха лисы, я и сам едва ли когда чувствовал себя в обществе Айры более спокойно и умиротворенно. Мало того: ни разу я еще не видел, чтобы он воспринимал всерьез что-либо, не имеющее отношения к международному положению, политике или несовершенству человеческой природы. Под болтовню про поедание ворон, превращение тигра в ковер и про то, сколько стоит сделать чучело кабана в Нью-Йорке и в провинции, он расслабился, успокоился, отмяк настолько, что сделался вроде и на себя не похож.
Добродушная поглощенность этих двух людей друг другом так завораживала (особенно ввиду того, что в это время у них под носом прекрасное животное лишалось всей своей красы, и в ту сторону смотреть не очень-то хотелось), что я потом не мог не задуматься: а не этот ли человек, которому для общения с людьми не требуется ни заводить себя, ни кипятиться, доходя чуть не до белого каления, как это обычно водится за Айрой, – не этот ли человек и есть настоящая, пусть обычно и невидимая, но истинная, первозданная личность Айры, тогда как другая – яростный радикал – только личина, имитация и муляж, подобно его Линкольну или кабаньему языку? То уважение, та любовь, с которой Айра смотрел на Хореса Бикстона, даже во мне, мальчишке, зародили мысль, что вот же – существует целый мир простых людей и простых радостей, где Айра может укрыться, где вся маята его страстей, все то, чем он вооружился (худо-бедно) для свирепых нападок на общество, сможет развеяться, истаять и, глядишь, повернет в мирное русло. Будь у него сын, подобный Фрэнку, чьими ловкими пальцами он мог бы гордиться, и жена, умеющая ловить и готовить белок, он, может быть, оценил бы подобного рода простые и доступные вещи – гнал бы свой собственный сидр, коптил свои колбасы и, расхаживая в комбинезоне и рабочей панаме цвета хаки, слушал бы певчих птиц… Но ведь опять-таки – может, и нет. Может быть, он на месте Хореса вообще не смог бы жить – в отсутствие великого врага и безнадежной битвы жизнь сделалась бы для него еще несноснее, чем теперь.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































