Текст книги "Пересуды"
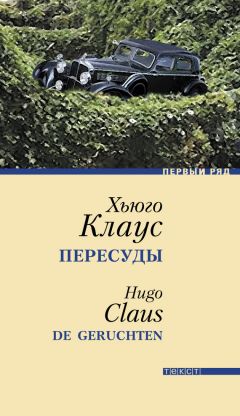
Автор книги: Хьюго Клаус
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 18 страниц)
– Для начала?
– Да, для начала, – сказал Ваннесте.
Эта книга действительно так называлась или ты придумал?
Я же говорил, что хорошо запоминаю странные слова. Ряды слов. Будете слушать дальше?
Да.
Декерпел вытащил из ряда толстую книгу:
– Тут есть еще одна, тоже о процессе мышления: «Indeterminacy, Empirism and the First Person»[104]104
«Независимость, Эмпиризм и Субъект».
[Закрыть]. Как у тебя с английским, Братец?
Меня бросило в жар, потом затрясло. В тот день я забыл принять таблетки.
– На самом-то деле книга… – сказал я, – для знакомого. Вернее, для моего брата. – У меня зазвенело в ушах. – Он уже давно на чужбине и должен вот-вот вернуться в Бельгию.
Меня трясло от ярости. Все семь догов тяжело дышали. Длинные розовые языки висели меж желтыми клыками.
Я бросился в туалет. Меня вырвало.
Когда я вернулся, Декерпел протянул мне толстую книгу в глянцевой обложке. Заложив ее пальцем.
– Я нашел то, что тебе подойдет, Братец.
– В точности твой случай, – сказал Ваннесте.
Я смотрел на слова. Они ничего мне не говорили.
– Может, тебе лучше прочесть это вслух, – сказал Декерпел.
– Точно, – согласился Ваннесте. – Вот тебе задание: читай вслух.
– Но не слишком быстро, – добавил Декерпел серьезно.
Я прочел, и я могу повторить это десять раз, если нужно.
Не нужно.
Я прочел: «Следуя всеобщей убежденности в том факте, что человек смертен, каждый тем самым вводит как себя, так и других в заблуждение…»
Довольно.
Нет. Дальше: «… в заблуждение, в данном случае имеется в виду не собственно персона, ибо сам человек – никто».
– Некто, – поправил меня Декерпел.
– Здесь написано: «Никто», – сказал я. И сунул книгу ему под нос.
– Черт возьми. Ты прав.
Краем глаза я заметил, что Рита наблюдает за нами, стоя у отдела «Файлы и Папки». Она выхватила у меня книгу. Я испугался, что она швырнет ее Декерпелу в рожу, у нее сильные руки, она хочет стать физиотерапевтом. Я быстро сказал:
– Не надо, Рита.
И она бросила книгу под ноги Ваннесте. Я поднял ее и, когда закрывал, увидел, что корешок лопнул. Вечером я выкупил книгу у минеера Феликса. С тридцатипроцентной уценкой. Она называется «Двенадцать философов».
Когда ученые мужи оставили нас с Ритой в покое, она покачала головой, короткие волосы взлетели волной, сказала:
– Ах, Братец! Ты позволяешь им говорить с тобой, как с дурачком, зачем?
– Может, я и есть дурак.
Она не засмеялась.
– Ты сказал, это для брата. У тебя нет брата.
– Нет.
– Теперь и ты начал врать, – сказала, и я понял, что она во мне разочаровалась. – И у тебя изо рта пахнет.
– У меня гастрит.
Минеер Феликс ушел за полчаса до закрытия, чтобы успеть на какое-то собрание, и Ваннесте с Декерпелом улизнули за пятнадцать минут до конца работы. Кот за дверь… Рита ушла без одной минуты шесть, в шесть двадцать я запер двери. Устроился на троне минеера Феликса и стал слушать «Trav'lin' light» Сонни Роллинса[105]105
Американский джазмен, тенор-саксофонист.
[Закрыть], записано в июне 1964 года, за роялем – Херби Хэнкок.
Тут кто-то тихо постучал кольцом или еще чем-то металлическим по стеклу двери. Я открыл. Тощий юноша, кудри до плеч, мокрые от проливного дождя, джинсы и синяя форменная куртка. Из-за куртки я решил, что это почтальон. Потом заметил, что волосы, брови и ресницы у него выкрашены в ярко-рыжий цвет. Таких в почтальоны точно не берут.
Я впустил его.
Он достал из внутреннего кармана коричневый заклеенный конверт и отдал мне.
– Для Патрика, – сказал он.
На конверте был написан адрес?
Нет. Не было ни на той, ни на другой стороне.
Я спросил, надо ли ему заплатить.
– Глупости, – сказал юноша.
Я подумал, не дать ли ему на чай. Ногти он покрыл ярко-красным лаком.
– Передай Патрику, что вечером я буду в Шарлеруа. Вернусь к двадцать четвертому. Мы подумали, так быстрее, чем посылать фотографии по почте. И безопаснее.
Он ждал. Смотрел на меня. Я – как мои собаки. Не переношу, когда мне смотрят в глаза.
– Возьми, – сказал и дал ему японский цветной фломастер. Типа ЕК-3.
– Спасибо. Я буду им писать.
– Кому? – спросил я.
Зачем ты его спросил? Какая тебе разница, кому этот юноша будет писать?
Мне интересно, что делают другие люди. Насколько они другие, чем я. И мне было его жалко, у него прыщи на лице и он вымок до нитки на своем мотоцикле «ямаха».
– Может, я когда-нибудь тебе напишу, – сказал он.
Больше никогда его не видел.
По дороге домой, у Южного парка, я хотел выбросить конверт в мусорный ящик. Потому что эти двое, Ваннесте и Декерпел, надо мной издевались. Мне-то на них плевать. Они приставали по три, по четыре, по пять раз в день. С этим ничего не поделаешь.
Но раз они огорчили Риту, то заслужили наказание. И я убрал конверт во внутренний карман куртки. Поближе к сердцу.
Дома я поджарил полкило свиных кишок, слил жир в туалет и выжал лимон на зажаренные до хруста, бледные кишки. Алиса считала жареные кишки тошнотворными. Мало у нас было общего. Совсем ничего.
Я съел четыре бутерброда, запил их тремя бутылками пива «Дьявол». Тонким острым ножом разрезал скотч, которым конверт был заклеен накрест, вскрыл его, вытащил завернутые в бумагу поляроидные фото, фото выскользнули на стол. И у меня перехватило дыхание. Как будто кто-то изо всех сил треснул меня по носу.
Помню, я брал эти фотографии кончиками пальцев, как нас учили, ноготь на указательном пальце зацепился за ковровую скатерть, сломался, и я ойкнул и почувствовал, что у меня возникла эрекция.
Опиши фотографии.
Я их уже пять раз описывал.
Так опиши еще раз.
Фотографии только что сняты, белоснежный картон их окантовки совсем чистый. Цвет – красновато-коричневый. Работа опытного фотографа. Резкость и композиция – отличные. Вернее – нет, хорошие. Девочка на обеих фотографиях лет десяти, или одиннадцати, или двенадцати. Мелкие кудряшки до плеч.
На одной фотографии она лежала, совсем обнаженная, смотрела прямо в камеру. Цепь вокруг шеи привязана к картонному стволу дерева с картонными ветками. В волосах диадема с пятиконечной звездой, оловянной или алюминиевой. В левой руке поднятый вверх бубен. Живот выставлен вперед. На нем видны следы от брючного пояса. Волос внизу живота не было, только начало щелочки.
На другой фотографии та же девочка, но она показалась мне старше: со взрослой старинной прической, в красном бархатном платье девятнадцатого века, с кринолином. Она еще и потому выглядела старше, что была сильно накрашена. Как будто нарядилась, чтобы играть роль в старинной пьесе. Об Италии, где жили папы-отравители. Или о России, где бородатые казаки застрелили ее мать. Кончик языка был виден. Она слизывала свои слезы. Она приподнимала широкую сборчатую юбку и показывала коленки и черные кружева над ними. На ней были взрослые башмачки на высоких каблуках, со шнурками.
Я не знал, что делать с этими фотографиями. Надкусил белую окантовку, посмотрел на отпечатки своих зубов на картоне. Поджег спичку, поднес ее к углу поляроида и сразу задул голубоватое пламя.
Я жутко разволновался. В животе заурчало. Мне захотелось есть. Может, порвать эти фотки и съесть? А потом соседи-магометане найдут меня, подавившегося собственной рвотой.
Декерпел обхохочется на моих похоронах. Священник скажет над гробом, что я был не слишком одарен, чтобы не сказать недоразвит, но никому не делал зла нарочно.
Я поставил «Misterioso» Телониуса Монка, исполнение Джонни Гриффина[106]106
Американский саксофонист
[Закрыть], тенор-саксофон, 10 минут, запись 1958 года. Не слишком громко, чтоб магометане не приставали. Достал старую бутылку портвейна. Загустевший, выдохшийся, тошнотворный.
Я поднес фотографию, которая в старинном платье, поближе к глазам. Кто-то говорил девочке:
«Посмотри на человека, который сидит перед тобой, прекрати хныкать, он образованный, видный член общества, играет в шахматы, играет в театре, играет в начальника, когда говорит с сослуживцами, он не причинит тебе зла, если будешь послушной, о'кей, раздвинь-ка ножки, покажи сперва коленки, а теперь еще выше – черные кружева, положи руку выше кружев, засунь туда указательный пальчик, внутрь бархатистой – или она атласная? там что-то блестит – осторожно, смотри покорно, умоляюще на Патрика Декерпела».
Я увидел страх в ее глазах. Фотография была сделана, когда она испугалась за свою жизнь.
Что было в письме?
На фотографии…
Нет. Расскажи о письме, пожалуйста. И как можно подробнее.
Оно было на толстой кремовой бумаге, 100-120 грамм. Напечатано курсивом. Текст аккуратно расположен посередине листа. Несколько исправлений типпексом.
Ты устал? Можем сделать перерыв, если хочешь.
Нет, нет. Я пытаюсь увидеть письмо. Подождите немного.
Увидеть?
Да, у себя в голове. Теперь я могу просто прочитать его.
Читай.
«Дорогой Патрик, вот фотографии Флоры Демоор, все, как ты просил. Маленькая плутовка горит желанием. Она пробудилась и с нетерпеньем ждет продолжения, ибо мечтает возвыситься. Она мне сама сказала: „Я на все готова“. Мамаша ее поддерживает, здесь, так сказать, все средства хороши. Будь с ней терпелив, но не слишком, ведь путь наверх должен быть тернист.
И не забывай, что теперь ты у меня в долгу.
Твой Джон».
Я это письмо семь раз прочитал, потому оно и запечатлелось у меня в памяти. Я представлял себе автора письма, образованного, насмешливого, элегантного, вроде Декерпела и Ваннесте, эти слова они используют, чтобы втоптать в дерьмо таких, как я.
Тут я понял, что мне предстоит сделать. Все стало ясно. Получалось, Декерпел зашел слишком далеко, переступил границу.
Я спрятал фотографии и письмо в белье Алисы, оно аккуратно лежало в спальне, в шкафу, который я никогда не открывал. Мне даже почудился запах ее духов, но откуда ему было взяться, столько времени прошло.
Я ушел из дому, когда магометане принялись за свои молитвы. Поехал на трамвае в порт. Там стоял русский корабль тускло-серого цвета. Шум разгрузки, плеск волн. Но я не мог успокоиться. Джон, сказал я автору ужасного письма, Джон, не думай, что ты останешься безнаказанным. Декерпел и ты, Джон, вы ответите за это.
Назавтра я помогал Декерпелу расставлять по местам новые книги. Он указывал, куда их ставить, а я расставлял по алфавиту. Большинство книг было из серии «Сделай сам». «Мастерство, несущее радость», «Полистирол в деревенском доме», «Как работать с разными сортами глины».
Я наблюдал за этим спокойным горбоносым человеком с парализованной щекой.
Несколько раз он небрежно заглядывал в почтовый ящик.
Я спросил минеера Феликса, можно ли мне отлучиться, навестить Камиллу, он зевнул и постучал по своему «ролексу»
– Только если вовремя вернешься, – сказал.
– Финальный аккорд много времени не потребует, – встрял Декерпел.
– Презерватив не забудь, – озаботился Ваннесте.
– Куда ты идешь? – спросила Рита.
– В больницу.
– Надеюсь, не для того, чтоб починить свою пипиську? – спросил Ваннесте.
– Нет. К счастью, нет.
Камилла лежала в палате на двоих в Университетской Клинике. Я бывал там по нескольку раз в неделю, но всегда с трудом находил ее палату. Я думал, глупо спрашивать дорогу к палате 81.
Дверь оказалась открыта.
Как всегда в последнее время, у нее сидели родственники. Они знали меня, но здоровались сквозь зубы. Я не знал, надо ли поздороваться с ними за руку. Лучше бы нет. В присутствии Камиллы это могло выглядеть так, будто я пришел выразить им свои соболезнования.
Одна из родственниц, жутко толстая, сказала с голландским акцентом:
– Ты б хоть халстух надел. Што подумают о нас дохтора и пэрсонал?
Родственники расположились на двух стульях в ногах постели Камиллы и на пустой кровати рядом.
Камилла тяжело дышала. Ее брови были обриты, вместо них нарисованы черные тонкие линии. Она стала похожа на скелет со вздутым животом.
– Дружочек, – сказала.
И закурила сигарету с ментолом.
– Камилла, – сказала толстуха, – может, не надо? Доказано, что курение вредно, почему бы не писать об этом на пачках?
Камилла глубоко затянулась, выпустила дым в ее сторону. Сдвинулась на постели поближе к подушкам, чтобы удобнее сесть, и оглядела родственников.
– Еще три дня, – сказала.
Я сказал ей, что купил пластинку «Blue Eyes» Элтон Джона. Она хотела, чтобы эту музыку играли на ее похоронах. И «Мадам Баттерфляй».
– Спасибо, дружочек, – сказала.
– Я старался.
Вдруг родственники поднялись все разом, как по команде. В палате стало очень тесно. Один из них, агроном, если я верно помню, сказал:
– Ладно, нас стало слишком много. Если ты не против, Камилла, мы придем завтра.
Камилла курила, тяжело дыша.
– Да. Приходите.
– А вы тут пока всласть посплетничаете, – добавил агроном.
– О нас, – сказала одна из женщин, наверное, его жена.
– Вы лучше послезавтра приходите, – сказала Камилла.
Родственники выбрались за дверь.
Зашла медсестра, сказала, что хочет помыть Камиллу.
Камилла попросила:
– Подожди пока.
Я сидел на пустой кровати.
– Посмотри-ка в тумбочке. Сережки на месте?
– Да.
– А золотые кольца?
– Тоже.
– Лус уже нарядилась в черное. Не хватает только шляпки с черной вуалью, для пущего эффекта.
– Как ты, Камилла?
– Дружочек, я же сказала – еще три дня. Еще три дня мучиться. Круассаны мне делают на маргарине. И ни грамма соли.
– Это потому, что тебе нельзя, чтобы вода задерживалась.
– Дружочек, будь добр, принеси мне завтра три или четыре пакетика соли.
– По сколько граммов в пакетике?
– Ты с каждым днем глупеешь. Пакетики, как в самолете.
– Я никогда не летал в самолете.
Она снова закурила.
– У тебя золотое сердце, дружочек, за что я тебя и люблю. – Она потушила сигарету о пластиковый поднос на ночном столике. Повернулась на живот и захрапела.
Я не стал уходить. Мне не хотелось возвращаться в магазин. Мне не хотелось попадаться на глаза Декерпелу. Некрасиво читать чужие письма, хотя, думаю, можно, если это поможет раскрыть преступление.
Камилла теперь не храпела, а тихо попискивала, как кошка Карамель, когда ей что-то снилось.
Потом послышалось бульканье и у нее на губах появилась пена. Я вытер ей губы своим носовым платком. Она вцепилась в платок беззубыми деснами и вырвала его из моих пальцев. И спрятала лицо в простынях.
Минут через десять взяла с ночного столика погасшую сигарету, и снова закурила, и сказала:
– Привет дружочек, – как будто еще не видела меня сегодня.
Она почмокала губами. Я влил ей в рот полбутылки газировки. Она отрыгнула и засмеялась, широко открывая рот, я смотрел на голые серо-розовые десны, где когда-то росли зубы.
– Я часто вспоминаю твою маму, – сказала. – Мы, правда, почти не общались, у нас с ней были, так сказать, разногласия, если честно, повздорили мы из-за пьянства. Моего пьянства, твоя мама не пила. Но я никогда не могла и до сих пор на могу ей простить того, что она не настояла, чтобы врачи тебя как следует проверили, когда ты разбился. Мне показалось, она готова была к наказанию и считала твое падение и то, что с тобой стало, Божьей карой.
– Карой. За что?
– За прошлые грехи, – сказала.
– Пошла ты в жопу.
Снова у нее на губах выступила пена, но она ее проглотила.
– В наше время врачи творят чудеса. Вскрывают череп, находят опухоль, вырезают и снова закрывают. Если опухоль большая, вырезают иногда пол-мозга, левую половину, например, которая заведует мыслями и речью человека, но через некоторое время правая половина перенимает функции левой.
– Мне пора возвращаться в магазин.
– Да, вот еще что. Через три дня меня не станет, так вот, если ты когда-нибудь увидишь своего брата…
– Мне пора возвращаться в магазин.
– Скажи ему, скажи этому ублюдку, который испоганил мои последние годы тем, что пропал, что он был единственным мужчиной, который для меня хоть что-то значил.
– Я не хочу, чтобы ты о нем говорила, – сказал неправильно, и сразу поправился: – Я хочу, чтобы ты о нем говорила.
Со мной так часто бывает, но это случается и с учеными мужами, хочешь сказать одно, а выходит совсем другое.
– Поди сюда, – сказала.
Я прилег на узенький краешек кровати, прислонился к ее теплому боку, упершись одной ногой в пол.
– Ты знаешь, кто сегодня утром у меня был? – Она провела рукой по моей щеке и уху. – Юдит.
– Дочка Неджмы?
– Ты знаешь другую Юдит?
Я поднялся с кровати, освобождаясь от ее руки, от тепла ее вздутого живота.
– Я не хочу об этом. Мне давно пора вернуться в магазин.
Она продолжала болтать, но я старался ее не слушать. Я слышал только рычание, лай, сопение.
Потом она сказала, что Юдит спрашивала, жив ли я еще. Я проглотил таблетку, запил апельсиновым соком. Я смотрел на Камиллу, а она говорила, говорила, и я подумал: «Да она полоумная, никуда не годная, никому не нужная, как я!» Но я больше не мог переносить ее болтовню. Мне нельзя слушать истории о прошлом. Я пообещал завтра днем занести ей пакетики с солью. В коридоре я едва не наткнулся на медсестру, она развозила на тележке лекарства.
Ты все еще принимаешь таблетки?
Да. Иначе я не мог бы сидеть тут и рассказывать.
С Камиллой кончено.
Декерпела, к счастью, не было в магазине. Не хотелось мне надрываться, таская книги. Я сел в кресло Декерпела, пока минеер Феликс не заметил. В одном не везет, повезет в другом, не разбейся я в детстве, мог бы стать начальником книжного отдела. Я бы выучился, запоминал бы, само собой, всякие штуки не хуже других. Но тогда я стал бы Декерпелом, соблазнителем маленьких девочек.
В тот вечер, когда все ушли, я напечатал на пишущей машинке «Brother», порядковый номер 81150, свое предостережение.
Ты и его видишь в своей голове?
Конечно.
«Минеер Патрик Декерпел, – напечатал я, – это первое и последнее предупреждение. Прекратите ваше преступное свинство, которое не осталось незамеченным. Если вы все же это будете упорно продолжать, то вас и ваших соучастников ожидают непредсказуемые последствия. Мы за тобой следим, грязная собака. Не трогай наших детей своими грязными лапами».
Я взял коричневый конверт и маркером «Pilot Hi-Tecpoint» написал печатными буквами: «ДЛЯ П. ДЕКЕРПЕЛА». Вышел на улицу и бросил конверт в почтовый ящик магазина «Феликс». Потом вернулся в магазин и достал письмо из почтового ящика. Мои отпечатки пальцев стояли на письме и конверте. Я все еще мог сунуть его в шредер.
Даже если прогнать письмо через шредер, мы можем его восстановить.
Да, конечно. Я знал, что делаю что-то неправильно, что совершаю большую ошибку, но все-таки снова положил письмо в ящик.
Почему ты не обратился в полицию?
В полицию.
Всякий может обратиться в полицию. Даже должен.
В полицию. Нет.
Почему нет?
Нет, лучше нет.
Ты боишься полиции? Почему?
Они бы осмеяли меня.
Не обязательно.
И потом, у Декерпела много друзей, ученых друзей, в бридж-клубе, в театре, в шахматном клубе, в банке, в полиции. А у меня – никого.
Я еще и потому не мог уснуть в ту ночь, что долго сидел у Камиллы, видел, в каком она ужасном состоянии, и ничем не мог ей помочь. И еще мне чудились какие-то ученые господа в темных костюмах и белых рубашках, бродившие по березовому лесу, в холодном тумане, некоторые искали что-то, пристально вглядывались в землю и приподнимали блестящими палками вроде газовых труб листья папоротников. Потом они услышали приближающийся лай и бросились бежать, торопясь, и толкаясь, и натыкаясь на серебристые березы.
На следующее утро я пришел в магазин минут на пятнадцать раньше обычного. Прежде чем снять пальто, Декерпел нагнулся, и я услышал знакомый металлический щелчок крышки почтового ящика. Он вскрыл конверт. Слишком быстро, и я решил, что забыл заклеить конверт. А я точно помнил, что лизнул языком клей на конверте, потому что даже ночью чувствовал во рту его вкус. Он повернул письмо к свету, брови нахмурены, парализованная челюсть отвисла. Потом сунул конверт в карман и засмеялся, его плечи затряслись.
Потом увидел меня. И сказал, как будто собирался поделиться со мной своей радостью:
– Братец, некоторые шутники не так комичны, как сами считают.
Меня заколотило. Я сказал:
– То, что вы сейчас сказали, минеер Декерпел, относится ко мне?
– Ну ты-то, Братец, еще ни разу меня не рассмешил.
– Жаль, – сказал я, проходя мимо него в туалет.
В зеркале над раковиной отразился лысеющий блондин с трясущимися руками.
– Фас, фас его, – сказал я, как будто науськивал питбуля.
В больнице я столкнулся в коридоре с медсестрой, и она сказала:
– Только недолго.
Камилла не пошевелилась, когда я вошел в комнату. На свободной кровати лежал кожаный чемодан. А вокруг него аккуратно разложены стопками белье и платья. И три пары черных остроносых туфелек на высоких каблуках.
– Дружочек, – сказала она. – Ну вот и все.
Она была очень красиво подкрашена, кожа блестела, волосы уложены и побрызганы лаком.
На простыне, на том уровне, где низ ее живота, я увидел кровавое пятно размером с ладонь. Она сказала:
– Скоро во мне ничего не останется.
Я присел на край постели.
– Все родственники у меня уже побывали. Даже те, о которых я вообще никогда не слыхала. А там одежда и обувь для медсестер. Все под контролем.
Мы посидели молча. Потом она сказала, что все время думает об одном: увидит ли она своего мальчика. Я ответил, что не знал, что у нее есть ребенок. Был.
– Эмиль, – сказала она.
Она потерла руку, где виднелись следы от уколов, ряд маленьких розовых пятнышек.
– Это было давно. Теперь об этом все известно. У одного из восьмисот мальчиков это случается – одна крошечная лишняя хромосома. Получаются мальчики, нежные, как девочки, и у них не растут волосы. И это даже хорошо, что они не выживают. Я назвала его Эмиль. А может, Ахилл.
– Ты его увидишь, – сказал, и подумал: «Что это я несу? Разве можно обманывать умирающего человека».
– Ты, – сказала она, – ты еще и не то увидишь. Ты слишком хорош для этого мира.
– Мне это уже не раз говорили, но смотри, как далеко я зашел.
– Достаточно далеко.
Медсестра склонилась над ней, прикрыла оранжевой клеенкой кровавое пятно.
– А теперь подложим подушечки под головку, чтобы вы выглядели свеженькой и красивой, когда придет доктор.
– Глупая телка, – сказала Камилла.
– А вы капризная девочка, – рассмеялась в ответ медсестра. Уходя, она покосилась на сверкающие туфли, лежавшие на кровати.
Камилла достала из-под подушки пачку ментоловых сигарет. Я прикурил одну из них для нее. Она взяла сигарету большим и указательным пальцем и глубоко затянулась.
– Я бы с удовольствием оторвала еще пару яиц, – сказала капризным детским голоском.
– Надеюсь, не моих? – спросил. На всякий случай.
– Твои? Никогда.
Сигарета выпала у нее изо рта, я взял и затушил о подоконник. Она сказала мечтательно:
– Мне страшно хотелось поиздеваться над капитаном, последним моим любовником. Послать ему мою правую ногу, аккуратно отрезанную и упакованную в специальный контейнер со льдом. Мне все равно должны были отрезать ногу из-за диабета. Но на это уже не осталось времени. Только представь себе: звонят у дверей бара «Tricky», он открывает, в пижаме, – он теперь никакой другой одежды не носит – берет посылку, распаковывает. Ах, как я хотела бы посмотреть на его дурацкую рожу. Он всегда восхищался моими стройными ногами. И вот стоит он с моей ногой и любуется моими пальчиками, капитан моего сердца.
– Ты бы его напугала.
Она стала еще бледнее.
– Мой капитан, ничтожество экстра-класса. Показывал мне Африку. Возил меня на джипе. Фламинго. Тысячи розовых фламинго. И солнце над ними. Вертопрах.
– Камилла, – перебил я ее, – я случайно узнал что-то, чужие секреты. И никому не могу об этом рассказать. Надо бы в полицию сообщить, но я боюсь.
– Ты никогда не был смелым. Может, это не так уж и плохо. Твой брат, тот был храбрец.
– Или обратиться к адвокату. Но как знать, во сколько это мне обойдется? Дело касается детей, маленьких девочек.
Она сразу напряглась. Заерзала, полезла под подушку за сигаретой, прикурила, захлебнулась кашлем.
– С детьми никогда. Все, что угодно, ты мог найти в «Tricky». Развлечения на любой вкус. Все, что захочешь, любые, самые дикие извращения, кроме детей. Если кто-то заводил разговор о детях, даже лучшие из моих клиентов, я говорила: «Перестань, ничего не хочу об этом слышать». – «Да, но в Японии это разрешено с двенадцати лет». И я говорила: «Дверь вон там, отправляйся в Завентем, садись на самолет и лети в Японию, а у меня тебе делать нечего, грязная свинья».
Она поскреблась в своей идеальной прическе, словно у нее вдруг зачесалась голова.
– Мельничный жернов им на шею, – сказала.
Вошел доктор во всем зеленом и зеленой прозрачной пластиковой шапочке.
– Ну, Камилла, мы счастливы?
Она засмеялась призывным, соблазнительным смехом, словно доктор был ее новым клиентом. Повернулась ко мне:
– Оставь меня теперь, дружочек. Я должна приготовиться.
Я сказал, мне надо вернуться в магазин, отработать дополнительные часы.
– Иди, дружочек. – Она взяла мою руку и погладила ею себя по щеке.
Потом я проходил мимо ее палаты, дверь была распахнута настежь, и ее уже не было в постели. И на другой кровати, где уже не лежала одежда для медсестер, ее не было. А на ее кровати остались только клеенка, детский матрасик и всякие штуки для уборки. В углу магометанин мыл пол.
Это было позже.
Через неделю.
Камилла готовилась целую неделю. Таблетки поддерживали в ней жизнь. Когда ее не стало, медсестры нашли коробку, содержимым которой можно было обеспечить целую дискотеку. В последнюю ночь она пыталась танцевать, лежа в постели, едва ли не подпрыгивала, вскрикивая от наслаждения, не давала спать всему отделению. Говорят, звала моего брата. Я не хочу больше об этом.
Как хочешь.
На чем мы остановились?
Ты отправил письмо Патрику Декерпелу.
Несколько дней я наблюдал за поведением Декерпела. Но не заметил никаких признаков беспокойства. Это было непереносимо. Еще противнее выглядели ухмылки Декерпела и Ваннесте, они разговаривали, склонившись друг к другу, пока я, взобравшись на стремянку, прикреплял к потолку украшения. Стремянка качалась оттого, что я был в ярости и жутко боялся высоты, Рита придерживала ее.
Тогда я написал еще одно письмо, на другой пишущей машинке, на бумаге без содержания древесины, вес 60 грамм.
«Глубокоуважаемая госпожа Феликс. Я желаю остаться неизвестным, поэтому под моим письмом нет подписи. Под вашей крышей и при вашем попустительстве происходят дела, выставляющие ваш магазин в подозрительном свете. Положение в котором я нахожусь заставляет меня обратиться к компетентным властям. Постыдное происшествие не должно оставаться безнаказанным. У меня есть доказательства, которые могут быть в свое время предоставлены. Я не хочу настаивать, но это крайне необходимо.
Человек, которому не безразлично положение в вашем магазине и вы».
Это письмо я сам бросил в почтовый ящик огромного дома семьи Феликс на улице Фангавере. И таким образом, как говорят ученые мужи, запустил машину.
Да, кстати, ты ведь больше не заходил в больницу.
Я же сказал вам, я не мог вынести, что против этого охотника на детей никто ничего не предпринимал. Мне некогда было заниматься Камиллой. У меня была задача: передать этих преступников, Декерпела и Джона, в руки правосудия. Моим способом.
Не нужно так волноваться.
Нет.
Ну-ка, вдохни поглубже, теперь выдохни.
Без четверти двенадцать появилась мамаша Феликс вместе с минеером Эмилем, бухгалтером. В магазине были покупатели и студенты, просматривавшие комиксы. Мамаша Феликс попросила всех выйти из магазина.
– Ноги моей здесь больше не будет, – сказал один из студентов.
Она заперла входную дверь. И уселась на трон своего сына, а мы собрались вокруг. На ней была блузка с узором: бледные подсолнухи. Она говорила грубо, громким голосом, какого нельзя было ожидать от сухонькой старушонки с мышиным личиком, она сказала, что каждый может рассчитывать на справедливое отношение, а она считает, что в это дело замешан каждый, минеер Эмиль, сказала она, был до смерти напуган тем, что нашел в отчетах, и думает, что обнаружил только вершину айсберга.
Я ничего не понял. Как всегда.
Мамаша Феликс старалась не смотреть на своего жирного сына.
– И никакой благодарности! – крикнула она. – Так оно всегда и бывает, если допускаешь посторонних в дело, которое десятки лет успешно развивалось без чьего-либо участия! Я ли вам не платила за переработку по двойному тарифу? Воровство и мошенничество.
И ни слова о девочке Флоре Демоор.
Минеер Феликс уставился в пол. Он переминался с ноги на ногу, словно спортсмен перед прыжком в высоту. Ему было неуютно вне привычного трона, на котором восседала охрипшая от крика мать.
Карлуша сказал, что хотел бы, чтоб ему все объяснили. Что не в порядке в бухгалтерских книгах? И какое он – рабочий склада – имеет к этому отношение?
– Зерна должны быть отделены от плевел, – сказал Ваннесте.
Рита крикнула, что ничего не знает, и в чем все-таки дело?
– Именно для этого мы и собрались, – торжественно произнес минеер Эмиль. – Мошенничества имели место в течение года. Но, как справедливо заметила мефрау Феликс, нам видна только вершина айсберга, большая часть его скрывается в темных глубинах.
Стало ясно, что судебное разбирательство, в котором мефрау Феликс играла роли председателя, общественного обвинителя и истца, ничего общего не имеет с девочкой на поляроидной фотографии. Я даже рта не раскрыл, и они могли подумать, что я виноват, но даже это было лучше, чем наступать на пятна крови.
Какие пятна?
Фигурально выражаясь.
Почему пятна крови?
Это другая история. Я после расскажу.
– Начинайте сначала, – приказала мамаша Феликс.
Минеер Эмиль разинул рот. Ваннесте тихонько пропел Begin the beguine. Минеер Эмиль попытался скроить физиономию обвинителя, но ничего не вышло, лицо оказалось неподходящим. Лицо раба, а не ученого мужа. Он заглянул в бумаги и сказал:
– «Фламандская энциклопедия» в шести томах.
– Если это касается отдела продажи книг, – сказал Ваннесте, – я, пожалуй, пойду домой, жена ждет меня к обеду.
– Мы вот-вот закончим, – сказала мамаша Феликс.
– «Фламандская энциклопедия» в шести томах, переплетена в желтую с черным кожу. Исчезла бесследно, остался только чек заказа. Шесть томов.
– Ты их распаковывал, Братец – сказал Декерпел. Недели три назад.
– Помню. Я их поставил туда.
Я хотел указать, куда, и замер в изумлении. На той полке, где стоят дорогие книги об итальянских палаццо, в углу, куда я никогда не захожу, не стояло ни одного тома энциклопедии. Я подошел к полкам. Там, куда я ставил книги, лежала светло-серая пыль.
– Они проданы, – сказал я.
– Кому? Где чек? – спросил минеер Эмиль.
– Конечно нет, – сказал Декерпел.
– «Собрание сочинений Карела ван де Вустайне», – читал минеер Эмиль по своей записной книжке. Он выглядел смертельно усталым. Оно и понятно, небось мамаша Феликс подняла его с постели среди ночи, после того как прочитала мое письмо, и ему пришлось до рассвета искать следы обманов и краж.
Он хорошо справился со своей задачей – в результате обнаружился целый список пропаж, касавшихся в основном отдела продажи книг. Я вдруг почувствовал жуткий голод и чуть не упал в обморок.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































