Текст книги "Пересуды"
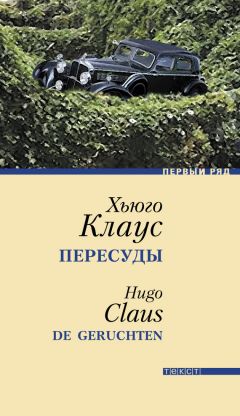
Автор книги: Хьюго Клаус
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 18 страниц)
Е.П.
Его Преподобие Ламантайн взошел на кафедру конца восемнадцатого века, вознесенную над горсткой верных ему прихожан, двумя десятками пустых стульев и группой скаутов – восемью плохо воспитанными патлатыми мальчишками в заднем ряду. Дыхание выплывало изо рта Преподобного туманным облачком.
И вот что он сказал:
– Возлюбленные чада мои, однажды деревенский парнишка пустился в путь, и дорога увела его далеко от родных мест. Отец его и мать два года не видели сына, ибо, совершив ненамеренное убийство, сидел он в узилище. Рядом с ним находился человек или незримая сила, которую люди в ту пору назвали бы ангелом или демоном, и сила эта шептала юноше: «Зачем возвращаться в отчий дом? Ты теперь преступник, в доме отца твоего нет больше для тебя места. Лучше всего тебе повеситься на груше». – «Что ж, пожалуй, я поступлю по твоему совету», – отвечал юноша, закидывая веревку на ветвь груши. Как будто забыл, что самоубийство есть один из самых тяжких смертных грехов, который человек может совершить, ибо жизнь, чудеснейший дар Господень, ты с презрением швыряешь в Лицо Господу Своему. Но в этот миг свершилось чудо: вспомнил он о своей матери. Словно живую, увидел он ее перед собой, и она показалась ему такой огорченной, что он сорвал веревку с дерева и помчался домой. И мчался так быстро, что, добежав до родительского дома, запнулся и упал в навозную кучу. А мать как раз шла с кувшином к колодцу, набрать воды, и увидела она своего сына. А он, увидев ее, вскочил, ибо за два страшных года поседела и побледнела она. И в ужасе закричал он: «Мамуля, что я, дурак, сделал с тобой за эти бессмысленно ушедшие годы?»
«Не говори так», – рыдая, молвила мать, и протянула свои состарившиеся руки, и обняла его. Все было прощено и забыто. «О, мальчик мой, я так счастлива, что ты вернулся, ведь пока тебя не было, умер отец. И сейчас он глядит на нас с облака и хочет одного: чтобы ты взял на себя заботу о нашем хозяйстве. Тебе не надо больше уходить в огромный, опасный мир, ты сможешь трудиться на наших полях, и добьешься процветания здесь, в нашей деревне».
Эта пасторальная проповедь, возлюбленные прихожане, принадлежит старым временам, которые, к сожалению, прошли, и больше не вернутся.
И там, в задних рядах, да, там, где сидят скауты, вот ты, например, – я хотел бы, чтобы ты вынул изо рта жвачку! Потому что новая притча, которую собираюсь я поведать вам, предназначается тебе, и случилась она в новые времена. Слушайте же. Один деревенский юноша вернулся в родительский дом после двухлетнего ареста. Никакая мистическая сила, добрая либо дурная, не помогала ему. Он вошел в дом, увидел свою мать и сказал: «Мама, я болен, болезнь эта в здешних землях неведома, и она смертельно опасна. Но все равно я рад тому, что могу обнять тебя. Приди в мои объятья и ты, сестричка, обними и поцелуй меня, и ты, бабушка, и ты, собачка, которая охраняет дом, и ты, самый младший член рода, сынишка брата моего, младенец в колыбельке», Итак, любезные прихожане, все, не исключая и абсолютно невинного младенца, вдохнули его отравленное дыхание. И через два дня дом их был полон мертвыми и умирающими. А теперь подумайте сами: что должна была сделать мать? Могла ли она разрешить этому монстру распространять вокруг свое смертельное дыхание, несущее уничтожение его стране, миру, планете? Или источник бедствия должно было секретно уничтожить, с соблюдением всех возможных гигиенических предосторожностей, то есть зло должно было быть задушено в зародыше? Я пойду дальше. Не должна ли была мать, принесшая некогда в мир зло в лице своего сына, сама принять решение и своими руками сбросить его во тьму вечную?
Вопрос, следовательно, в том, должен ли человек поступать в соответствии с Посланием к Римлянам, глава двенадцатая, стих двадцать первый: «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром»? Или человек должен решиться на последнее, радикальное, безжалостное, если необходимо, зло и бесчеловечно прикончить того, кто это зло принес?
Скауты зашептались. Остальные прихожане, оборачиваясь, глядели на них. А прыщавый вождь скаутов спросил, можно ли ему кое-что сказать.
– Говори, – разрешил Его Преподобие Ламантайн, с силой сжимая край кафедры. Косточки на его руках побелели.
Вождь заговорил:
– Мы хотим сказать, то есть от имени молодежи, а значит, от имени будущего, что тот человек должен быть казнен сразу после того, как расскажет, откуда взялась эта жуткая болезнь. Никакого сомнения, что она пришла из третьего мира.
– И делом чести для вас будет принять верное решение, – завершил свою речь пастырь. И, то ли почувствовав себя дурно вследствие неожиданного приступа подагры, то ли решив, что пора покинуть кафедру, чтобы присоединиться к своим слушателям внизу и демократично руководить дискуссией о предопределении и свободе воли, Его Преподобие Ламантайн сделал шаг назад, оступился, поскользнувшись на отлично отполированных руками нашей Дианы ступеньках конца восемнадцатого века, упал, ударился головой о край чьего-то надгробия и больше уже не поднялся.
Мы
– Ушел по-английски, не попрощавшись, – заметил нотариус Альбрехт. И все согласились с ним.
Мы сидим в кафе «Ривьера» и уже выслушали возбужденный отчет скаутов об инциденте. Скауты хлещут пиво, чтобы прийти в себя. Черт-бы-все-побрал, возмущенно заявляет их вождь, едва Преподобный принял прекрасное решение обсудить с ним серьезно, как с мужчиной, нынешние проблемы церкви, и – нате вам, такой облом.
Стоило «скорой» с телом отъехать, как несколько женщин торжественно вступили в кафе «Ривьера». Нам удалось уловить из разговора женщин между собой одно: что Преподобный находился в изумительной форме. Теперь-то мы убедились, каким он был мастерским рассказчиком, наш Преподобный. Из ничего, из небылицы сотворил притчу.
– Да-а уж, да-а уж, – говорила Гедвига, жена Ромбойтса. – Меж кусками старых притч, вроде Возвращения Блудного Сына, вплел все, что хотел сказать.
Гедвиге Ромбойтс доверять не стоит. Дочери ее, Юлия и Алиса, еще ничего, но сама она… У нее известные трудности с возрастом, вот в чем дело. Но сколько ни штукатурь морду душистыми тональными кремами, старость и прежде всего мерзкий характер все одно проступят, как трещины на дне высохшей речки. Нет уж, оказаться в одной постели с Гедвигой я ни за что не хотел бы.
Соревнуясь в метании дротиков, мы прислушиваемся к ее беседе с прыщавым вождем скаутов.
Как может человек оказаться таким злонамеренным, вот о чем они говорят.
– Очень странно, – вещает Гедвига Ромбойтс, – что тот, кто никому никогда не причинил зла, должен был уйти таким образом. Это заставляет вспомнить о скоропостижной смерти Его Святейшества Папы. И о моей племяннице, у которой нашли миому.
Скаут говорит, складывая губки бантиком, что вездесущее зло самим фактом своего присутствия, как ни странно, доказывает существование Всемогущего Бога, но даже это не дает нам права обсуждать вопросы, связанные со злом, и пытаться самостоятельно определить, что в нас хорошего так, словно там, в небесах, никого нет.
– Ладно, – откликается Гедвига Ромбойтс, – начинаем сражение с Рене Катрайссе.
– Это еще кто?
– Блудный сын, о котором говорил наш несчастный пастырь. Тот, кто страдает от неведомого недуга и не выздоравливает. Преподобный сказал об этом прямо, совершенно ясно. Тот больной – Рене Катрайссе.
– И где он теперь?
– В лесу. Или у матери.
Тут, по обыкновению невпопад, вступает Лайпе Нитье:
– Я больше не доверяю Богу. Он ловок и умен, и мне кажется, иногда Он является сюда, чтобы помочь нам, но не предупреждает заранее когда.
Вот примерный отчет о том, что мы услыхали в кафе «Ривьера», а название заведению его хозяин, наш бургомистр, придумал в честь своей тогдашней возлюбленной-итальянки, жившей на берегу реки; по-итальянски «река» – riviera, и вышло: кафе «Ривьера».
Алиса Ромбойтс
По коридору. Ноги заледенели. Кровообращение никуда не годится. Тоже мамашин подарок. Надела очки, потому что, глупая телка, думаю, что так мне будет лучше слышно. Родители скандалят с Юлией. Отец возмущенно орет, мать, которая уже прошла свой крестный путь до конца, жалобно бормочет. О, как я ненавижу эту «мученицу».
Юлию не слышно. Почти совсем. Она их просто игнорирует. С тех пор как я себя помню, она первоклассно справляется с ними, непринужденно и грациозно.
– Мы ничего не можем поделать, – дудит отец. – Жители деревни знают, чего хотят, и нам придется согласиться с их решением.
– Воля народа? – презрительно цедит Юлия.
– Это вне нашей компетенции…
– Что за странное слово. Ком-пе-тен-ци-я.
– Над семейством Катрайссе свершилось аутодафе. С ними покончено.
– Гектор, позволь мне…
Жаль, мне их никак не увидеть. Гектор -удрученный, Гедвига-мученица и Юлия-непокорная-дочь; навязшая в зубах комедия «Отцы и дети».
В замочную скважину видно только что-то серое, шерстяное – пуловер мамаши. Оттуда несет холодом. Так и хочется ткнуть спицей.
– Ты хочешь, чтобы и нам ночью разрисовали фасад свастиками?
– Нечего распространяться, Гедвига. Она должна слушаться родителей, вот и все.
– Ты живешь в далеком прошлом, папа.
Моя безупречная сестренка. Объем груди у нее, согласно тесту «Mari Claire», идеальный.
– Прекрати встречаться с Ноэлем, Юлия, хотя бы на время. Выкинь это семейство из головы.
– С кем же ему встречаться?
– Не наше дело. Он уже взрослый.
Моя подленькая мамаша. Никакой Ноэль не взрослый. Я еле сдерживаюсь, чтобы не вломиться к ним.
– Я не говорю, что он плохо воспитан.
– Как это ужасно звучит. Вос-пи-тан.
– Гедвига, дело ведь не в том, хорошо или плохо кто-то воспитан. Дело в том, что всем нам угрожает нечто более опасное, чем нацистская оккупация, а виноват во всех наших страданиях Рене Катрайссе. Научное подтверждение его вины найдено властями во главе с экс-комиссаром Блауте. Пора принимать меры. Зло должно быть вырвано с корнем.
– Никак не пойму, – это мать вступает, – почему бы им не упрятать Рене в каталажку. Здесь, поверь мне, все не так просто.
– Наоборот, все просто: у них нет доказательств, – заявляет Юлия упрямо.
– В любом случае с лавкой им придется распрощаться. – Это уже мой практичный папаша. – И самим выпить все свои запасы.
– Ты бы постыдился, папа, – отзывается Юлия, моя непокорная, капризная сестра, у которой я собираюсь отбить Ноэля, чтобы полюбоваться, как она перенесет этот смертельный удар.
Дольф
Дольф Катрайссе и раньше нечасто посещал «Глухарь», а теперь вообще перестал здесь появляться. Понятно, трудно ему. Мы бы его, Дольфа, приняли в свой круг, пусть заходит иногда выпить пива, так и мы, глядишь, узнаем что-то новенькое. Только он не заходит. У него уже были похожие проблемы, помнишь? После Освобождения, когда он захотел сменить имя[70]70
«Дольф» – результат распространенного после войны обычая вычеркивать первую букву из имени «Адольф».
[Закрыть] и пошел в муниципалитет. Потому что понятно, сколько глупых шуток ему приходилось выслушивать, особенно от молодых болванов, вскидывавших, едва он появлялся, правую руку с криком: Хайль, Дольф! Но в магистрате Хельга, племянница Гедвиги Ромбойтс, со своим лезущим на нос пузом, отказала ему.
– Александр, – сказал Дольф, – мне кажется, это будет хорошей заменой.
А Хельга расхохоталась и сказала:
– Александр, значит: все-мне-ничего-другим.
– Тогда Адемар, в память о моем дядюшке-миссионере, погибшем на Дальнем Востоке.
– Нет, Дольф, у тебя нет уважительной причины. Придется тебе остаться Дольфом. Раньше надо было думать.
– Когда – раньше?
– При рождении, когда тебе давали имя.
– Но моему отцу и в голову бы не пришло, что когда-нибудь мое имя будет носить этот негодяй-немец.
– Австриец, ты хотел сказать? Нет, Дольф, забудь. – И ехидно добавила: – À propos, твоя невеста, Альма, вроде не собирается менять имя?
– Зачем ей?..
– Просто так, – махнула рукой Хельга. – Забудь.
И он забыл. Но легче ему не стало.
Мы уже говорили, что Альмы не оказалось среди тех, кто мог рассчитывать на наследство ее тетушки Ивонны, а оно было немалым: квартира в Синт-Идесбалде, часть улицы с домами для рабочих в Ипре, земельные участки в разных местах, и это только недвижимость, поглядели бы вы на ее коллекцию серебра двадцатых годов, сейчас оно, понятно, не в моде, но стоит немного подождать, и мода вернется. По закону вечного круговорота.
Музыкальный автомат играет. Становится прохладнее. Мы слушаем Sur та vie[71]71
Песенка Шарля Азнавура
[Закрыть] этот французский карлик гнусавит, словно у него полипы, куда мы идем, куда катится наш шансон? Раньше пусть бы кто попробовал, француз или не француз, петь таким придушенным голосом, его бы из любого нормального кафе выкинули к чертям.
– Я в этом не уверен, – говорит Лайпе Нитье.
– В чем не уверен, Нитье?
– В вечном круговороте. Хочу ли я уходить и возвращаться. Лучше просто остаться здесь навсегда.
Мы
«Одним из самых удивительных событий последнего времени следует считать то, что в мирной деревне Алегем, жемчужине фламандской короны, неожиданно для ее обитателей всплыли некие тайны, касающиеся семьи Катрайссе».
Так начиналась статья в «Варегемском курьере». Преемник покойного Хьюберта ван Хоофа оказался весьма самоуверенным господином, ничего хорошего не скажешь и о стиле заметки. Статью переполняли инсинуации, ложь и клевета. Мнение тех, кто хорошо относились к Катрайссе, особенно к Альме, не принималось во внимание. Одна из фраз особенно разозлила нас:
«В коллективной памяти населения Юго-Западной Фландрии свежи еще жуткие, кровавые события времен оккупации, и именно тогда Альма Мунс не отказалась примкнуть к врагам нашей страны; любой из переживших германский нацизм жителей Алегема еще помнит, как она маршировала на парадах, организованных властями, нарядившись в форму германской медсестры».
На самом деле все было не так. Альму действительно видели, потому что наши «сопротивленцы» видели чересчур много, и – да, она носила форму, только не немецкую, жемчужно-серую с белой шапочкой. На ней была форма бельгийского женского движения, принадлежность к которому не считалась преступлением. Но разве сопляк-журналист будет во всем этом разбираться?
Мы, тогдашние юнцы – красивые, умные, горячие, – дрались из-за нее, из-за Альмы. Как несла она себя по главной улице деревни – развернув плечи, покачивая бедрами, одаряя нас горделивыми взглядами! Неужели в последние месяцы существования Тысячелетнего Рейха, перед концом оккупации, когда немцы спешно драпали на свою в хлам разбомбленную родину, не помчались бы и мы за ней, мобилизованной медсестрой?
Ведь правда, побежали бы?
Когда я говорю «мы», понятно, кого я имею в виду. Следи, куда я смотрю. Вон те двое, занятые партией в американский бильярд, седые, облысевшие, притворяющиеся, что ничего не слышат и не понимают. Минеер Коойман и минеер Блабинк, состоявшие во «Фламандской страже»[72]72
«Vlaamse Wacht» – коллаборационистские подразделения, организованные немцами в Бельгии в 1941 году
[Закрыть] и последовавшие за Альмой аж до горящих развалин немецких городов. Она дарила любовь обоим бильярдистам, но не выбрала ни одного, никто не победил, а потом обоих судили, но освободились они в разное время, потому что получили разные сроки, Коойман – двадцать лет, Блабинк – пятнадцать, и оба сочли несправедливым не сам арест, но неодинаковое наказание. И только через несколько лет примирились с этим. Они сражаются здесь каждую пятницу, весь вечер, и едва ли произносят за все время несколько слов. Оба неженаты и давно забыли о том времени, когда сердца их пронзили стрелы Амура. А о том, что на самом деле случилось с Альмой в Германии, не известно ничего, кроме пустых сплетен.
И лучше бы нам вовсе не вскрывать бочонка с воспоминаниями о войне; ничего там не найдешь, кроме вонючего дерьма.
Ноэль
Из телефонной будки я позвонил Юлии и сказал: «Юлия. Это Ноэль. Я жду тебя на берегу Линде, если можешь, около пяти, если нет, в пять тридцать». Она сказала она придет в пять. И я там ждал, и я думал если кто к ней подойдет, я его пристукну и оболью бензином, она пришла туда и мы поехали в Мурбеке на пруд, где мы летом купаемся, когда тепло и без людей, и она говорит:
– У тебя, наверное, много вопросов.
И я сказал:
– Да, где ты была, в Италии или что-то вроде заграницы?
И она говорит:
– В Италии тоже, но больше дома, только теперь я не могу приходить к вам и мне запретили говорить с кем-нибудь из вашей семьи, с тобой я вообще не должна встречаться, иначе меня выгонят из дому.
– В одном не везет, повезет в другом, – говорю, люблю так говорить, всегда подходит, и она хохочет и целует. Она говорит, ее глупые родители меня и ее наказали за что-то, что делал Рене или хотел делать против их воли, но Рене достаточно наказан этими его ранами, разве можем мы добавлять к Божьей каре еще чего-то?
– Смотри, – говорит она, и я смотрю, но там только заросший пруд и далеко рыбак под зонтом. – Смотри, – говорит она, – если бы мы жили как в кино по телеку, мы должны были прыгнуть в воду, держась за руки, и у каждого на шее по жернову.
– Где бы мы достали эти жернова? И сколько они стоят?
– Но раз мы живем не в телеке, я вот что сделаю.
Она встает на колени и расстегивает мне штаны. Я позволяю ей начать.
– Ты ел чеснок, – говорит Юлия, – это чувствуется.
– С ягненком, – говорю я; женщины всегда спрашивают друг у друга рецепты. И я боюсь, Юлия спросит меня, как и что, и какую часть ягненка, жарили или парили, я ее поднимаю.
– Нам нельзя больше видеться, – говорит. – Знаешь, как в нашей деревне все выходит наружу.
– Не все.
– Я не осмелюсь…
– Боишься родителей?
– Не хочу, чтобы меня выгнали на улицу.
Мы стоим друг против друга как обвиняемые в суде. Я протягиваю ей руку, и она сжимает ее.
– Ладно, – говорю, – тогда пока, что ли…
– Жалко, у тебя нет телефона.
– О чем говорить? Все кончилось.
– Если можешь кому-то излить тоску, быстрее проходит, – говорит.
– Говорят. Я буду о тебе думать чаще, чем раньше.
– Не надо. – Она отпускает мою руку.
– Ты идешь прямо к Сержу. Выйдешь за Сержа.
Мне нельзя злиться, но едва я выговорил это имя, кровь бросилась мне в голову.
– Возможно, – говорит.
Мне нельзя это говорить, но я все равно говорю:
– Он не умеет петь.
Она смотрит мимо меня, на пикирующих ласточек.
– Если он женится, ему можно будет тебе впендюривать.
– Молчи.
И я говорю то, что не хочу сказать:
– Я этого не заслужил.
Почему я сказал это? Кто теперь имеет, что он заслужил? Мама, которая кашляет до блевоты, а отец рядом дымит и дымит, ни разу не кашлянув?
Хочу уйти. В лес. Бежать до санатория. Но я сажусь в траву. Она сидит рядом. Тычет указательным пальцем мне в живот.
– Почему тобой все помыкают? – говорит. – Я перенести не могу, что ты позволяешь другим собой распоряжаться.
Женщины вечно все переворачивают, бессовестные, с детства начинают.
– А ты?
– Я подчиняюсь, отдаюсь, когда мне нравится. Но тебе не может это нравиться. Ты не должен подчиняться.
Она улыбается, кажется, ей больно.
– Я отдамся, – говорит. – Тебе. Смотри.
Поднимает платье. На ней сиреневые кружевные трусики, с обеих сторон из-под кружев выглядывают каштановые кудряшки. Она спускает трусики, стаскивает совсем, бросает на траву. Рыбак на другой стороне смотрит на нас.
– Ему нас не видно, – говорит.
– А вдруг у него бинокль?
Она падает на траву, задирает платье до подмышек, снимает белый-пребелый лифчик. Кладет на траву, стаскивает платье через голову. Вытягивается. Мы уже так делали раньше, я помню, я трогаю губами соски, глажу бедра, но ей хочется другого, сбрасывает мою руку, встает в траве на коленки, опирается на локти. Трусики засовывает себе меж ног, внутрь.
– Иди сюда, – говорит.
Я придвигаюсь, она берет, и тянет, и вкладывает между ягодиц.
– Никому никогда не позволяла этого, – говорит. – Только тебе, мой Ноэль.
Лицом утыкается в платье. Руки отводит назад, раздвигает пошире.
– Сюда, – говорит, голос заглушен платьем. – Сюда и больше никуда.
Я не должен подчиняться. Я жду. Правая рука Юлии нащупывает, он напрягается, она подталкивает внутрь.
– Не перепутай дырочки, – говорит.
Я нажимаю в серединку «звездочки». Никак не могу протолкнуться, никак. Юлия вздыхает. Оттого что она вздыхает, оттого что рыбак продолжает на нас пялиться, оттого что я чувствую себя неловким мудаком, оттого что на этой белоснежной плоти уже видны первые признаки целлюлита, о котором болтают дамы в парикмахерской, и оттого, что я хочу сказать Юлии, что эту «апельсиновую корку» можно разгладить, я прорываюсь внутрь, испытывая сладость победы, меж белых полусфер, которые Юлия развела для меня руками.
– Да, – выдыхает она и делает резкое движение мне навстречу упираясь мне в живот, и я начинаю считать ее «да» и сбиваюсь со счета, но легонько покусываю зубами ее шею, но ласкаю то, что прячется в каштановых кудряшках, и наконец падаю без сил ей на спину.
– Лежи, – приказывает, точно ее мамаша, закрываю глаза. Она поет «Petit Papa Noël»[73]73
Французская рождественская песенка (имя Ноэля по-французски и означает «Рождество»).
[Закрыть], прямо в ухо. – Лежи, – говорит. – Это наш последний раз. Молчи!
Я подчиняюсь. Я счастлив, и я знаю это.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































