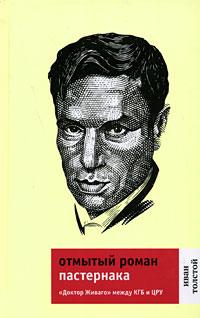
Автор книги: Иван Толстой
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 28 страниц)
И приходил к выводу:
«…дифференцируя совокупность всех мыслей, всех чувствований автора, рецензент, помимо своей воли, размельчил бы, распылил бы стройный, гармоничный монолит, созданный писателем – прозаиком высшего уровня, быть может, тем, кто в дальнейшем будет причислен к классикам нашей эпохи и, во всяком случае, тем мощным, высоким художником слова и мысли, которые в период жесточайшего безвременья, при всестороннем напоре на них ждановщины, хрущевщины, ежовщины и прочих, созданных троглодитами мысли доктрин, сумели не только устоять, но противопоставить себя их напору, выразить в слове свое противостояние, свой протест».
Одним из первых читателей «Живаго» был профессор университета Беркли Глеб Петрович Струве. Во время своего путешествия по Европе летом 1957 года он в Лондоне на короткое время получил машинопись романа по-русски (вероятно, от оксфордских сестер Пастернака), но до выхода книги из печати писать о ней, разумеется, не мог. 9 марта 1958-го в «Новом русском слове» он отмечал в своей нерегулярной рубрике «Дневник читателя»:
«Кьяромонте считает роман поистине историческим событием. По его мнению, со времени „Войны и мира“ не было романа, который бы так широко и глубоко охватил и захватил русскую жизнь. Своим романом, по словам Кьяромонте, Пастернак показал, что „сознание правды, любовь к жизни, даже чувство надежды, наконец, – так же твердо и неколебимо, как во времена Пушкина – вера в литературное общение, остались нетронутыми в душе русского писателя“.
Не вдаваясь сейчас в подробности (в силу некоторых обстоятельств мне пришлось читать роман слишком наспех, а он заслуживает внимательного и повторного чтения), я бы сказал, что это одно из самых замечательных произведений русской литературы за последние 50—60 лет. В своей свободной глубине оно во всяком случае превосходит все, что дала советская литература».
И далее Струве впервые печатно предлагает отметить заслуги писателя:
«Я бы прибавил, что появление „Доктора Живаго“ в этом году на ряде европейских языков дает полное основание выдвинуть кандидатуру Пастернака на Нобелевскую премию по литературе. Присуждение этой премии Шведской Академией именно ему было бы актом символичным – достойным увенчанием подвига творческой свободы. Что Пастернак премии заслуживает, нет никакого сомнения: один из бесспорнейших современных поэтов оказался и большим прозаиком, автором не только интересных рассказов, но и замечательного романа, прекрасно написанного, сложного в своем контрапункте и, вместе с тем, и в каком-то смысле по-толстовски простого, свободного от всяких вычур – романа, продолжающего во многих отношениях традиции большой русской литературы».
Кажется, что Нобелевский комитет именно эти слова и взял для своей официальной формулировки пастернаковских заслуг, хотя, конечно, Альбер Камю и Андре Мальро были ходатаями куда большего веса. Глеб Струве, как подчеркнул недавно Лазарь Флейшман, высказался в пользу Нобелевской премии не после, а раньше западных обозревателей: редакционная статья американского еженедельника «Nation» вышла несколькими днями позже (Флейшман. Стэнфорд). В словах Глеба Струве были, впрочем, и опасные для судьбы Бориса Леонидовича тезисы. Ничем не стесненный калифорнийский рецензент переделкинского затворника не пожалел:
«Могут быть и есть произведения объективно контрреволюционные. Таким произведением, что бы ни говорил сам Пастернак, является его «Доктор Живаго». Верно, что это роман не политический, хотя он и касается «политических» тем. Но в нем заложена большая духовная взрывчатая сила. И не сказать этого мы не можем. В одной своей английской статье я недавно высказал мнение, что для того, чтобы «сохранить лицо», – а они сейчас очень об этом заботятся, – коммунисты, может быть, и выпустят роман Пастернака по-русски с тем, чтобы потом умело контролировать его распространение. Но, поскольку он дойдет до советского читателя (а тем более, если он дойдет до него тайно), он не может не сыграть роли контрреволюционного фермента. Намерение Пастернака и наше залезание ему в душу тут ни при чем».
На советском политическом языке это называлось: Пастернак льет воду на вражескую мельницу – вот и «белогвардейский критик» Струве подтверждает это.
Для перевода на французский язык машинопись разделили на четыре части. Луи Мартинезу досталась первая четверть, Мишелю Окутюрье – вторая, Элен получила третью, Жаклин – последнюю.
Окутюрье преподавал тогда русский язык в Тулузе, там и сел за перевод, продолжая работу в деревне у родителей около Ангулема в Юго-Западной Франции. Там же в Тулузе преподавала Пельтье. Мартинез и Жаклин еще задерживались в Париже.
Вчетвером встречались в великолепном особняке у Жаклин напротив Эйфелевой башни, вместе обсуждали перевод, из Медона приезжал дядя Коля, как его все звали, – Николай Иванович Гоголев, русский эмигрант военной поры, образованный человек, хорошо знавший и любивший литературу. Он помогал переводчикам в понимании некоторых недоступных иностранцам реалий русской жизни. Сорок послевоенных лет дядя Коля Гоголев преподавал русский язык в медонской школе Сен-Жорж, у иезуитов, под Парижем.
Окончив свою порцию, Луи Мартинез показал работу Альберу Камю, с семьей жены которого он был хорошо знаком еще по Алжиру. В своем дневнике Мартинез тогда же записал: «9-го февраля пошел к Камю и дал ему прочитать первую часть».
«Меня поразило его мнение о „Живаго“: он стал говорить, что терять надежду на советскую литературу никак нельзя, потому что, видите, что может вдруг появиться, несмотря на столько лет тоталитарной власти. На что я возразил ему, что Пастернак как человек и как поэт вырос задолго до революции и что он человек другого времени, дореволюционного.
Но Камю возражал, что такой человек рано или поздно все равно появится – родится при советской власти и будет свидетелем и пророком истины. Это меня очень поразило, потому что у меня не было никаких иллюзий, я думал, что режим может продолжаться еще столетиями» (Мартинез).
Прочитав первую часть книги, Камю (при поддержке министра культуры Андре Мальро) предложил кандидатуру Пастернака Нобелевскому комитету, а 9 июня в письме в Переделкино писал, что в пастернаковском лице он нашел ту Россию, которая его питает и дает ему силы. Перечисляя чтимые имена русских писателей в сборнике «Шведские речи», также посланном в Переделкино с дарственной надписью, Камю называл и «великого Пастернака». В ответ Борис Леонидович послал ему открытку, а в письме парижскому музыковеду Петру Сувчинскому, благодаря его за знакомство с французским писателем, писал, что Камю стал для него «сердечным приобретением».
Участники совместного французского перевода хотели ездить в Советский Союз, посещать тамошние библиотеки и справедливо полагали, что появление их имен во французском издании может создать неприятности и привести к отказу в визах. В результате роман по-французски вышел без имен, однако это мало чему помогло: за исключением Мишеля Окутюрье виз все равно никому не дали.
Так продолжалось до 70-х годов, а имена впервые появились на титуле только в 1990-м.
Молодые переводчики были столь счастливы участвовать в славном деле, что и не рассчитывали на солидные гонорары. Брис Парэн, редактор галлимаровского издательства, мялся и сетовал, что книга длинная, не в духе современного романа, что издатель не очень горячо поддерживает идею издания. По мнению Луи Мартинеза, разговоры эти были лицемерными, поскольку издатели «уже знали наперед, что успех будет огромным, и поэтому нам платили мизерные деньги за эту работу» (Мартинез).
Каждый получил по двести тысяч франков старыми (две тысячи новыми, что соответствует 400 долларам, скажем, 1990 года), тогда как Борис Леонидович оказался куда щедрей издателя: распорядился из своих гонораров выплатить каждому по два миллиона франков, на что, вспоминает Мартинез, «я купил свой первый автомобиль».
Успех книги в Европе был огромный. Евгений Пастернак описывает угар тех дней:
«После публикаций нескольких журналистов, в том числе Жана Невселя (Дмитрия Вячеславовича Иванова), корреспондента газеты „France Soir“, которые посетили Пастернака в Переделкине летом 1958 года, письма пошли неудержимым потоком, по прямому короткому адресу: „Переделкино под Москвой. Борису Пастернаку“. Посылались книги, вырезки из газет и журналов, бандероли с подарками, возобновились оборванные в 20-х годах знакомства с уехавшими в эмиграцию писателем Борисом Зайцевым, философом Федором Степуном, музыковедом Петром Сувчинским, французским философом Брисом Пареном. После выхода в свет „Доктора Живаго“ и Автобиографического очерка летом 1958 года во Франции, осенью в Англии, Америке и Германии Пастернак стал получать восторженные письма от незнакомых людей, многочисленных читателей романа во всем мире» (ЕБП. Биография, с. 699).
Борис Леонидович и сам воспринимал эти дни как лучшее время в жизни. 8 июля 1958 года он писал Жаклин де Пруайяр:
«Появление романа во Франции, полученные оттуда письма, главным образом, личные, головокружительные, захватывающие, – все это само по себе целый роман, отдельная жизнь, в которую можно влюбиться. Быть так далеко от всего этого, зависеть от медлительности и капризов почты, трудности иностранных языков!»
Сын поэта:
«Пастернак, на десятилетия отлученный от читателя, с радостью отзывался на эти проявления симпатии и интереса, отвечая по-французски, по-английски и по-немецки на каждое полученное письмо. Это отнимало много сил и времени, приходилось пользоваться словарем, так как он чувствовал себя неуверенно в чужом языке, лишенный практики общения» (ЕБП. Биография, с. 700).
Сам поэт:
«Я получил письма от Рене Шара, дю Буше, Анри Мишо. Этот разговор с людьми разных течений во Франции, Западной Германии и т. д. много для меня значит, но я сейчас настолько беспомощен и слаб, что не могу воспользоваться представившимися возможностями. Трагедия и страдания, из которых возник Доктор, сделали меня на время великим. Теперь, когда наступила передышка, это кончилось» (Письмо Жаклин де Пруайяр, 9 июня 1958).
Продолжая давить на Галлимара, ЦК стал организовывать французское общественное мнение с помощью верных режиму друзей. Луи Арагону, главному редактору коммунистического журнала «Les Lettres Françaises» был послан отзыв редколлегии «Нового мира» – для подготовки соответствующей атаки.
Крайне левые и коммунисты, конечно, ругали книгу. У Арагона и Эльзы Триоле было трудное положение. Французская интеллигенция горячо сочувствовала всем проявлениям свободного духа после 1956 года – «Новому миру», позднее – Синявскому и Солженицыну. Арагон с Триоле как представители французской интеллигенции в компартии не могли не разделять эти взгляды. С другой стороны – они были скованы коммунистической дисциплиной и необходимостью лавировать в правильном направлении.
Эльза Триоле десятилетиями была тесно связана с либеральной частью советской интеллигенции, той самой, которая теперь проявляла недовольство Пастернаком. С ее точки зрения, он нарушил некое круговое согласие терпеть и молчать. С другой стороны, как человек западный, она имела возможность роман прочитать и обсуждать его с французскими интеллигентами, которые Пастернака поддерживали. Так что, начиная со смерти Сталина, с начавшегося идеологического брожения, положение западных «друзей Советского Союза» было очень двойственным.
Поэтому арагоновский еженедельник занял в отношении «Живаго» особую позицию: замолчать книгу – но не по идеологическим причинам, а по эстетическим. Вскоре после появления французского перевода романа Эльза Триоле в статье «Маяковский и Пастернак» свой неинтерес к скандальной книге обосновывала такой демагогией:
«Сначала в Италии, потом во Франции появился роман советского писателя Бориса Пастернака. Появление романа сопровождается большим антисоветским и рекламным шумом, поскольку книга не выходила в Советском Союзе. До настоящего времени известность Бориса Пастернака за пределами его родной страны основывалась только на репутации поэта, угнетаемого на своей родине, ибо произведения его за границей известны не были и только сейчас читатель сможет составить о нем собственное мнение.
Я не читала роман по-русски и не собираюсь его читать во французском переводе с моего родного языка, но из того, что я слышала, похоже, что публикация навредит автору, а не его родине… Выбор произведения, основанного на скандале, неудачен. А перевод просто плох. Впрочем, что касается перевода, это меня не удивляет. Проза Пастернака вообще одна из самых сложных, как это часто бывает с прозой поэта. Она-то как раз восхитительна – с исключительно богатым словарем, уходящим в глубины языка, сотканная из аллюзий и иллюзий звучания, из слоистых наложений, из смысловой нагрузки слов, брошенных в гущу повествования, отчего разражаются те потопы и ливни, секретом которых Пастернак столь гениально обладал. «Световой ливень» – справедливо говаривала поэтесса Марина Цветаева» (Триоле, с. 1 и 9).
После такой похвалы Триоле перешла к цели своей статьи: моральному разоблачению Пастернака. Статья недаром называлась «Маяковский и Пастернак». Триоле обвинила его в предательстве памяти прежнего друга и союзника, она сравнивала пастернаковские высказывания о Маяковском довоенных лет и то, что Пастернак писал в новейшей «Автобиографии», готовившейся к изданию по-французски там же в «Галлимаре», где и «Живаго».
Не станем копаться в измышлениях лживого и подневольного человека: удел Эльзы Триоле жалок. Даже ее сестра Лиля Брик, пользовавшаяся в свое время еще большим расположением карательных органов, нежели Эльза, и та, в пору наивысшей травли, нашла в себе силы сказать позвонившему Пастернаку с недоумением: «Боря, дорогой мой, что же это происходит?» (Ивинская, с. 313; Емельянова, с. 117).
«Les Lettres Françaises» продолжил свою линию – обвинения в предательстве – и после объявления о Нобелевской награде. Анна Ахматова записала в «Листках из дневника»: «Какая-то Триолешка даже осмелилась написать (конечно, в пастернаковские дни), что Борис погубил Осипа. Мы с Надей считаем, что Пастернак вел себя на крепкую четверку».
Пройдет, однако, еще немного лет, и Арагон с Триоле поднимут свои голоса в защиту Синявского с Даниэлем, затем против советского вторжения в Прагу, к ним присоединится еще один редактор журнала Пьер Дэкс (сам в 40-е годы марионетка в руках Лубянки), женившийся на дочери ненавистного Кремлю Артура Лондона, – и московская подписка на «Леттр Франсэз» неожиданно прекратится, а с ней и основные средства для существования журнала.
В августе выпустил английское издание романа британец Коллинз, не поверивший московским угрозам и подметным письмам, а вскоре в том же переводе (Макса Хэйуорда и Мани Харари) было напечатано американское – в издательстве Pantheon Books. Английским переводом (а также и самим произведением с его «искусственными метелями») оказался крайне недоволен Владимир Набоков, которому в конце лета или начале осени (во всяком случае, до Нобелевской премии) была заказана рецензия на книгу для американского журнала «The Reporter». О набоковских откликах мы расскажем в девятой главе.
Как это ни странно, Мишелю Окутюрье удалось еще раз (перед наступлением долгого запрета) приехать в Советский Союз – в августе 1958 года, для участия в Четвертом Международном конгрессе славистов, проходившем в Москве с 1 по 10 сентября. В одном из писем, – вспоминает Окутюрье, – Пастернак пишет, что я был у него в гостях на даче, и вид у меня был какой-то удрученный, как будто я не хотел ему что-то говорить: вероятно, французский перевод был плохо встречен. «Ничего такого не было, я просто робел» (Окутюрье).
Пастернаку к тому времени уже привезли французское издание книги. Он пригласил своего переводчика и на следующий день, когда к нему приехали обедать Роман Якобсон с женой. «Так что я участвовал в большом обеде в Переделкино, где обслуживала, но молчала Зинаида Николаевна» (Окутюрье).
Имя Романа Якобсона уже тогда было известно каждому образованному человеку, а Пастернак знал своего гостя и лично, и как давнего исследователя его поэзии. Правда, о перипетиях судьбы ученого у собравшихся были весьма смутные представления. А перипетии эти весьма интересно подсвечивают позицию яростного противника выхода «Доктора Живаго» в «Мутоне».
Действующие лица: Роман Якобсон
Языковед, литературовед, переводчик и редактор Роман Осипович Якобсон (1896—1982) внес значительный вклад в самые разные научные дисциплины: акцентологию, фонологию, поэтику, стиховедение, фольклористику и средневековую славянскую письменность. Его работы повлияли на развитие нейролингвистики. Он писал о Блоке, Маяковском, Пастернаке, Пушкине, Радищеве, Хлебникове, с гимназических лет собирал московский фольклор, интересовался синтаксическими глоссолалиями XVIII века и магическими народными заклинаниями. В молодые годы сблизился в Москве с Казимиром Малевичем, Павлом Филоновым и Велимиром Хлебниковым, также интересовавшимися культурными корнями. На примере Стефана Маллармэ изучал соотношения звуков и значений.
В 1915 году Якобсон возглавил Московский лингвистический кружок, в котором принимали участие Владимир Маяковский, Осип Мандельштам, Борис Пастернак. Был активным членом ОПОЯЗа. Окончил в 1918 году Московский университет, где успел проработать в течение двух лет.
Писал футуристические стихи под псевдонимом Алягров.
С самого начала Якобсон симпатизировал новой власти, дружил с видными большевиками, не брезговал чекистскими связями Осипа Брика, льнул к сестрам Каган (Эльзе Триоле и Лиле Брик), выполнявшим деликатные поручения Лубянки.
В 1920 году как переводчик и пресс-атташе в составе советского представительства Красного креста был отправлен в Прагу, где участвовал в репатриации русских военнопленных, задержавшихся в Европе после Первой мировой войны.
В 1926 году стал одним из основателей знаменитого Пражского лингвистического кружка (Петр Богатырев, Николай Трубецкой и др.) и его вице-президентом. Дружил со многими чешскими поэтами и художниками-авангардистами. Опубликовал книгу «О чешском стихе преимущественно в сопоставлении с русским» (1923).
По данным историка художественного авангарда Томаша Гланца,
«с самого начала пребывания Якобсона в Праге в архивных документах возникает подозрение, что он работает советским агентом. Представитель чехословацкой миссии в Москве Вацлав Гирса уже в 1922 г. не сомневался, что студент философского факультета „Якобсон – доносчик советской миссии, шпион и провокатор“, доказывая свое предположение сведениями, полученными от русских семей, осевших в Праге. По мнению Гирсы, „нет сомнений, что Якобсон – агент ГПУ и что его задачей является разведывательная деятельность среди русских эмигрантов в ЧСР“.
За советской миссией, – продолжает Т. Гланц, – в пражской гостинице «Империал», естественно, следила чешская разведка. В 1922 г. неосторожного агента Бёма Якобсон запер в номере гостиницы, принадлежавшем миссии. Было открыто судебное дело (против Якобсона), которое прекратил лишь премьер-министр чехословацкого правительства и одновременно министр иностранных дел, будущий президент ЧСР Эдвард Бенеш» (Гланц, с. 359).
Сохранился документ о телефонном разговоре Бенеша с высокопоставленным чиновником МВД, где обсуждался так и не решенный вопрос: обладает ли Якобсон правом экстерриториальности или нет.
На этот правильно поставленный вопрос, – остроумно отмечает Томаш Гланц, – нельзя было дать лишь юридический ответ:
«У Якобсона была экстерриториальность высшего, априорного, методологического порядка, предоставляющая ему, в отличие от иммунитета депутатов, не только неподсудность за свои высказывания, но и особый статус, допускающий сохранение сущностной позиции (лингвиста-филолога, открытого к пониманию очищенного и обнаженного текста) при одновременном проникновении в чужое, несобственное пространство – государства, политической системы, или – в связи с анализом языка и литературы – в „не-тексте“ смерти, в области идеологии, психопатологии.
Таким образом, – заключает Т. Гланц, – нет противоречий между одновременной службой Якобсона как культурной чехословацкой политике, так и советской политической культуре: по секретным документам мы знаем, что в 1926 г. Якобсон был посредником между чешскими властями и московским правительством, заставляющим Прагу под угрозой санкций немедленно признать государство СССР. Документ МИД ЧСР говорит о том, что «Советы пользуются Якобсоном для того, чтобы неофициально сообщать министерству то, что Советы хотят передать нашему правительству»» (там же, с. 359—360).
В 1929 году Якобсон возглавил Восточноевропейский отдел берлинского журнала «Slavische Rundschau», в 1930-м защитил диссертацию в Немецком университете Праги.
Участвовал в многочисленных международных конгрессах славистов (Гаага, Амстердам, Рим, Копенгаген, Гент).
В 1933 году получил преподавательское место в Брно в Университете Масарика, где работал до 1938 года.
На протяжении 20—30-х годов (а потом и в послевоенное время) у советской цензуры к Якобсону было двойственное отношение. Работы его выйти в СССР не могли (да он, по всей видимости, и не предлагал их), но его имя в печати не было табуировано. Ни одна якобсоновская книга никогда не была в списках запрещенных. Владимир Маяковский десятилетиями в переиздаваемых стихах предлагал «поболтать о Ромке Якобсоне», Виктор Шкловский упоминал его в своих книгах, в «Третьей фабрике» посвятил ему отдельную ностальгическую главку. Ничего подобного в отношении других заграничных русских представить себе было нельзя. Да и что было не дозволять Якобсона, если даже в специальных лингвистических работах он подавал «революционный эксперимент» в России в самом выигрышном свете и аргументировал равное уважение к Достоевскому и советской власти перед западной интеллигенцией.
Живя и укореняясь в Чехословакии (в 1935 он, разведясь с Софьей Фельдман, женился на чешке Сватаве Пирковой), Якобсон для советских властей оставался персоной вполне грата: перспектива его возвращения и работы оставалась достаточно реальной. Ждали Якобсона на родине и друзья юности – Шкловский и Тынянов, мечтавшие возродить ОПОЯЗ под новым именем и реализовать программу «Проблемы изучения языка и литературы».
Надеждам этим, по известным политическим причинам, осуществиться было не суждено. Серьезную точку в общении с Россией поставила и смерть Маяковского, на которую Якобсон откликнулся полемической статьей «О поколении, растратившем своих поэтов». Борис Эйхенбаум в письме Виктору Шкловскому отмечал:
«От Романа Якобсона получил оттиск его статьи о Маяковском. Если перевести на русский язык, то получится: „О поколении, которое разбазарило своих поэтов“» (Галушкин, с. 107).
Характерно, что эта статья Якобсона, напечатанная в берлинском сборнике 1931 года, соседствовала с эссе князя Свя-тополка-Мирского, уже решившего возвращаться в СССР.
В 1937 году Якобсон принял чехословацкое гражданство.
«Вплоть до отъезда из протектората Чехия и Моравия в апреле 1939 г., – отмечает Т. Гланц, – образ Якобсона оставался противоречивым: русский филолог, чешский патриот, сотрудник III Интернационала (так называл его президент чешской полиции)» (Гланц, с. 360).
При вступлении гитлеровцев в Чехословакию Якобсон из Брно бежал через Прагу в Данию, откуда после полугода перебрался в Осло, где получил норвежское гражданство (1940), затем в Швецию и, наконец, в Нью-Йорк (1941).
«Война, – по словам Т. Гланца, – способствует активизации работы агентов-разведчиков. Якобсон стал главным скандинавским информатором чехословацкого правительства в изгнании (в Лондоне) и одновременно источником информации о ситуации в СССР. В 1939 г. Якобсон сообщает парижскому секретарю начальника чехословацкой разведки о своей встрече с „высокопоставленным и одним из наиболее информированных советских деятелей“. Охваченный ужасом, Якобсон подробно излагает сведения о терроре конца 30-х годов, статистические данные об арестах и концлагерях, свидетельства о „фашизации режима“ и его сотрудничестве с национал-социалистической Германией»» (там же).
В Соединенных Штатах Якобсон попадает в Вольную Школу высших исследований (1942—1946), преподает славянские языки и литературу в Колумбийском (1943—1949), Гарвардском (1949—1967) университетах и Массачусетском Технологическом институте (1957—1965). По его собственным словам, в Гарварде он учит других, а в МТИ учится сам. В 1967 году он выходит на пенсию, но активно работает по всему миру в качестве приглашенного профессора.
В 1947 году его награждают во Франции Орденом Почетного легиона.
Работа в Колумбийском университете продолжалась бы для Романа Осиповича, вероятно, гораздо дольше, если бы в 1948 году не разразился политический скандал, затронувший недавнего чехословацкого иммигранта. (При изложении этой истории мы будем опираться на выступление профессора Стивена Руди на Международном конгрессе в честь Якобсона.)
Летом 1948 года из Колумбийского университета с большим скандалом уволился преподаватель польского языка Артур Колман. Причиной ухода был протест Колмана против того, что польское послевоенное правительство основало в университете почетную профессорскую должность (Mickiewicz Chair), которая была предоставлена теоретику литературы Манфреду Кридлу. Колман обвинял Колумбийский университет в получении грязных денег с целью коммунистической пропаганды и в прикрывании сочувствующих коммунизму.
Один из членов совета попечителей Колумбийского университета Артур Хейс Салзбергер поставил об этом в известность новоиспеченного ректора университета генерала Дуайта Эйзенхауэра (будущего президента США). Эйзенхауэр отвечал Салзбергеру дипломатично:
«Я достаточно хорошо изучил инцидент, чтобы понять, что мы находимся в середине дискуссии, источники которой невозможно проследить, но я уверен, что они не состоят исключительно в поддержке демократии, с одной стороны, или в пропаганде коммунистической идеологии, с другой» (Руди, с. 193).
Очень точно сказано: ни в том ни в другом исключительно. Но, скорее, в третьем: во внедрении агента влияния. Манфреду Кридлу не нужно было заниматься с кафедры коммунистической агитацией, задача агента влияния, как правило, тоньше, деликатней, растленней: способствовать созданию определенного климата, в котором нужные решения будут проводиться чужими руками, а неугодные соперники будут устраняться путем полуприкрытых интриг.
Поддерживая обвинение Колмана против креатуры польского коммунистического правительства, некий Зигмунт Слушка, расширяя круг подозреваемых, сигнализировал Салзбергеру:
«Колумбийский университет уже получает 15 тысяч долларов в год от чехословацкого коммунистического правительства Готвальда на оплату должности, учреждению которой способствовали Симмонс и Якобсон» (там же, с. 193—194).
Реагируя на это обвинение, Эйзенхауэр приводил, с его точки зрения, сильный контрдовод:
«Место профессора чехословацкой литературы в Колумбийском университете основало правительство Бенеша – Масарика. Оба этих человека были моими друзьями, и я обсуждал с ними мировую проблему противостояния коммунизма и демократии. Как можно обвинять этих людей в попытке распространения коммунизма – выше моего понимания. Для меня обвинение ставит под сомнение достоверность всего документа, представленного господином Слушкой» (там же, с. 194).
Аргумент «выше моего понимания» все-таки не самый убедительный. Во-первых, президент Эдвард Бенеш прошел долгий и драматический путь в политике, и его позиции 1945 года (когда он встречался в Европе с Эйзенхауэром) заметно отличались от позиций даже 1946-го, когда к власти в Чехословакии законным путем пришли коммунисты, не говоря уже о 1948 годе, когда, под давлением советского шантажа (расписка 1938 года в получении от Москвы 10 тысяч долларов для побега из Праги в Лондон перед лицом наступающих гитлеровцев), Бенеш отказался от президентства и отправился доживать свои дни на собственную загородную виллу. Никаких документов о тайном сотрудничестве Бенеша со Сталиным, по-видимости, не существует, как и самого тайного сотрудничества. Речь идет об объективной политической линии государственного деятеля. Бенеш очень ориентировался на Москву, как мог ограничивал помощь русским эмигрантам в Праге, пользовался благосклонностью Сталина, легко пошел на отдачу Советскому Союзу Западной Украины (тех земель, что в Чехословакии назывались Подкарпатской Русью) и не случайно заслужил у зловещего Павла Судоплатова наименование «агент влияния». Не забудем также, что консультантом и информатором чехословацкого правительства в лондонском изгнании был в годы войны драгоценный для Кремля Роман Якобсон. Все это было для ректора Колумбийского университета и будущего американского президента «выше понимания».
Во-вторых, детали, приводимые журналистом Дрю Пирсоном в газете Washington Post (30 ноября 1953), позволяют оценить эйзенхауэровские слова как нежелание вникать в вопрос, у которого нет достоверного ответа. Для нас же, полвека спустя, эти детали помогают правильнее понять картину:
«Все началось с принятия 7 500 долларов в год на содержание профессорской должности по чехословацкой культуре (Thomas G. Masaryk Chair of Czechoslovak Studies). В тот момент Чехословакия управлялась президентом Бенешем и не считалась коммунистической страной (…) Однако грант был не только возобновлен, но и расширен до 22 500 долларов в год коммунистическим диктатором Клементом Готвальдом (…)» (там же, с. 195).
Чтобы представить себе масштаб поддержки, укажем, что общий бюджет славянского отделения составлял 60 тысяч в год, то есть один профессор из ЧССР стоил больше трети бюджета.
«В придачу, – продолжал Дрю Пирсон, – профессор Эрнест Симмонс предложил польскому послу Виневичу выделить 10 000 долларов в год на преподавание польского языка. Тогдашняя Польша полностью находилась под властью коммунистов. Польский посол дал согласие при условии, что он сам выберет профессора, который будет преподавать в Колумбийском университете. (…) Только очень наивный человек мог полагать, что страны, находящиеся под властью Советов, могут поддерживать эти посты с какой-либо иной целью, кроме пропаганды своей идеологии» (там же).
Приводя эти и многие другие цитаты в своем выступлении, Стивен Руди придерживается при этом ироничного тона: вот, мол, какими глупостями занималась Америка времен маккартизма. История холодной войны, однако, не дает оснований для легкомысленного отмахивания от подобных сюжетов, и фраза С. Руди – «Вся эта история раздражала Якобсона до такой степени, что он в 1949 г. ушел из Колумбийского университета, приняв предложение Гарвардского университета на должность профессора по общей лингвистике и по славистике» (Руди, там же) – дает, как нам представляется, действиям Якобсона неверную интерпретацию.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































