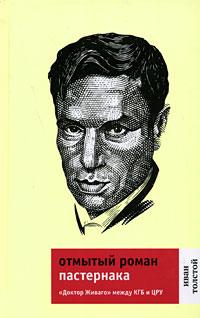
Автор книги: Иван Толстой
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 28 страниц)
Но появление 11 февраля стихотворения «Нобелевская премия» в лондонском таблоиде «Daily Mail» окончательно вывела власти из терпения.
Я пропал, как зверь в загоне.
Где-то люди, воля, свет,
А за мною шум погони,
Мне наружу ходу нет…
Темный лес и берег пруда,
Ели сваленной бревно.
Путь отрезан отовсюду.
Будь что будет, все равно.
Что же сделал я за пакость,
Я убийца и злодей?
Я весь мир заставил плакать
Над красой земли моей.
Но и так, почти у гроба,
Верю я, придет пора —
Силу подлости и злобы
Одолеет дух добра.
Текст, переданный постоянному парижскому корреспонденту лондонской газеты Энтони Брауну, был не единственным вариантом этого стихотворения. Поначалу тема политических гонений увязывалась в «Нобелевской премии» с личной драмой – разрывом с Ивинской. В январе 1959 года, решив уйти от семьи, Пастернак объявил об этом своей возлюбленной. Они решили скрыться в Тарусе у Константина Паустовского. Побег должен был немного напоминать толстовский ночной уход из Ясной Поляны. Но 20 января Борис Леонидович пришел в домик Ивинской бледным, внешне потерянным, но с внутренней твердостью: он никуда не поедет. Семью обездоливать нельзя. Ивинская закатила привычную истерику. В ней взыграл, по ее словам,
«дух женского протеста. (…) Я упрекнула его в том, что он сохраняет свое спокойствие за счет моего. (…) Он беспомощно повторял, что я сейчас, конечно, могу его бросить, потому что он отверженный. Я назвала его позером; он побледнел и, тихо повторяя, что я все скоро пойму, вышел. Я не удерживала его» (Ивинская, с. 318).
Объявив, что не желает иметь с Пастернаком ничего общего, Ивинская отправилась в Москву. Нет причин сомневаться в правдивости ее описания, но вот историю появления «Нобелевской премии» она излагает неверно, хотя стихотворение создано именно в эти дни. По словам Ивинской, на следующий день после их разрыва Борис Леонидович со стихотворением в руках пошел в измалковскую халупу.
«Я написал это стихотворение, Лелюша, и пошел к тебе, – вспоминала Ольга Всеволодовна его слова, – мне не верилось, что ты уехала. И тут мне встретился иностранный корреспондент. Шел за мною и спрашивал, не хочу ли я что-либо ему сказать? Я рассказал, что только что потерял любимого человека, и показал ему стихотворение, которое нес тебе… » (там же, с. 319).
Кто тут что приукрасил – сам Пастернак, чтобы сделать Ивинской приятное, или она, чтобы задним числом поднять свое значение для всей истории, но Энтони Брауну достался вовсе не тот вариант стихотворения, на котором Ивинская настаивает. В ее изложении «Нобелевская премия» вместо последней строфы заканчивается двумя другими:
Все тесней кольцо облавы.
И другому я виной —
Нет руки со мною правой —
Друга сердца нет со мной.
Я б хотел, с петлей у горла,
В час, когда так смерть близка,
Чтобы слезы мне утерла
Правая моя рука.
Стихотворение в «Daily Mail» было напечатано в переводе на английский. Русский текст при этом приводился не полностью, печатались только первые строчки каждого катрена (факсимильно воспроизводя пастернаковский почерк). Но это придавало какую-то особую интимность «предательской акции» опального поэта.
Просидев с Пастернаком три часа и записав большое интервью, Энтони Браун публиковал его в сопровождении собственного рассказа о визите в Переделкино. Что именно в этом рассказе показалось властям «политически тенденциозным»? Возможно, уверенность Пастернака в продолжении травли. Или то, что корреспондент называет поэта «символом надежды и свободы для молодой советской интеллигенции». Что выделяет в «Докторе Живаго» религиозную линию и авторские рассуждения о том, как необходимо русскому народу христианство. А вот и зримая правда Пастернака, радовался Браун: на переделкинском кладбище могилы все сплошь с крестами, значит, писатель близок к пониманию национальной жизни. А тут еще и баба с коромыслом по пути от станции к поселку, встретив заблудившегося корреспондента, заводит его к себе, а у нее, представьте, красный угол с иконами, на стене – фотографии сына и мужа. Вот она – баба верующая, вот она – пастернаковская Россия.
На допросе у Генерального прокурора СССР Руденко 14 марта Пастернак был предупрежден, «что если эти действия, которые, как уже сказано выше, образуют состав преступления, не будут прекращены, то в соответствии с Законом» он будет привлечен к уголовной ответственности. Было поставлено условие полностью прекратить всякие встречи с иностранцами.
На дверях его дачи появилась записка:
«Я никого не принимаю. Отступлений от этого решения сделано быть не может. Прошу не обижаться и извинить».
Приезжающие, – вспоминает Евгений Борисович, – брали записку на память в качестве автографа, ее приходилось писать снова.
Принимались и меры «административного воздействия» на неугодного поэта: на время приезда английской правительственной делегации Пастернаку было предписано покинуть Переделкино и Москву.
Угрожал ли в самом деле Ивинской арест – при жизни Пастернака? Каковы были виды властей на нее? Почему до смерти поэта ее никто не тронул?
«Происходит она из дворян, характеризуется как умная, но морально разложившаяся женщина, – писал в своих записках в ЦК КПСС председатель КГБ А. Шелепин. (…) – Несколько раз высказывала желание выехать с Пастернаком за границу, в ряде случаев оказывает на него отрицательное влияние. Комитету госбезопасности известно, что Ивинская была против передачи иностранному корреспонденту антисоветского стихотворения Пастернака „Нобелевская премия“, в связи с чем высказывает недовольство Пастернаком и заявляет о своих опасениях быть арестованной» (Шум погони, с. 186 и 181).
Но хотя в служебных документах Ивинскую называют «антисоветски настроенной», именно ей дают наиболее ответственные – стратегические – распоряжения и поручения. Желая добиться чего-либо от Пастернака, власти обращаются к нему не напрямую, но через его возлюбленную, которая использует весь свой арсенал – обаяние, уговоры, убеждение, страх перед своим арестом – и, тем самым, «задание» выполняет. Ставить ли в таком контексте слово задание в кавычки?
В мае 1956-го власти стремились отобрать у Серджо Д'Анджело переданную ему рукопись. Ивинская бросилась отбирать. По заданию или желая спасти Пастернака?
Многие письма Бориса Леонидовича на Запад она тайно от него останавливала. По заданию или по собственному разумению?
Вослед письмам Пастернака, посылаемым Фельтринелли через Жаклин де Пруайяр, Ивинская отправляла свои письма с запретом доставлять их адресату. По заданию или по своей прихоти?
Часть не отосланной корреспонденции поэта была обнаружена у нее при аресте в августе 1960 года. Была ли эта корреспонденция утаена и от самого КГБ также?
Организовать покаянные пастернаковские письма отряжают Ивинскую. И Поликарпов именно с нею занимается составлением этих писем: член ЦК КПСС привлекает «антисоветски настроенную» Ольгу Всеволодовну для выполнения задания государственной важности.
Узнав о ее ссоре с Пастернаком, Поликарпов, как посаженный отец, решает их сердечные проблемы: глупости! Отправляйтесь в Переделкино и помиритесь.
Для передачи Пастернаку правительственного требования покинуть город на время приезда в Москву английского премьер-министра Гарольда Макмиллана используется именно Ольга Ивинская.
Ни в коем случае не признавая ее официально, власти отводят ей роль винтика в ножницах, без которого ничего разрезать не удастся. Кто лучше Ивинской может доложить об умонастроении Пастернака, о содержании привозимых (нелегально) из-за границы писем? Никто. Значит, надо держать ее в состоянии ежеминутной запуганности, требуя беспрерывных отчетов.
Кто жаждет воспользоваться пастернаковскими миллионами, пухнущими на Западе? Ольга Всеволодовна. Так дать ей полакомиться небольшой порцией контрабанды, позволить ей купить на черном рынке заграничных вещей.
Ничего нет проверенней политики кнута и пряника.
Лондонский таблоид «Daily Mail» дальше Британии, как правило, не распространялся, так что в других странах английский текст «Нобелевской премии» был перепечатан без всякого факсимильного сопровождения даже начальных строк. О художественных достоинствах оригинала судить, тем самым, было невозможно.
Нетерпеливый фельетонист нью-йоркского «Нового русского слова» Аргус поспешил 18 февраля предложить читателям свой вариант обратного перевода. Предваряя этот поэтический опыт, он писал:
«Долго сидел над последним стихотворением Бориса Пастернака, опубликованным по-английски в лондонской газете „Дэйли Мэйл“, и думал, как же оно на самом деле звучит по-русски?
Перевести стихотворение с английского языка на русский, чтобы оно хоть мало-мальски похоже было на пастернаковский оригинал, конечно, невозможно. По первой строфе (перевод, как будто, дословный) можно приблизительно определить размер. Но Пастернак часто пользуется такими неожиданными словами и выражениями, что даже хороший перевод стихотворения будет мало похож на то, что на самом деле написал Пастернак. Во всяком случае, русский оригинал стихотворения, раз оно уже появилось на английском языке, несомненно будет со временем опубликован.
Легче всего мне удалась первая строфа. Самой трудной оказалась вторая; она не совсем мне понятна. Дословный перевод этой строфы с английского на русский звучит примерно так: «Черный лес (или темный бор) на берегу озера. Пень свалившейся (или сломанной) ели. Здесь я, отрезанный от всего. Что будет, для меня все равно (или безразлично)».
Вот моя проба.
Я затравлен, как зверь в загоне.
Где-то люди, свобода и свет.
А за мною грохот погони,
Никакого выхода нет.
Берег озера с черным бором,
Ели павшие между пней.
Я здесь от всего оторван,
Что придет, безразлично мне.
Но какую я сделал пакость?
Я ль – убийца или злодей?
Я, заставивший мир весь плакать
По моей страны красоте.
Ну, и что же. Могила скоро,
И я верю: придет пора,
Когда победит над позором
И бесчестием дух добра.
Перечитав этот свой перевод пастернаковского стихотворения с английского на русский, я пришел к выводу, что он плох. В свое оправдание, однако, могу сказать, что напечатанный в газетах английский перевод тоже, вероятно, не особенно хорош. Во всяком случае, опубликованный в газете «Таймз» текст не вполне сходится с текстом, напечатанным в «Хералд Трибюн», и я не могу судить, какой из обоих переводов ближе к оригиналу».
На следующий день эксперимент с переводом был продолжен. Пользуясь правом ведущего фельетонной рубрики «Слухи и факты», Аргус писал:
«Коллега Ив. Елагин любезно дал мне свой перевод с английского Бориса Пастернака. Мне кажется, что елагинский перевод ближе к подлиннику, чем мой.
Растерялся я, как зверь в загоне,
Где-то люди, воля, свет,
Позади за мною шум погони
И спасения мне нет.
Темный лес на берегу озерном,
Ели сваленной бревно,
Я уже ото всего оторван,
Что бы ни случилось – все равно.
Но какое сделал злое дело
Я – убийца и злодей.
Я – кто мир заставил плакать целый
Над красою родины моей.
Все равно уже я близок к гробу.
Но я верю, что придет пора.
И осилит дух добра
И бесчестие и злобу»
(Новое русское слово, 19 февраля).
В оригинале стихотворение стало доступно русским ньюйоркцам через два дня, 21-го.
Есть еще одно стихотворение, подхватывающее пастернаковскую тему и написанное 26 февраля 1959 года, – «Какое сделал я дурное дело» Владимира Набокова. Считается, что оно злобно пародирует «Нобелевскую премию» и снижает пастернаковский пафос. В свое время Юрий Левин отметил, что это «пародия с нарочито искаженной – как бы полученной в результате двойного перевода – строкой „Какое сделал я дурное дело“ (Набоков. Стихотворения, с. 577). Но дальше этой догадки Ю. Левин не пошел. Обратные переводы Аргуса и Елагина наводят на мысль, что Набоков скорее пародировал их варианты, а не оригинал Пастер нака. Именно неуклюжестями авторов „Нового русского слова“ объясняются топорные строки первой набоковской строфы:
Какое сделал я дурное дело,
и я ли развратитель и злодей,
я, заставляющий мечтать мир целый
о бедной девочке моей.
Написав эти неудобочитаемые строки (особенно первую и третью), Набоков словно высвобождается для летучих и ловких словосочетаний, словно сбрасывает вериги:
О, знаю я, меня боятся люди,
и жгут таких, как я, за волшебство,
и, как от яда в полом изумруде,
мрут от искусства моего.
Но как забавно, что в конце абзаца,
корректору и веку вопреки,
тень русской ветки будет колебаться
на мраморе моей руки.
Впрочем, последовательное, методичное отрицание Набоковым пастернаковской поэтики («плоховато знает он русский язык», – писал В. Сирин еще в 1920-е) в пародии 1959 года также несомненно.
Тем временем Пастернак получил только что вышедшее у Фельтринелли русское издание «Доктора Живаго».
«Русское миланское издание романа пестрит досадными опечатками. Это почти что другой текст, не мой, – писал он Жаклин 30 марта. – Наберите себе помощников, чтобы по Вашей рукописи, которую я проверил и которая верна, подготовить издание на основе выверенного и исправленного текста».
С помощью русских парижанок Нины Лазаревой и Веры Поповой де Пруайяр составляет перечень опечаток – орфографических, пунктуационных, стилистических. Всего было выявлено 824 штуки: напечатано «мастера» – надо «машиниста», набрано «оплеванные» – требуется «оплетенные», «безуспешности» – «бесполезности», «полосатой» – «половой». Венчала список абракадабра «рпизре» – вместо слова «воззри». В мутоновском издании, по крайней мере, в этом месте все правильно – Григорий Данилов воззрел и рпизре не допустил.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Последний год
Для русской эмиграции появление пастернаковского романа было самой настоящей нечаянной радостью.
К концу 50-х годов былая политическая жизнь Зарубежья увяла. Десятилетие мюнхенского послевоенного расцвета, когда в столице Баварии сосредоточились наиболее активные представители всех политических течений – от Союза Борьбы за освобождение народов России до монархистов и солидаристов, – закончилось всеобщим разочарованием. Американский Комитет за освобождение от большевизма – главный спонсор антисоветской активности в Европе, естественно, существовавший на деньги ЦРУ, – убедился в неспособности советских эмигрантов объединиться во имя чего бы то ни было. Сами же эмигранты осознали, что американцев не удается склонить на одну какую-то сторону – великодержавную или прокавказскую, самостийно-сепаратистскую или русофобскую. Главным условием АмКомЛиба (American Committee for the Liberation from Bolshevism) было соединение усилий всех эмигрантов в борьбе с большевизмом. Но даже для такой цели эмигранты примиряться не желали: ненависть к соседу была острее страха перед серым волком.
Разумеется, агенты Лубянки, которыми все было инфильтровано, умело ссорили различные политические и этнические группы, но хватало и своих бескорыстных психопатов и расчетливых завистников, обхаживавших американцев в одиночку в надежде самим пристроиться в какую-нибудь новооплачиваемую организацию – Институт по изучению истории и культуры СССР, Радио Освобождение, Голос Америки, ЦОПЭ, Издательство имени Чехова. Все писали доносы на всех, каждый требовал не верить такому-то и особенно такому-то, в радиостудию, где диктор читал новости, врывался член соперничающей партии и вырывал из рук выпуск «политически неправильных» последних известий. Один из американских чиновников вспоминал, что после войны решено было поддерживать эмигрантов, платя им за доносы по 50 долларов. Когда доносов стало угрожающе много, ставку понизили в половину. Число сигналов немедленно удвоилось.
Непрекращающиеся дрязги привели ЦРУ к эмоциональному отупению. Оказалось, что невменяемы почти все эмигранты и драка у кассового окошка определенно окончится разбазариванием выделенных фондов. Собственная амбициозность, зависть, отсутствие тактического дара в достижении цели, короче – родимая дурь показала американцам, что сделать русскую эмиграцию полноценной союзницей не удастся. И программы были свернуты, Мюнхен политически пал.
С величайшей предосторожностью удалось выстроить карточный домик – создать КЦАБ (Координационный центр антибольшевистской борьбы), – но и он просуществовал меньше года.
Совершенно вымер русский Лондон, ничего не осталось от русского Берлина, даже Западного, СМЕРШем были разгромлены русская Прага и Варшава, Белград и София, еще раньше зачистили Ригу и Таллин. После 1949 года угасли противоборствующие группы даже в Париже, хотя там все еще действовали последние одиночки. Политика, деньги, выпуск книг, влияние – все переместилось за океан и сконцентрировалось теперь в Нью-Йорке. За помощью следовало обращаться туда и только туда. Значение Соединенных Штатов в идеологическом противостоянии Советскому Союзу выросло до небес и, по существу, только на американцев и можно было, впервые с 1917 года, надеяться, планируя какие-то общественные антисоветские акции.
Между тем, и в Америке уже к середине 50-х, еще до ХХ съезда КПСС, стали закрываться многие программы: в 1954-м стало известно, что суждено остановиться разогнавшемуся было Издательству имени Чехова (самому масштабному книжному предприятию за всю послевоенную историю), так и не смогли открыться некоторые литературно-общественные журналы, полностью, за минимальным исключением, лишились финансирования политические партии. Начиная поддержку одних проектов, американские политики одновременно останавливали помощь другим. Никто из эмигрантов никогда не мог быть уверен в осуществлении своих планов, тем более что кураторы проектов часто менялись, куда-то исчезали или постоянно требовали подробнейших обоснований под каждый доллар.
ХХ съезд партии, казалось бы, покусился на последние эмигрантские надежды. Но, как и всегда, Советский Союз навредил себе сам: уже закрытый доклад Хрущева официально напечатан не был; его передавали западные радиостанции, а эмигрантские издательства выпускали отдельными брошюрами, в том числе на плохой бумаге и с поддельными выходными данными, якобы советскими – для обмана пограничников.
Еле шевелившееся славяноведение было в 1957 году неожиданно взорвано полетом первого советского спутника, будто пославшего сигнал о том, что Запад проворонил утаенную мощь Москвы. Заграничные русские еще много лет благословляли этот спутник, вызволивший их из-под социальных завалов: повсюду начали открываться славянские кафедры, русские отделы общественных библиотек, западные издательства стали больше переводить классиков и выписывать из СССР научную и техническую периодику. Врага надо было знать и изучать, русский язык входил в моду, тысячи эмигрантов обрели стабильный заработок.
Вторым нетрадиционным ходом Кремля был международный фестиваль молодежи и студентов, принесший на Запад саму идею контактов с советскими людьми с помощью выставок, делегаций и приглашений. Разумеется, в основе была встречная идея Лубянки еще более широкого проникновения за границу – массового и многоканального, в том числе с помощью советских невест, каждая из которых, буквально каждая, получала свою программу действий. Какая из них при этом стала ценным агентом, а какая не справилась с заданием– вопрос другой. Но вербовки КГБ не миновала ни одна. Русские эмигранты очень пригодились ЦРУ в этой меняющейся обстановке – советами и знанием реалий жизни за железным занавесом.
Третьей бомбой оказался «Доктор Живаго». Никто и представить себе поначалу не мог, что для антисоветской пропаганды, для большой и многолетней программы книгоиздания, для конференций и университетских кафедр, для профессиональных карьер тысяч преподавателей и сотен тысяч студентов по всему западному миру выход одной этой книги будет сопоставим с полетом советского спутника – для программы НАСА.
До «Доктора Живаго» Пастернака в эмиграции знали плохо – с каждый десятилетием все меньше. К концу 50-х в Зарубежье уже почти не оставалось людей, знакомых с Борисом Леонидовичем лично. Книги его в эмигрантских издательствах после 1923 года не выходили, последний поэтический сборник в Москве появился в 1945-м. Пастернак в глазах эмигрантского читателя превращался в плодовитого переводчика с устойчивым социальным положением. О его взглядах на революцию, историю века и советскую политику узнать было негде.
12 ноября 1957 года, за одиннадцать дней до появления романа по-итальянски, нью-йоркский критик Юрий Большухин в рецензии, озаглавленной «Дуб с балалайкой», посвященной второму сборнику «День поэзии», недоумевал по поводу стихотворения Пастернака «В разгаре хлебная уборка»:
«Что произошло? Каким образом поэт, отважившийся не воспевать сталинщину, мог произвести эту наивную дешевку, в которой есть многое, кроме поэзии? Невероятно, что такие стихи Борис Пастернак считает „неслыханною простотой“» (газета «Новое русское слово»).
Уже через две недели так о Пастернаке ни одна эмигрантская газета не написала бы. Тот же Юрий Большухин сменил свой тон до неузнаваемости:
«Зарубежная русская литература не создала еще книги, достойной стать рядом с романом Пастернака. Положим, и литературы западных народов вот уже долгое время не создавали подобных произведений. „Доктор Живаго“ уникален» (там же, 1 января 1959).
Мы уже приводили реакцию некоторых русских критиков – Вейдле, Ширяева и Струве, – откликавшихся на роман в конце 57 – начале 58 года. Но лавина публикаций началась, естественно, после октября 58-го: пересказы статей московских корреспондентов европейских газет, новости из «Правды», мнения западных писателей, переделкинские слухи.
4 ноября штатный фельетонист «Нового русского слова» Аргус описывал терзания Хрущева:
«Ну и угораздило же меня развенчивать Сталина! – злобно сказал самому себе Хрущев, опрокинул рюмку в рот и по-старорежимному крякнул. (…)
– Если бы я покойника не развенчал, я мог бы себе сейчас что угодно позволить по отношению к этому Пастернаку. Мог бы даже, как Виссарионыч это сделал с Горьким, уложить Пастернака в кровать, открыть форточку и заставить его умереть от воспаления легких. А теперь, черт возьми, нельзя! (…) И угораздило же этих шведских дураков присудить Нобелевскую премию этому космополиту, – продолжал сам с собой разговаривать Никита Сергеевич. – Не могли выбрать кого-нибудь другого? Непременно им понадобился Пастернак! Тьфу! (…) Ну и дурак же ты, Никита, – сказал Хрущев своему отражению в зеркале. – Оттепели тебе захотелось, вот тебе и оттепель! А что теперь получилось? Получилось, что Пастернак сильнее тебя, самый сильный человек в Советском Союзе. Вот этот самый противный поэтишка сильнее тебя, Председателя Совета министров СССР, Первого секретаря КПСС, самодержца всероссийского, главного посполита Речи Посполитой, великого комиссара Венгерского, Румынского, Болгарского и Албанского и прочая, и прочая, и прочая… Берия ты не испугался. Молотова и Маленкова не испугался. Кагановича не боялся, а Пастернака боишься. А сколько у Пастернака дивизий, как сказал бы мне мой покойный благодетель? (…) Не везет тебе, Никита! Даже волосы на себе рвать не можешь!»
О романе пишут повсюду – в «Гранях», «Новом Журнале», «Русской мысли», «Мостах», «Русской жизни». Пастернаковская книга порождает анекдоты:
– Почему Хрущев не болеет и вряд ли когда-нибудь заболеет?
– Потому что он боится доктора Живаго.
– Почему Пастернак отказывается покинуть Советский Союз и эмигрировать за границу?
– Потому, что он предпочитает быть полуживаго дома, чем полумертваго в эмиграции.
Но серьезных, вдумчивых откликов – Веры Александровой, Геннадия Андреева (Хомякова), Ростислава Плетнева, Марка Слонима – все же больше. В Варшаве, где первые две главы романа были напечатаны журналом «Opinie» и где имя Пастернака было знаком тайной свободы, Антони Слонимский прочел свое новое стихотворение – о Париже. Завершалось оно строфой с прозрачным намеком:
А между тем, далеко на севере
В сыром тумане,
На скамье под сосной
Перед своей дачей
Сидел поэт, —
Диоген в бочке,
Обручи которой
Сковали ему сердце
Глубоким отчаянием.
Все понявший зал немедленно разразился овациями.
Роман Гуль назвал свое публичное выступление в Нью-Йорке прямо: «Победа Пастернака». 24 ноября репортер «Нового русского слова» пересказывал гулевские размышления о романе:
«Конечно, он имеет политическое значение. Но исключительную ценность представляют его литературные достоинства и глубокая идейная насыщенность. Переводы романа на иностранные языки не могут передать все достоинства оригинала. Только русские могут почувствовать всю его словесную музыку. Автора упрекают в схематизме, в отстутствии реализма. Да, Пастернак не является реалистом в том смысле, в каком мы это обычно понимаем. Он тянулся к простоте Пушкина, Толстого, Чехова. Но он принадлежит к другой эпохе. В нем сказывается связь с символизмом, с эпохой „серебряного века“. В смысле формы он ближе к Белому, чем к Пушкину и Чехову. Касаясь идейного содержания романа, докладчик сравнивает его с проповедью. Но Пастернак не проповедует. Его взгляд на мир первично свеж, как взгляд ребенка. Тяжесть быта уступает ощущению первозданного бытия. Там, где царит духовный гнет, роман является гимном свободе, победой над всемогущим тоталитарным режимом. (…) Русская литература возвращается на свой традиционный путь. Конечно, опубликование такого произведения в Советской России равносильно взрыву атомной бомбы. В умах писателей оно создало бы страшную тягу к творческой свободе».
Постепенно подключалась самая широкая эмигрантская общественность. Нью-йоркский поэт и сотрудник Радио Освобождение Владислав Шидловский заклеймил московских коллег по цеху в стихах «Советским писателям, осудившим Пастернака»:
Писатели, вам оправданья нет!
Ваш жалкий гнев со слов чужих заучен,
Вы помните еще: «Погиб поэт…»?
А чем же вы вельможной своры лучше?
Как вам грядущему придется отвечать?
Ведь каждому из вас прославиться б хотелось,
Но на свои труды ничтожества печать
Вы сами навлекли позорным этим делом.
Вам приговор – он в ваших же словах,
И вы под ним смиренно подписались.
Я понимаю – подхалимство, страх,
А кое у кого и, безусловно, зависть.
Но хоть немного есть же среди вас
Таких, кого нельзя взять попросту «за морду»,
В ком вольный дух навеки не угас,
В ком человек звучит и дышит гордо?
Писатели, вам оправданья нет!
В вас умер Чацкий – жив зато Молчалин.
В сердцах у вас давно погиб поэт.
Эх, «инженеры душ», взгляните, кем вы стали!
Не соглашаться можно – это так.
У каждого свой ум, свой вкус, своя дорога.
Но ведь подумайте – коллега Пастернак
Был только поводом. Он послужил предлогом,
Чтоб показать, чтобы напомнить вам,
Что слово вольное опасностью чревато,
Что может каждый обнаглевший хам
На вас орать, как унтер на солдата.
Опомнитесь, писатели! Пора!
Вас «царство темное» закабалить готово.
Или забыли вы, как силою пера
Тираны рушились, как побеждало слово?
Или хотите, чтоб прошла молва,
Войдя в историю от века и до века,
Что все ваши труды – слова, слова, слова, —
А сами вы – толпа без человека?
(Новое русское слово, 9 ноября).
Несколько работ, главным образом по-английски, посвятил книге Виктор Франк, журналист и историк, сын знаменитого философа. В статье «Русский Гамлет» он писал:
«С какой стороны мы бы ни подошли к первому роману великого русского поэта, он представляется нам удивительно интересным. На фоне современной русской литературы – в сущности, на фоне советского искусства вообще – это чудо свободной мысли и духовной независимости. И не потому, что роман обходит русскую действительность. Это было бы невозможно (…). Роман прочно привязан ко времени и пространству. И все же – это не антисоветский роман в вульгарном политическом смысле. Это русский роман до самых корней. Один из героев – важный красноармейский офицер Гражданской войны – описан с большой симпатией и пониманием. В романе нет и следа ностальгии по старому режиму. Но причина, по которой роман выглядит настолько же странно, как Ацтекский храм в ряду мрачных квартирных блоков, это полное безразличие ко всем официальным запретам и постановлениям современной советской литературы. Роман написан так, будто бы линия Коммунистической партии по вопросам искусства не существует. Он написан человеком, который сохранил и углубил свою свободу, свою независимость от всех внешних ограничений и внутренних запретов.
(…) Аполитичный роман в России невозможен. Также можно сказать, что роман выиграл бы при значительном сокращении, что в нем слишком много второстепенных персонажей, наводняющих страницы и путающих читателей; что в повествовательном потоке изобилует и ненужное вмешательство автора, что резкая перемена тона (лирический монолог, перемежающийся с сухим историческим отчетом и, затем, с отрывками фольклора) разрушает стилистическое единство романа. Короче, можно было бы сказать, что автор, прирожденный поэт, чувствует себя не совсем свободно в прозе, и что искусство романа для него ново.
(…) Было бы также справедливо сказать, что по сравнению с лучшими произведениями современной западной литературы, «Доктор Живаго» – удивительно старомодный роман. Частично это объясняется просто интеллектуальной изоляцией всех советских писателей, даже таких европейских, как Пастернак. Традиция Джойса и Виржинии Вульф прошла мимо русской литературы, так же как и послевоенная волна Кафки. В «Докторе Живаго» сюжет движется по плотно установленным хронологическим рельсам, и автор организует необъятный хаос исторического и географического фона по принципу, иногда напоминающему плутовской роман 18-го века, как, например, произведения Лесажа. Часто используется прием двойного повествования.
И все-таки, несмотря на все эти технические недостатки, это по-настоящему великое современное произведение искусства. Почему? Да потому что роман посвящен не вопросам плоти, а вопросам духа.
(…) Христианин ли Пастернак? В догматическом, клерикальном смысле – нет. Но из романа явствует, что он, во-первых, глубоко и страстно верит в первенство духа над материей, и, во-вторых, что для него человеческая история не имеет смысла вне Христа.
(…) Живаго следует этим трем заповедям: он любит ближних, сохраняет свою свободу и жертвует жизнью ради высшего долга, в данном случае, творческого долга мыслителя и поэта и общественного долга – сохранения своей интеллектуальной ценности.
Пастернак часто говорил своим иностранным гостям, что он «благодарен эпохе и своей земле; потому что его творчество и сила были сформированы этой эпохой и этой землей». И было бы справедливо сказать, что только человек, прошедший через земной ад и оставшийся победителем, имел право наполнить таким миром и внутренней радостью роман, описывающий этот ад» (Франк, с. 53—61).
В другой статье, озаглавленной «Реализм четырех измерений: (перечитывая Пастернака)», Виктор Франк полемизировал с критиками, ставившими автору в вину стилистическую архаику и расплывчатость образов:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































