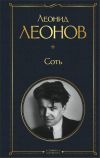Текст книги "Пирамида, т.2"

Автор книги: Леонид Леонов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 47 страниц)
Правду сказать, многое из Никаноровых рассуждений и мне поначалу показалось чуждой нашему веку, даже вредной чепухой, в том лишь разрезе примечательной, сколько пришлось бедняге поворочать мозгами, чтобы ее придумать. Старо-федосеевский мыслитель исходил из того, что давно обреченная традиция благоговейного подражания природе повсеместно рухнула наконец, погребая под обломками репутации знаменитых жрецов. Нечему стало поклоняться в ее бывшем храме, окончательно запоганенном отбросами людского существования. Пересмотр начался еще в наше время с открытия – как быстро даже из солнца излившаяся пламенная плазма остывает в серую щербатую лаву. Когда же стало общепризнанно, что высший трофей в искусстве – проблеск чуда, а не самая среда, закрепившая в себе след божественного луча, подвиг художника превратился в мучительную погоню за тем бесценным и невещественным, что узнается по мимолетному теплу в душе и ладони, сама победа иной раз становилась пораженьем. Требовалось застать радость до ее распусканья, на предвестном вздохе, ибо цветенье только пролог к умиранью. Иные, кабы могли, предпочли бы заблаговременно отказаться от очарований жизни, все равно подлежащих к утрате. Если и раньше уровень артистического художества мерился обратной зависимостью от затраченных мастером средств, чтобы не похоронить квант звездного света в груде вспомогательного вещества, теперь в поисках еще более невесомой упаковки старались немыслимые эмоциональные объемы вгонять в лаконичную, до исчезания формулу, в безопасный для хранения иероглиф. Без должной предосторожности запечатленные открытия души и мысли воспламеняли бы материал воспроизведения, заставили бы течь гранит и медь. Одновременно, как и сельская нива под натиском сорняков, хирело большое вдохновенье обок с расплодившимся на этой почве, надменным и мстительным шарлатанством, которое, социально уравненное с гениальностью, нагло торговало изделиями из пачканой бумаги и захламленной тишины.
В искусство машинного мира приходил истончившийся художник с артистическими пальцами, не умеющими ничего, кроме как магическим мановеньем пригласить клиента всмотреться в нечто, по возможности еще не обретшее бытия. В концертах для знатоков игрались куски разнофактурных пауз и хорошо еще, если на бархате их разложены бывали варварские созвучия неких неукрощенных стихий. Однако надо оставить на совести повествователя моего приведенные им примеры, будто бы на территории Волосюка славился один новаторский оркестр вовсе без инструментов; причем музыканты воображаемым смычком, при пустых нотных линейках, водили по невидимым струнам, исторгая у публики бешеные слезы и овации, тоже беззвучные, надо полагать, за полученное удовольствие... тогда как в парламентских прениях у цезаря Щетиниуса ораторы ради экономии времени и сглаживанья противоречий выступали одновременно, расположась по алфавиту, росту или цветовой гамме пиджаков. Поразительно, до какой степени осатаневшие люди переставали сознавать и роковую целенаправленность своего исторического поведения, и коварную суть благоприобретаемых игрушек. На практике выяснилась существенная поправка к знаменитой пословице, что, готовя свою жертву к гибели, Юпитер еще до отнятия разума гасит в ней юмор... Тем не менее искусство, отвергшее косную опеку материи, стояло на пороге великого открытия, что образцом композиционной упаковки является не растительное семечко или ген с его мелкостной записью грядущего в предельной логической последовательности – конспект завтрашних миров, а девственно чистый лист бумаги со скрытым в его белизне множеством потенциальных шедевров, – равно как и Гамлеты нового времени открывали третий вариант дилеммы: вовсе не рождаться на свет.
Но уже тогда, в паузах отдохновенья и покамест доступные немногим, слышались доносящиеся из-за черты голоса таинственных друзей и нянек из милого детства. Неизвестно пока, кто куда возвращался – люди к ним, они ли к людям, но только близость их почти зримо ощущалась порой вследствие открывшегося у всех стихийного визионерства, как бывало и раньше после длительных исторических потрясений. Несколько раз подряд проводились тотальные, одно за другим, мероприятия для генерального омоложения человечества посредством беспощадных, по личному выбору социального хирурга, ампутаций тех или иных частей тела с угнездившимися там – верой, вредной памятью, устарелыми навыками предков. Сказалась также долговременная фильтрация жизни от мельчайших примесей чуда, напряженная без отгула тревога за будущее, круглосуточное ожиданье чьего-то насильственного прикосновенья. На тысячелетних путях сквозь опустошительные разочарованья душа устала от участившейся смены богов и судеб, от постоянного созерцанья братских могил и смертных лагерей на фоне пылающих храмов и книгохранилищ, огнем и взрывчаткой стерилизуемых от идейных инфекций прошлого. Вся в шрамах и ожогах она давно была готова уйти из мира, как поступают большие деревья под напором мелкой проворной травки, как уходят безжалобно зверь и птица на поиск тишины, чистых вод, неомраченной синевы небесной, да все жалко было покидать полный воспоминаний, обжитой дом. А уж ничего больше не оставалось ей из-за срастания человечества в единый организм с императивной специализацией клеток и перехода личности к автоматизму социального подчинения. Тем более испуганная душа обучалась с полунамека, в первозачатке постигать едва обозначившийся поворот истории, маневр вождя, недосказанный замысел гения, потому что сама теперь состояла из того же расплавленного вещества. Новый порядок художнического общенья с массой облегчался как раз преизбытком уплотненных накоплений сверхчеловеческого опыта. Достаточно было интимного знака общности по страданью, чтобы пригласить равноправную отныне vulgus profanum55
Чернь (лат.)
[Закрыть] к участию на творческом пиршестве уже в новом пророческом аспекте. И если пророкам положено являться на сцену в дымящихся лохмотьях, желательно при багровых небесах, то, по словам Никанора, история не поскупилась на издержки, необходимые для полноты впечатленья. Выхлестнувшее на улицу, искусство действительно растворялось в народе как бы во исполнение давних социальных чаяний, когда на досуге золотого века, избавленные от унизительной погони за куском хлеба люди примутся за создание высших творений человеческого духа уже без профессиональных посредников и всяких толмачей красоты, – впрочем, в несколько неожиданном преломлении.
– Существует розовая версия, что со временем граждане сами займутся созданием шедевров, – неожиданно с сатанинским блеском в глазах пояснил мой Никанор Васильевич. – И ежели одни, к примеру, примутся писать эпохальные полотна, также драматические сочинения для ближнего, то и другие в целях самозащиты посвятят себя классическому балету или оперному пению по библейскому принципу – око за око, зуб за зуб. Опасаюсь, что в подобной суматохе взаимообслуживанья творец не сможет рассчитывать на братские аплодисменты... дай Господь, обошлось бы без потасовок и кровопролития!
Уже который раз на протяжении едва ли часа в неожиданном качестве приоткрывался предо мною Никанор. Иронические нотки, прозвучавшие в голосе моего рассказчика, заставляли взглянуть по новому и на его близость с Шатаницким, которому, видно, не всегда приходилось скучать в обществе угрюмоватого студента. Только что высказанная мысль последнего была настолько явной карикатурой на общеизвестные скудновские разъяснения об искусствах грядущего, раскрепощенных от засилья гениев. Опровергался главный его тезис, что на корабле прогресса не должно быть ни бездельников среди команды, ни бесполезного груза, тем более – беспредметного искусства, кстати, тотчас померкающего, едва становится забавой праздных. У старо-федосеевского мыслителя получалось даже, что в иных ситуациях и ценный инструмент становится обузой, но не указал – в каких...
Словом, случись сыскное ухо под окном, самое мое пребывание тут непременно расценили бы как прямое соучастие в критике на непогрешимое лицо... Даже мурашки побежали по спине при мысли об иннумерабельном синклите всяких начальников умственной деятельности, заведующих кабинетами оптимизма и высшего согласования, прозекторов и совершителей исторической необходимости, докторов и кандидатов здравомыслия и прочих представителей победившей правды, дружно засучивших рукава. Однако собеседник мой лишь палец приложил к губам в знак того, что подслушивать там некому, ибо дельный стукач не потащится за добычей на погост, да еще в непогоду, а местные покойники и вовсе не любознательны.
Тем не менее очевидная неудача моя с описанием Никаноровых концепций объясняется не только подколенным трепетом, всегда дурно влиявшим на авторский почерк, но и нехваткой дара по части воспроизведения глубоких философских истин. Признаться, я так и не понял до конца, каким образом любой художественный замысел той поры уже не умещался в самом совершенном воплощенье, а все созданное с помощью рук никак не сходилось с первообразом явления, усмотренного глазами изнутри. Неутоляющая реальность лишь разжигала жажду, вещественность поэтической метафоры представлялась кощунственной клеветой на основные ценности бытия. В память невольно приходили византийские иконоборцы, манифесты старинных авангардистов, объявлявших музейные собрания моргами, также запретность людских изображений в исламе, еще что-то. В самом деле, лишенные главного, ради чего создавались, чему лишь временной оправой служило тело, они теперь воспринимались как трупы – пусть без положенных им признаков тленья. В философских кострах, с поощрения Савонарол от политики, давно уже полыхали Христы и Будды, Венеры и Марии, что тронутые мраморной желтизной тления, источенные шашелем и в старческих морщинах кракелюр терпеливо ждут своего огненного погребения. Иначе – почему уж не кричат, как прежде, не прельщают пожухшей красотой, не зовут никуда, не рассекают душ людских мечами, чтобы высвободить назревшие там сокровища... В самом деле почему? Иссяк ли в них самих запас святости или нечем стало людям наполнить эти зияющие сосуды из-под утраченной красоты? Значит, состоялось наконец-то желанное исцеление от мифа, отболели древние, дремучие связи человека с чудом. И только вымирающим старикам внятны письмена под ними на мертвом языке, да и те уже не помнят, как они произносились в подлиннике. Но если давноминувшие художники неистово восхищались временным и зримым, а совсем недавно тщились воплощать лишь подозреваемое, то отныне все их всемерно возросшее множество с немым восторгом прозрения, словно из магического круга, озиралось на призрачные, как бы струящиеся в воздухе тела, проступавшие из небытия сквозь безмерно утончившуюся оболочку сознанья – в ручьях и рощах, прямо в созвездьях над головою.
Выяснилось вдруг, что вся, где еще не дотла растоптана, окружающая природа, как и в Элладе когда-то, заселена душами первородных стихий – лишь пореже, применительно к произведенному опустошенью. То были не прежние козлоногие, во хмелю виноградные боги, или ветры с надутыми щеками, или девушки в радужных туниках, танцующие близ ниспадающей воды, – требовалось время на освоение их нового, в чем-то изменившегося облика, но вот так же, как многие тысячелетия назад, с тем же выжидательным нетерпеньем вглядывались они в нашего предка у пещерного костра, праотца художников, чтобы он углем, хотя бы мысленным взором обвел их контуры на скале и в ночном небе, тем самым приглашая к своим трудам и играм. Позже, вынужденный потребностями бытия разум заглушил виденья юности, чтобы глубже постигнуть взаимоотношения вещей, чем они отразились в поэтических уравнениях античного мифа. Оказалось, по счастью, весь последующий период изгнанья души продолжал жить в своих камнях, деревьях, родниках земли, как и в грозных феноменах небесных, одно время изготовившихся даже обрушиться с тыла и флангов на осатанелый, все заповеди священного содружества преступивший род людской... Однако сразу все ему простили, чуть в судьбе последнего наметилась линия возврата в покинутую семью, чтобы заодно в очередной ипостаси кружиться под солнцем, пока не иссякнет. А так как на новом уровне искусства поэтический образ выглядел совершеннее, чем было доступно самому гениальному мастерству, то и незачем становилось терзаться напрасным поиском, резцом и мыслью выпускать наружу плененные души бытия из их воздушных темниц и келий, нами же созданных и никогда-то не существовавших вовсе. Отныне людям, наконец-то воротившимся в родную семью, оставалось всего лишь несколько заключительных, правда, самых трудных ступенек, чтобы в обнимку с прочей природой, словно и не было размолвки позади, помчаться в гармоническом, тоже иносказательном хороводе ко всеобщей, никому не ведомой цели.
Близ того времени на гигантские людские поселения периодически стала нападать одинаковая в обоих полушариях пандемия праздности, объяснимая разве только что включением самозащитного жироскопического реле. Вдруг гасли сознание долга и вдохновенья, обязанности семейные и гражданские, даже страх за недовыполненный план очередной, все еще что-то решающей, скажем, дветысячесемисотой пятилетки. И отдельные личности, вырвавшиеся из стеснительной действительности, отправлялись в стихийные, исключительно пешие миграции. Вне зависимости от занимаемого поста и безразличные к сезонным невзгодам, они во все возрастающем проценте, с опущенными головами брели без дорог, тасуясь встречными потоками и настолько углубясь в себя, что никого не рвало с души при виде порхающих под ногами двухголовых воробышков, где-то ускользнувших на волю через лабораторную форточку. Странствующих детей совсем не пугал, к примеру, характерный над головою скрежет повзводно тренирующихся в воздухе драконов древнекитайского образца, выращенных наукой в экспериментальных доках для несения морской патрульной службы. Так и тащились они напропалую с неприбранными волосами, бесконечно нищие в своем неисчислимом материальном избытке, не позволяя никаким впечатленьям новизны разомкнуть наглухо стиснутые створки своей раковины. Двигались они с распахнутыми глазами прозелитов в поиске целых чисел без мучительных дробей и утраченной гормональной неизвестности, если сохранилась от разоблаченья. Будто бы иным удавалось таким образом прорваться из аидов современности в зачарованный мир Фалеса, перенаселенный царственными дивами и вечно юными божествами – с тем существенным отличием от прежних, что при взгляде не исчезали, как положено призракам, а улыбались раскаявшимся бродягам, даже занятые в жарких схватках любви, танца, смертного поединка... Так шли они сквозь волшебный строй своих видений. И ничто – ни воззванья со взысканьями, ни даже залпы электронных базук на пограничных заставах, в случае перехода рубежей – не могло вернуть их в упряжку цивилизации. Под конец это нашло себе отраженье в трудовом законодательстве введением пункта о праве граждан на двухнедельное, помимо отпуска и раз в году, пешее скитание с половинной оплатой заработка.
В неуклюжей попытке то ли блеснуть дурной латынью, то ли польстить собеседнику Никанор Васильевич намекнул даже, что тогдашние медики называли описанный выше визионерский уход в глубь себя с абсолютной нечувствительностью к внешней боли morbus Duniae66
Болезнь Дуни (лат.)
[Закрыть] по имени героини из одной ископаемой повестушки, в свое время, несмотря на достижения тогдашнего гуманизма, сожженной на лобном месте через палача.
– Ничего, это я пошутил слегка, – зловеще посмеялся он над моим понятным смущеньем и еще обнадежил в том смысле, что ни одна из нынешних книг не доживет до той поры.
... Приблизительно в таком психофизическом состоянии произошел окончательный подъем людей на гору, в различных транскрипциях обязательную для всех религий земли. Предположительно здесь и помещалась стартовая площадка для завоевания небес, известного ранее под кодовым обозначением шествия к звездам. Подразумевался отвлеченный полет в иррациональное нечто без определенных лоций или адреса, на пределе умственной видимости. Вопреки ожиданьям, высота обетованная оказалась буквально пятачком, так что подтянувшемуся множеству негде было раскинуться на заслуженный отдых перед решающим рывком. Весь род людской, сколько его к тому времени скопилось, в благоговейном молчании стоял там впритирку, плечом к плечу, озираясь и покачиваясь под ветром, как горная трава. Величественная панорама расстилалась внизу, где уже исчезала для глаза мелкая рябь исторических событий.
Самый ход эволюции упрощался до детского рисунка, откуда можно было убедиться лишний раз, что все там происходило правильно, без особого обсчета или обмана, только неведомо – зачем. Огорчения пройденного пути тоже окупались сознанием победы, но обстановка на месте складывалась несколько иначе, чем рисовалось провозвестникам горы. Слышались даже сомнения, стоило ли ради триумфального момента предаваться тысячелетней гонке, сжигаясь на лету? В силу ускоренного, к исходу, чередования геологических, общественных, также возрастных фаз пребыванье здесь, на знобящем сквозняке вечности, не грозило быть долговременным. Как всегда бывает однажды, лицом к лицу представал клубящийся сумрак хаоса, сквозь который в отмену утешных картинок, когда-либо нарисованных на нем воображением, просвечивала иная даль, нечеловеческая... О, сколько раз обсыхало поэтическое перо в напрасном поиске более определительного эпитета! И снова вкрадчивый, из-за спины, головокружительно знакомый голос убеждал не падать духом, а, доверившись дюралевым крыльям разума, безотлагательно ринуться через пропасть на внегалактические завоеванья, благо отсюда до мечтанной цели становилось рукой подать.
На вопрос, состоялся ли хоть один пассажирский рейс в глубь ночного неба, было мне отвечено, что беспримерный прыжок на Луну так и остался верхней вехой цивилизации. Впрочем, и в наше время многие понимали сомнительность подобных прогулок к звездам на усовершенствованной летающей трубе. Да и мне как-то легче было представить вознесение плешивого Елисея в божественные эмпиреи, нежели в будничном графике летящую к Магеллановым облакам ведомственную ракету, и пока парсеки струятся по титановой обшивке, командировочные чинари грохают своеобычного козла в кают-компании. Помимо невозможности обеспечить смельчакам планетные, верно еще и нераскрытые до конца условия для длительной рабочей космоплавучести, Никанор Васильевич высказал также предположенье, что сама мать-земля вряд ли выпустила бы своих удальцов в их нынешнем нравственном облике на волю, чтобы они там и растлили источники жизни с попутным истребленьем меньшей братии, наделенной равными правами гражданства в мирозданье.
– Обратили вы вниманье, кстати, – усмехнулся вскользь старо-федосеевский философ, – что нигде в ближайших к нам окрестностях не обнаружено существ, сколько-нибудь пригодных для пожиранья или беспардонного губительства?
Еще он сказал потом, что, хотя та же предусмотрительная чья-то логика просматривается и в надежной изоляции всей нашей планетной системы от прочих миров, именно внушительность заградительных расстояний наводит на мысль о все же возможной где-то жизни. Весь зрелый период человечества, по его словам, был отмечен страстным стремлением нашарить вкруг себя ее божественные следы. Но тот упорный и расточительный зондаж вселенной преследовал не разведку дополнительных территорий для людского расселенья, все равно неосуществимого по неповторимости биоконстант, из коих мы сотканы, не утоление обезьяньей любознательности к новым разновидностям жратвы и забавы, а единственно ради отыскания в радиусе вечности мало-мальски мыслящей родни – пускай заочного, без возможности словесного общенья, без рукопожатия даже – через такую даль! Века неудач спустя, уже без всякой надежды докричаться до себе подобных, люди с помощью чудовищных машин все еще аукались во все стороны, постепенно снижая требования равенства до уровня, скажем, высокоинтеллектуального паука, постигшего мудрость Пифагоровой теоремы, а на худой конец – вовсе полуинтеллигентной твари с разумом в его доклеточном первозачатке, лишь бы с перспективой развития когда-нибудь в Гераклита Эфесского. Почти маньякальные, к тому времени, разыскания любой, хотя бы в микробной стадии, органической жизни, наряду с практическими проблемами спонтанного размножения определившие содержание тогдашнего прогресса, диктовались отныне не столько тоской космического одиночества, как потребностью проверить, после описанных неудач, снова выявившийся в человечестве тезис о его космической исключительности, совсем было отвергнутый доводами просвещения.
Трудней всего было философам постичь – не как, а ради чего мы случились в мирозданье. Если даже допустить, что природе, в истоме потянувшейся со сна, как делают и люди, просто вздумалось оглядеться вокруг умным человеческим зраком и, улыбнувшись самой себе, вновь погрузиться в свое ритмичное блаженное неведение, то вполне могла и вторично на протяженье вечности и где-нибудь в другом месте еще разок доставить себе удовольствие такого самооткрытия... Тогда почему же никто так и не откликнулся нам из бесконечной ночи? Великое молчание, естественно, воскрешало у людей древнюю веру в свое высшее предназначенье, а признание избранничества приводило к утверждению некоего верховного, вне суммы мира пребывающего, личного фактора с вытекающими отсюда последствиями вплоть до возмездия за грешки. Ибо, намекнул Никанор, неповторимость осуществляемой миссии людей в мирозданье особо и подчеркивает порочность их поведения на заключительном отрезке истории.
Примечательно, что Никанор Васильевич не произнес на языке вертевшееся слово, словно не пролезало через рот. И вдруг.
– Как вы думаете, – неожиданно осведомился он с испытующим прищуром, – почему образованное человечество с таким, все возрастающим раздраженьем, особливо в нашей стране, воспринимает малейший намек о небесной опеке по мере приближения к операции, которую обозначим кодовым именованием возвращение на колени Бога? – уточнил он наконец. – Примечательное обстоятельство, не так ли?
В сущности ничего особо запретного вроде и не было сказано пока, но целая система еще более сомнительных идей, чем прежде, послышалась мне в его престранном вопросе. Из чувства самосохранения граждане в ту пору старались самые заурядные вещи произносить в предписанном тембре и в унисон, тем самым знаменуя всенародное единогласие. Интонационная окраска моего собеседника позволяла судить, сколько взрывчатки скопилось в нем для неизвестного впереди употребления. И, видимо, так я был заморочен вступительным колдовством, что среди уймы несусветных толкований Никаноровой личности возникало и вовсе глупое подозренье – если не соглядатай от небес при Шатаницком, который якобы не догадывается и потому не гонит, то, возможно, и от него самого наблюдающее лицо, с той же целью приставленное к старо-федосеевскому батюшке. Вполне могли оказаться и обе ипостаси в одном лице, что при нашей жизнеопасной исторической континентальности и раньше нередко случалось. Всякому ясно, что наивных Дуниных наблюдений вряд ли хватило бы на столь обстоятельное предвиденье будущего, при очевидной маловероятности поражающее своим убийственным правдоподобием. Оттого ли, что сразу всего не углядишь в сумерках подполья, я как-то упустил из вниманья такую занимательную фигуру, как Никанор Шамин. Хотя, как приоткрывалось теперь, из всей галереи здешних типов, включая младшего лоскутовского отпрыска, именно он представлял, пожалуй, наиболее притягательную трудную загадку – на фоне своего стандартизованного поколенья.
Во все воинствующие эпохи, где истина преподносилась на острие меча, упрощенное мышление в аспекте: свой – не свой надолго становилось ведущей общественной добродетелью. Характер инструмента не допускал половинчатых решений, отчего любая сложность умственной конструкции выглядела в глазах победителей маскировочным приемом недобитого зла, причиняющего скорбь земную. Кстати, выжигание его из всех потенциальных вместилищ заодно с идеалистической заразой проводилось тогда столь ревностно, что возникало сомненье – уцелеет ли даже под музейным стеклом, на предмет пользования ученых потомков, самомалейшая кроха нашей нынешней ископаемой боли – хотя бы для постижения: на каком страшном человеческом огне варилась для них похлебка универсального счастья?
Как и мы, не слишком похожие на отдаленных предков, серийного вида крепыши, свободные от наследственных наших пороков и пережитков, наверно, они станут рождаться для плача, жительствовать без сора или какого параграфонарушительства и, надо полагать, из жизни уходить без особого сожаленья. Немудрено, что в стерильном обиходе грядущего им, как соли, будет недоставать, пожалуй, щепотки драгоценного страданья, хотя бы желудочного, для полноценного вкусового восприятия действительности. То будут совершенные организмы, построенные в согласии со всеми кондициями здравого смысла. Правду сказать, по опаске чувствительных провинциалов нарваться на афронт от чванных столичных родственников, нас с Никанором не очень привлекало общение с ними... Да и какого рода сюжет мог бы послужить нам основой для собеседованья, скажем, с кроманьонским пращуром, едва начавшим, при свете чадной головни, постигать грамоту бытия?.. Вдруг сам собой придумался забавный вариант такого соприкосновенья.
Представилось, уж скоро теперь новое таге tenebrum77
Темное море (лат)
[Закрыть], иносказательное тоже, надолго покроет поля нынешних битв за грядущее... Когда же в силу геологических смещений схлынули однажды умиротворяющие воды и пообсохло поднявшееся дно, то вместе с толщей слежавшегося ила оказались наверху и заключенные в единобратском пласте старофедосеевцы и их непримиримые антиподы: мы. Несмотря на относительно малую глубину местопребыванья, лопата и бур не мешали нашему мирному тленью, пока сами они праздничной ватажкой не пришли зачем-то в ту безлюдную окрестность. Со скуки, что ли, я кое-как поторопился ближе к поверхности, и едва тростью, ногой ли ковырнул почву, тут он выглянул наружу, череп мой. Тотчас посылку из вечности пустили в круговое обозренье, и так как некому было поблизости представить меня обступившим незнакомцам, мои заслуги и занятья, я сам, в меру моих ограниченных возможностей пытался улыбаться им из чьей-то ладони. По очевидным причинам мне не удалось убедиться, такие ли они на деле – стройные, эллинского склада, земные боги, как мы рисовали их в своих манифестах. Все равно мешали бы видеть чужие пальцы в моих глазницах, откуда струился скопившийся там за тысячелетия песок. Но я непременно услышал бы, если бы хоть один шепнул словечко из тех, знаменитых, с которыми на устах столько умерщвляли современники мои и умирали сами. Отчетливый щелчок по черепушке и дружное затем сотрясенье воздуха показывали, что было произнесено нечто до крайности уморительное. Дырявая башка всегда вдохновляла род людской пополнить сокровищницу острословия. Памятуя наше собственное, у нынешних русских, отношение к дедовским могилам, если только не прямая родня, нечего было серчать на возлюбленных потомков. Еще глупей было бы ждать от них воздаянья, эквивалентного затратам предков, – в конце концов поколенье творит свои подвиги только для себя, отчего уже внуки порой рассматривают их как эгоистическое вторженье в просторы чужого века. Мне ни капельки не было больно, хотя и верилось почему-то, что все произойдет милосердней. Ничего не оставалось мне, кроме как просить ветер, свистевший в моих пустотах, чтоб закопал меня поглубже.
– Правда, – сказал Никанор, – за несколько штурмовых тысячелетий сряду у людей вошло в доблесть и привычку торопиться все вперед и вперед, хотя последние века перед развязкой уже каралось уточнительное любопытство – куда именно. Когда не в меру страстно призываются наследники из их небытия, они и приходят раньше, чем мы успеваем полностью убраться с занимаемой нами жилплощади.
Лишь тут раскрылась мне подлинно убогая, как не раз вслед за известным нашим буревестником подчеркивал и товарищ Скуднов, философия старо-федосеевского подполья: остановиться в своем неповторимом пролете через вечный мрак, не торопить и без того уж близкий вечер человеческой зрелости, предаться радостям созерцания под крылом добрейшего из солнышек, словом, погрузиться в мещанское болото, вместо того чтобы гордо, со всего разгону и подобно взрыву сверхновой царственной вспышкой озарить вселенское безмолвие. К сожаленью, погруженный в раздумья, я пропустил мимо ушей несколько промежуточных, в описании Никанора Шамина, все ускоряющихся фаз, предшествующих возвращению человечества к себе назад, в долину. Памятная крутизна подъема сулила лавинную скорость предстоящего спуска. Словно и мне приходилось вместе со всеми проделать тот же путь, от беглого взгляда вниз, с колеблющимися былинками по краю, терялось равновесие, как при качке, становилось не по себе. Хотя речь шла о событиях, отодвинутых в немыслимую для вмешательства даль, впору было мне бежать сломя голову во всемогущую инстанцию, способную запретить даже еще несостоявшееся, как нередко поступают и с авторами, чтобы не пугали современников неподходящей жутью, а писали бы одно хорошее, не мрачное... И верно бы помчался, кабы не внезапное соображение, что необратимые последствия истории нельзя отменить одним лишь отнятием чернильницы, хлеба и даже жизни.
Но тут под предлогом неотложной надобности я отпросился у моего мучителя проветриться на крыльцо. В отмену метеорологических обещаний грозы не хватило на всю ночь. Теплая влажная мгла окутала старо-федосеевскую рощу. В промытой досиня тишине гулко перекликалась капель. Из-под низкого крылечного навеса видно было, как в чуть посветлевшем небе, при полном безветрии, все неслись в свою прорву рваные бесшумные облака. Фонарь от ворот сквозь отяжелевшие ветки слал мне в зрачок колкие звездные лучи. Они и помогли мне различить раскинутую во весь правый угол паутину, как раз в створе и на уровне головы. Хозяин был дома, не спал, но и не приступал к починке порванной кое-где ловчей снасти, пока не обсохнут на ней радужные дождинки. Почти вплотную, лишь бы не выдать себя дыханьем, я долго глядел ему в глаза, насколько удавалось отыскать их на его причудливом лице, да еще в предрассветных сумерках. Однако паучишко не проявлял готовность обсудить со мной Пифагорову теорему: просто не догадывался обо мне. Тем не менее зверь выглядел достаточно степенным, даже рассудительным, чтобы предположить в нем праотца каких-нибудь шестиногих мудрецов, которые подобно нам через миллион-другой веков по разбегу эволюции серийно выплеснутся из небытия на арену жизни. Не было гарантии, что и те наконец-то откроют меня, в непосредственной близи их наблюдающего. Зато никогда еще так убежденно не верил я в реальность неподозреваемых существ, ангела Дымкова в том числе, которого втайне считал дотоле игрой воображения. Подчиняясь суеверной потребности, огляделся я кругом и хотя к облегченью своему не обнаружил чьего-либо постороннего присутствия, поспешил вернуться назад, по меньшей мере вдвое сократив предоставленную мне передышку.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.