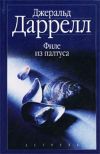Текст книги "Александрийский квартет"

Автор книги: Лоренс Даррел
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 53 (всего у книги 84 страниц)
«Лейла – это и в самом деле ты?» – спросил он почти невольно, все еще во власти чувства нереальности, расплывчатости всего и вся; как если бы два сна переплелись, наложились один на другой.
«Забирайся же», – повторил незнакомый голос неведомой новой Лейлы.
Он подчинился и шагнул вперед, в шаткую кабину кеба, и в ноздри ему ударила странная смесь запахов по основной канве ночного воздуха – еще один широкий шаг в сторону от давно канонизированного образа. Но – апельсиновая вода, мята, одеколон и кунжут вдобавок: от нее пахло как от престарелой арабской матроны! А потом он поймал еще и тусклую отдушку виски. Однако! – ей тоже пришлось перед встречей успокаивать нервы! Нерешительность и нежность боролись в его душе; прежний образ блистательной, умной, элегантной Лейлы как-то все не шел этой к темной фигуре. Лицо, он просто должен увидеть ее лицо. Словно прочитав его мысли, она сказала:
«Ну, вот я и приехала, без чадры, на встречу с тобой».
Он вдруг подумал – и вздрогнул: «Бог мой! Мне даже и в голову не пришло, а сколько же ей сейчас лет!»
Она сделала едва заметный знак, и старый извозчик в феске тронул свою клячу с места обратно, на освещенный макадам Гранд Корниш, тихим шагом. Резкий свет голубых уличных фонарей плеснул в кабину раз, другой, третий, и с первым же режущим глаз лучом света Маунтолив обернулся, чтобы взглянуть на женщину с собою рядом. Он увидел растолстевшую широколицую египетскую матрону неопределенных лет, с лицом, жестоко изуродованным оспой, и с глазами, гротескно доведенными сурьмой до полного неправдоподобия. То были живущие отдельной жизнью печальные глаза некоего нелепого персонажа – зверушка из мультика, она одета человеком и пытается двигаться подобно человеку. Поступок действительно смелый – снять чадру – со стороны нелепой этой незнакомки, которая сидела перед ним, с глазами, накрашенными, как на фреске, и с видом жалостным и жалким. К бывшему своему любовнику она повернулась вроде бы даже и с вызовом, но явно перенадеялась на собственную смелость – пальцы дрожали, и каждый толчок допотопных колес из литой резины рождал ответное колыхание массивного второго подбородка. Полных две секунды они глядели друг на друга не отрываясь, покуда тьма опять не поглотила свет. Затем он поднес ее руку к губам. Рука дрожала как осиновый лист. В стробоскопической вспышке света он сумел разглядеть нечесаные, спутавшиеся на затылке волосы, платье, вовсе ей не идущее и надетое в явной спешке. Все в ней было как-то наспех, на авось. И темная кожа, вся в рубцах и оспинах, казалась грубой, как кожа слона. Он ее не узнал – совершенно!
«Лейла!» – воскликнул он (то был почти уже стон), пытаясь сделать хотя бы вид, что он узнал ее, что он рад принять образ любовницы (растаявший, разбитый отныне навеки) из рук этой жалкой горгульи – разжиревшей египтянки, с отметинами возраста и вздорности, в буквальном смысле слова, на лбу. Каждый раз, как они проезжали мимо фонаря, он глядел на нее и каждый раз оказывался лицом к лицу все с той же зверушкой из комиксов – слоненок, бегемот? Он едва ли понимал, что она там говорит, настолько захвачен был суматохой воспоминаний и чувств.
«Я знала, придет день, и мы встретимся, я так и знала. – Она сжала его ладонь, и он опять почувствовал запах ее дыхания, тяжелую смесь кунжута, и мяты, и виски».
Она говорила, он беспокойно слушал, старательно, как слушают речь на чужом языке; и каждый раз, как являлся в окошке фонарь, опять с замиранием сердца поднимал на нее глаза – а не случилось ли внезапной, волшебной перемены. Потом его посетила еще одна мысль: «А что, если и я изменился так же сильно, как она?» В самом деле, что тогда? Когда-то, в далеком прошлом, они обменялись образами друг друга, как медальонами, как образками; теперь на своем он разглядеть ее не мог. Что она могла увидеть на его лице – отпечаток слабости, которая понемногу вытеснила его молодую целеустремленность и силу? Он давно уже вступил в ряды тех, кто ищет с жизнью компромиссов, изящных по возможности. Разве его беспомощность, нехватка твердости и прочих исконно мужских качеств не должна быть написана столь же явно на его глуповатом, безвольном, приятных мягких очертаний лице? Он посмотрел на нее скорбно, почти с отчаянием, пытаясь понять – а она-то, она его узнала? Он забыл, что женщина с дорогим ей образом не расстается никогда; ей быть навечно ослепленной любовью прежних дней, и она не позволит реальности хотя бы на йоту подкорректировать любимые черты.
«Ты и на день не постарел», – сказала незнакомка, дохнув еще одной волной дурного запаха. – Мой любимый, радость моя, мой ангел».
Маунтолив в темноте залился краской – такие слова из уст совершенно незнакомой с ним дамы. А Лейла – та Лейла? Он вдруг понял, что образ, лелеемый нежно, обитавший так долго в самых сокровенных глубинах его души, – исчез, растворился бесследно! Смыслосуть любви и времени внезапно встала перед ним во всей своей жестокой непреложности. Они, он и Лейла, навсегда утратили друг над другом власть, отныне их души друг для друга бесплодны! Там, где было место любви, он ощущал лишь жалость к самому себе и еще одно, неприятное, на брезгливость похожее чувство. А чувств подобных он себе позволить ни в коем случае не мог. Он ругался про себя, пока они тихо катались, туда-сюда, полутемной аллеей над морем, зимним и холодным, как два инвалида на прогулке перед сном, рука в руке, и сонный перестук копыт, и дребезжание колес. Она стала говорить теперь быстро, путано, перескакивая с предмета на предмет. Но основная нить была. Она явно подбиралась к какой-то главной теме. Завтра вечером ей ехать.
«Нессим так велел. Жюстин вернется с озера и заберет меня. Потом, в Кангаре, мы расстанемся, и я поеду в Кению, на ферму. Надолго ли – не знаю. Нессим не хочет говорить, не может. Я должна была повидаться с тобой. Мне нужно было хотя бы раз с тобой поговорить. Не о себе – не о нас с тобой, не о нашей любви. О том, что я узнала про Нессима, тогда, на карнавале. Я уже совсем собралась на свидание с тобой; и вдруг он рассказывает мне о Палестине! У меня просто кровь застыла в жилах. Да как же можно, против британцев, хоть что-то! А как же я? Нессим, он, наверно, просто сошел с ума. Я не пришла тогда, я просто не знала бы, что тебе сказать, как глядеть тебе в глаза. Ну вот, теперь ты знаешь все».
Она резко втянула воздух, поспешно, отчаянно, так, словно сказанное было только лишь прелюдией к основной, главной теме. И вдруг ее прорвало.
«Египтяне, они же погубят Нессима, а британцы их на это толкают. Дэвид, это же в твоих силах, ну сделай хоть что-нибудь. Я прошу тебя, спаси моего сына. Спаси его, я тебя умоляю. Ты должен выслушать меня, ты должен мне помочь. Я ведь никогда тебя раньше ни о чем не просила».
В потеках слез и туши она показалась ему совсем уже незнакомой. Он, заикаясь, начал что-то бормотать. И вдруг она выкрикнула в голос:
«Я тебя умоляю, помоги мне!» – и, к полному его смятению, принялась стенать и раскачиваться, как арабка.
«Лейла! – закричал он. – Прекрати!»
Но она уже не слышала его, она раскачивалась из стороны в сторону, повторяя: «Только ты теперь можешь его спасти» – скорее, казалось, для себя самой, чем для кого бы то ни было еще. Потом она попыталась встать, прямо в кебе, на колени и поцеловать его ноги. Маунтолива к этому времени уже просто трясло – от изумления, отвращения и ярости. Они уже в десятый раз проезжали мимо «Auberge».
«Если ты сейчас же не прекратишь!.. – выкрикнул он зло, но она опять взвыла – он дернулся и неловко, как-то боком выскочил на дорогу. Какая гнусность заканчивать свидание с ней вот так. Кеб остановился. Он сказал, ощутив себя полным идиотом, голосом, который сам услышал словно бы издалека, лишенным всякого выражения, кроме разве что оттенка некой старомодной желчности: – Я не имею права обсуждать официальные материи с частным лицом. – Фразу более абсурдную придумать было бы трудно. Еще не договорив до конца, он уже не знал, куда ему деваться от стыда. – Лейла. До свидания, Лейла», – сказал он торопливо, на полушепоте и, прежде чем повернуться спиной, пожал ей еще раз руку. И едва не побежал. Он отпер машину, забрался в нее, задыхаясь, захлебываясь чувством глупости, невообразимой совершенно. Кеб уже ехал по темной аллее прочь. Он сидел и смотрел, как темный громоздкий силуэт не спеша свернул на Корниш и исчез. Потом прикурил сигарету и включил зажигание. Ему вдруг некуда стало ехать. Всякое желание, всякий мало-мальский значимый импульс – растаяли, ушли бесследно.
После долгой паузы он поехал, медленно и осторожно, обратно к Летней резиденции, еле слышно разговаривая сам с собой. Света в окнах не было, и он отпер дверь сам, своим ключом. Он бродил из комнаты в комнату, повсюду включая свет: одиночество сообщило ему какую-то странную легкость, даже легкомысленность; выговаривать слугам за небрежение своими прямыми обязанностями не хотелось, да и смысла не было – он же сам сказал Али, что ужинать будет в городе. Потом долго ходил взад-вперед по гостиной, засунув руки в карманы. Нетопленые комнаты пахли сыростью; глядевшее с укоризной постное лицо настенных часов сказало ему – и всего-то начало десятого. Резко повернувшись, он прошел в коктейль-кабинет, налил виски с малой толикой содовой и опрокинул в себя одним движением, как лекарство. Его мозг еле слышно жужжал, словно провод под высоким напряжением. А почему бы и в самом деле не поехать куда-нибудь и не поужинать в одиночестве? Но куда? Александрия, вся, и весь Египет с нею вдруг стали противны донельзя и легли ему на душу бременем гнетущим и мерзким.
Он выпил кряду еще несколько порций виски, радуясь непривычному ощущению тепла в крови – обычно он пил весьма умеренно. Лейла как-то вдруг оставила его лицом к лицу с реальностью, которая, как ему теперь казалось, всегда таилась за пыльными гобеленами его романтических представлений о мире. В каком-то смысле она и была – Египет, его личный Египет для-внутреннего-пользования; теперь же этот старый, милый его сердцу образ был ошкурен, как картофелина, раздет донага. «Больше пить не стоит, несдержанным быть не стоит», – сказал он сам себе, опрокидывая очередной стакан. Да, именно! Он никогда не был несдержан, никогда не был естественным до конца, не выходил за рамки приличий – ни разу в жизни. Он вечно прятался за умеренностью, за компромиссом; и эта его ущербность как раз и лишила его теперь прежней картины Египта, из которой он так долго тянул соки. Неужели выходит, что всё, всё это ложь?
Он почувствовал, как подалась под напором извне какая-то дамба, некий барьер в его душе готов был рухнуть. Ему вдруг пришла в голову мысль, имевшая восстановить утраченные связи с живой жизнью этой воплотившейся в женском теле страны, мысль сделать нечто, чего он не делал со времен далекой юности: он поедет в город и поужинает в арабском квартале, просто и скромно, как какой-нибудь мелкий служащий, или лавочник, или торговец. В маленьком ресторанчике с национальной кухней он съест жареного голубя с рисом и тарелочку засахаренных фруктов; ужин отрезвит его и успокоит, в то время как сопутствующий фон восстановит в нем чувство контакта с реальностью. Он даже и вспомнить не мог, когда в последний раз он был настолько пьян и бывал ли он настолько пьян вообще. Думать было трудно, между мыслями мешались невнятные и юркие, как рыбы, самообвинения.
С этим расплывчатым, наполовину сложившимся планом он вышел в холл и отыскал в углу буфета красную фетровую феску, забытую кем-то из гостей прошлым летом после коктейля. Он как-то вдруг о ней вспомнил. Она валялась там вместе с ничейными клюшками для гольфа и теннисными ракетками. Он хихикнул и надел ее на голову. Внешность его переменилась совершенно. Нетвердо стоя у зеркала, он поразился происшедшей перемене: он видел перед собой не наделенного высокими полномочиями европейца, знатного гостя из миров иных, но – un homme quelconque[314]314
Человека случайного (фр.).
[Закрыть]: сирийский делец, маклер из Суэца, представитель тель-авивской авиакомпании. Не хватало одной-единственной детали, чтобы этот левантинский образ стал убедителен совершенно, – темные очки, и не снимать их даже в помещении, зимой! В верхнем ящике стола у него как раз лежала пара.
Он поехал, не торопясь, к маленькой площади у вокзала Рамлех, с абсурдным чувством удовольствия от своего маскарада, и пристроил машину – стык в стык – на парковке у отеля «Сесиль»; потом запер ее и тихо пошел прочь, с видом человека, решившего оставить прошлое за спиной, – пошел, наслаждаясь новым, непривычным ощущением полной власти над собственным телом, в сторону арабского квартала, где его наверняка ждал тот самый ужин, которого он искал. На Корниш он пережил один-единственный неприятный момент, заставивший всколыхнуться уснувшие было мертвым сном сомнения и страхи, – он увидел, как чуть поодаль перешла дорогу знакомая фигура и двинулась ему навстречу. Крадущейся походки Бальтазара не узнать было просто невозможно; Маунтолива захлестнуло жаркой волною робости и стыда, но останавливаться он не стал. К его полному восхищению, Бальтазар глянул на него мельком и тут же отвернулся, не узнав старого друга. Они оба без запинки проскочили дальше, и Маунтолив шумно выдохнул – фу ты, ну ты; и все-таки странно, насколько же способен изменить человека сей вездесущий головной убор, как властно воздействует он на очертания лица. Еще и темные очки! Хихикая под нос, он повернулся спиной к морю и углубился в путаницу переулков, которые должны были вывести его к арабским базарам и ресторанчикам у торгового порта.
Сто против одного, что в этих-то местах никто его не узнает, просто некому его здесь узнавать – европейцы редко появляются в этой части города. Район, расположившийся по ту сторону квартала красных фонарей, населенный мелкими торговцами, ростовщиками, перекупщиками кофе, владельцами торговых флотилий в одну-две фелуки, контрабандистами; здесь, прямо на улице, одолевало такое чувство, словно время разостлано плоско, как воловья шкура; карта времени, которую ты волен читать из конца в конец, понемногу заполняя отметками случайных совпадений. Сей мир мусульманского летосчисления разворачивался вспять, ко временам Отелло, и даже дальше – кафе, под самый потолок залитые сладкими трелями канареек в клетках, где по периметру зеркала́, чтоб канарейке казалось, что она не одна. Любовные песни к воображаемым предметам страсти – которые суть всего-то-навсего твое же собственное отражение! Как душераздирающе пели они, живые воплощения любовей человеческих! Здесь же, в смрадном дыхании горящей нафты, сидели за триктраком пожилые евнухи, покуривая длинные наргиле, и каждая затяжка сопровождалась тихим музыкальным бульканьем, похожим на сдавленные рыдания голубей; стены в пятнах пота от висящих на гвоздиках фесок; целые коллекции разноцветных наргиле, рядами, в длинных стеллажах, как мушкеты, ибо каждый курильщик почитал своим долгом иметь в кафе свой собственный, особый. И здесь же гадалки, гадатели – за полпиастра вам намажут синими чернилами ладонь и вытянут наружу все сокровеннейшие тайны судьбы. Здесь коробейники носили в волшебных своих коробах разнообразные, не схожие между собой ни формою, ни способом применения предметы, обладающие vertu[315]315
Свойством (фр.), здесь – свойствами магическими или целебными.
[Закрыть], от мягких, как пух чертополоха, ширазских и белуджистанских ковров до карт марсельского Таро; хиджазский ладан, зеленые бусины от сглаза, гребни, семена, зеркальца для птичьих клеток, пряности, амулеты, бумажные веера… список можно продолжать до бесконечности; и у каждого, в особом бумажнике, конечно – как индульгенции, – плоды всемирного порнографического древа, на открытках ли, на носовых платках: во всех возможных, но равно унизительных вариациях тот единственный акт, о коем грезят человеческие существа и коего боятся. Таинственная, скрытая, вечно текущая подземная река секса, которая споро проникает сквозь все преграды, возводимые капризнейшими из законов, сквозь вечные стенания аскетов, под биение в грудь и выдирание волос… широкая подземная река, от Петрония до Фрэнка Харриса[316]316
Фрэнк Харрис (1856–1931) – английский журналист и издатель. В конце XIX века редактировал ряд видных периодических изданий («Фортнайтли Ревью», «Сэтеди Ревью»), внося всякий раз свежую литературную струю. Уже в те времена заработал репутацию ниспровергателя викторианских нравов. Его во многом скандальная известность связана в первую очередь с публикацией в середине 20-х годов совершенно недостоверных четырехтомных мемуаров «Моя жизнь и влюбленности», которые произвели на читающую публику впечатление, в чем-то сходное с впечатлением (через десяток лет) от ранней прозы Хенри Миллера.
[Закрыть]. (Безвольный дрейф, совокупление идей и образов в пьяной голове Маунтолива, возникают и вянут картинки, изящные, хоть и сформулированные едва наполовину фразы, мыльная пена, радужные пузыри.) Он чувствовал себя великолепно; к опьянению, незнакомому ранее, он привык и пьяным себя уже не ощущал; в нем просто-напросто проснулось грандиозное чувство достоинства и собственной значимости, отчего движения стали легкими и уверенными – необычайно. Он шел нарочито медленно, как беременная женщина в ожидании срока, жадно впитывая ощущения и звуки.
В конце концов, после долгой прогулки, он зашел в небольшую таверну, привлекшую его внимание открытыми жаровнями внутри, выпускавшими время от времени прямо под потолок большие клубы ароматного дыма; запах тимьяна, жареных голубей и риса вызвал у него внезапное чувство голода. Кроме него за столиками сидели буквально один-два посетителя, и видно их было сквозь чад едва-едва. Маунтолив с видимой неохотой опустился на стул, делая, так сказать, одолжение закону всемирного тяготения, и на великолепном своем арабском сделал заказ; очков и фески он снимать не стал. Теперь уже было совершенно ясно, что он вполне сойдет за мусульманина. Хозяин был огромный лысый турок с раскосым татарским лицом; посетителя он обслужил моментально и без единого слова. Так же молча он поставил рядом с тарелкой стакан и налил его – всклянь – бесцветным араком из смолы мастикового дерева, называемого здесь просто мастикой. Маунтолив глотнул, и задохнулся, и поболтал языком во рту – язык вдруг стал ватным, – но сам он был в восторге совершеннейшем. Он в первый раз в жизни пил коренной левантинский напиток, да уже и забыть успел о самом существовании таковых. Забыл он и о том, какие они обычно крепкие, и, поддавшись очарованию ностальгии, заказал второй стакан, чтобы достойно сопроводить великолепный плов и голубя (такого горячего и брызжущего жиром, что пальцы едва терпели). В данный непосредственно момент он находился на седьмом небе от счастья. Он возвращал себе, реставрировал, покрывал пооблетевшей позолотой размывшийся было после встречи с Лейлой образ Египта, едва не ушедший совсем, едва у него не украденный.
На улице рокотали тамбурины, и детские голоса выводили нечто вроде литании; маленькие группки детей перебегали от ресторанчика к ресторанчику, повторяя снова и снова одну и ту же песенку. После третьего повторения он смог различить слова. Ну, конечно!
О Господи, следи
За деревом судьбы
И к листьям не пускай
Коварный сок греха —
Мы дети неразумные твои!
«Ну, будь я проклят», – сказал он, пропустив по горлу обжигающий глоток арака и улыбнувшись, ибо смысл этих маленьких процессий стал теперь совершенно ясен. Напротив, у окна, сидел почтенный старый шейх и курил наргиле с невероятно длинным чубуком. Подняв благородных очертаний старческую руку ладонью к шуму, он воскликнул:
«Аллах! Как шумят эти дети!»
Маунтолив улыбнулся ему и сказал:
«Поправьте меня, если я ошибаюсь, господин мой, они ведь поют об Эль Зирд, не так ли?»
Лицо старика озарилось ответной улыбкой, улыбкой святого, и он кивнул:
«Вы верно угадали, господин мой».
Маунтолив очень сам себе понравился и преисполнился пуще прежнего настальгией об ушедших, полузабытых временах.
«Значит, сегодня ночью, – сказал он, – середина Шаабана, и сотрясется сегодня Древо Судеб Человеческих. Не ошибся ли я на сей раз?»
И снова – восхищенная улыбка и кивок.
«Кто знает, – отозвался старый шейх, – не написаны ли на тех листьях, коим судьба упасть, оба наших имени? – Он пыхнул дымом, уютно, самодостаточно, как игрушечный паровозик. – Неисповедимы пути господни».
Существует поверье, что в ночь середины Шаабана сотрясается Древо Лотоса в раю и на падающих листьях написаны имена тех, кому в наступающем году суждено умереть. В некоторых текстах древо это именуется Деревом Судьбы, или Деревом Бренности Людской. Маунтолив так обрадовался, вспомнив эту короткую песенку и угадав ее смысл, что заказал еще один стакан, последний, и выпил его стоя, пока расплачивался за ужин. Старый шейх оставил свой наргиле и подошел к нему сквозь чад. Он сказал:
«Эфенди мой, я понял, зачем вы сюда пришли. То, что вы ищете, я вам доставлю». – Он положил два темно-коричневых пальца Маунтоливу на запястье и говорил уверенно и тихо, как человек, которому есть чем поделиться. Лицо его лучилось достоинством и святостью отца-пустынника. Маунтолив был от него просто в восторге.
«Почтеннейший шейх, – сказал он, – поясните непонятливому гостю из Сирии смысл ваших слов.
Старик поклонился дважды, подозрительно огляделся и сказал:
«Окажите мне любезность, следуйте за мной, премногоуважаемый господин мой». – Два своих коричневых пальца он так и оставил у Маунтолива на запястье, словно слепой.
Они вместе вышли на улицу; романтическое сердце Маунтолива яростно билось – не на пороге ли он мистического некоего озарения, не явлен ли будет ему тайный символ истинной веры? Он столько понаслушался историй о тайнах базаров, о пророках, скитающихся в ожидании, готовых выполнить в любой момент некую тайную миссию по поручению миров неведомых, божественных, строго охраняемых вселенных тайнознания. В мягком облаке тайны они пошли рука об руку, пошатываясь и восстанавливая равновесие через каждые несколько шагов, после чего шейх неизменно награждал своего спутника благосклоннейшей из улыбок. Вдвоем, небыстрой сей походкой, брели они по темным улицам, которые ночь уже успела превратить в систему сложносочиненных тоннелей и бесформенных пещер, по-прежнему отзывавшихся приглушенной гнусавой музыкой и резкими, злыми голосами из-за толстых стен и заложенных ставнями окон.
Маунтолив, с его обострившимся чувством ко всему необычному, с радостной готовностью удивлялся красоте и тайнам этого волшебного города теней; то здесь, то там масляный светильник или одинокая электрическая лампочка на хилом проводке, раскачивающаяся отрешенно в порывах ночного ветра, вызывали из тьмы вполне узнаваемые очертания. Наконец они свернули на какую-то длинную улицу, украшенную разноцветными флагами, а потом – в темный – хоть глаз коли – дворик, где от земли шел смутный запах верблюжьей мочи и жасмина. Впереди маячил дом в окружении толстых стен: просто силуэт на фоне ночного неба. Они вошли в длинное, неправильной формы помещение сквозь высокую дверь, стоявшую открытой настежь, и нырнули во тьму еще более темную. Постояли пару секунд, переводя дыхание. Маунтолив скорее ощутил, чем увидел изъеденные жучком деревянные лестницы, идущие вдоль стен на верхние, явно заброшенные этажи, услышал царапчатую беготню и перевизгиванье крыс в безлюдных коридорах наверху и еще что-то – звук, явно имеющий отношение к человеческим существам, вот только он забыл, в каком контексте. Они пошли куда-то вдоль по темному коридору, полы изъедены настолько, что подавались под ногой, потом, войдя в какую-то дверь и пригласив его следом, старый шейх любезным тоном проговорил:
«Чтобы скромные наши удовольствия не показались вам менее разнообразными, чем у вас на родине, эфенди мой, я и привел вас сюда. – И, следом, шепотом: – Подождите меня здесь, я сейчас».
Маунтолив почувствовал, как пальцы соскользнули с его запястья прочь, а потом – выдох двери, закрывшейся у самого плеча. Какое-то время он стоял и ждал, доверчивый, сосредоточенный донельзя.
Тьма стала вдруг настолько плотной, что свет, как ему показалось на секунду, пришел откуда-то очень издалека, чуть не с неба. Словно кто-то открыл и закрыл на небесах дверцу топки. И только-то – вспыхнула спичка. Но в желтом ее неровном свете он обнаружил, что стоит в длинной комнате с высоким потолком, с облупленными, осыпавшимися кое-где стенами, покрытыми граффити и темными отпечатками ладоней – знак, оберегающий суеверных от сглаза. Из мебели был один только гигантский продавленный диван, стоявший прямо посередине, как саркофаг. Единственное окошко – все стекла до единого разбиты – понемногу впечатывало в сетчатку глаза островок тьмы иного, чем в доме, оттенка, синеватого, с пылинками звезд. Он посмотрел на неровный, судорожно пляшущий язычок огня и снова услыхал над головой крысиный топоток, а потом еще другой звук, слитный из многих, из шепота, хихиканья и легких шагов босых ног по доскам пола… Он вдруг подумал о девчоночьей спальне в закрытой школе; и, словно вызванная к жизни самой этой мыслью, сквозь отворенную настежь дверь в дальнем конце комнаты хлынула стайка маленьких, одетых в засаленные ночные рубашонки фигурок: словно падшие ангелы. Он угодил в детский бордель, дошло до него вдруг, и его всего перевернуло от отвращения и жалости. Маленькие лица под толстым слоем макияжа, волосы заплетены в косички, с бантиками. Зеленые бусины от сглаза. Таких можно увидеть на греческих вазах – выплывающими из могил и склепов со скорбным видом преступников, которые спасаются от правосудия. У передней в руках был источник света – скрученный кусок бечевки в остроконечной глиняной лампе с оливковым маслом. Она нагнулась, поставила сей блуждающий огонек в углу на пол, и сразу же острые детские тени прыгнули на потолок, подобно сонму поверженных бесов.
«Ради Аллаха, нет, – сказал Маунтолив хрипло и повернулся, чтобы открыть дверь. Дверь была заперта с той стороны на деревянную щеколду, и открыть ее изнутри не представлялось возможным. Он приставил губы к отверстию для ключа-кочерыжки и позвал негромко: – О, шейх, куда ты подевался?»
Крошечные фигурки подошли совсем близко и обступили его, хором бормоча жалкие непристойности, сюсюкая нежно голосами скорбящих ангелов; он почувствовал теплые ловкие пальчики у себя на плечах и в рукавах пальто.
«О, шейх, – позвал он снова, передернув плечами, – я вовсе не этого искал».
Но за дверью царило молчание. Проворные детские ручки обвивались вокруг него, как лианы в джунглях, пальцы пробовали пуговицы на пальто. Он стряхнул их прочь и повернулся к ним, бледный, с невнятным возгласом протеста. Но тут кто-то из девочек нечаянно опрокинул примитивную лампу, и в темноте он почувствовал, как пламенем по сухой траве разрослись в них напряжение и тревога. Его протест мог означать опасность упустить богатого клиента. Теперь в их голосах звучали тревога, злость и даже нотки страха, они и пытались к нему подольститься, и вроде бы даже пугали: одному только небу известно, какие их ждут наказания, если он сейчас уйдет! Они снова стали цеплять его за пальто; он чувствовал мельтешение их маленьких худых телец вокруг, они пыхтели, они лезли, назойливые, как мошкара, решившие не упустить его во что бы то ни стало. Пальцы бегали по нему, как муравьи, – и в самом деле, ему пришло на память вычитанное как-то раз и невесть почему осевшее в памяти: человека привязали к термитнику под раскаленным солнцем, и термиты мигом объели с костей все, вплоть до последнего волокна.
«Нет!» – выкрикнул он снова, заплетающимся языком; некий абсурдный запрет мешал ему бороться по-настоящему, хотя он прекрасно понимал, что серия жестоких, всерьез, ударов только и может проложить ему дорогу к спасению. (Самые маленькие были и впрямь совсем еще крохи.) Они уже завладели его руками и теперь карабкались на спину, вспышкой – абсурдное воспоминание из детства о подушечных баталиях в школьном дормитории. Он бешено забарабанил в дверь локтем, и они заголосили пуще прежнего подвывающими голосами: «О, эфенди, покровитель бедных, спасение в несчастьях наших…» Маунтолив застонал и дернулся еще раз, но тут же почувствовал, как теряет вертикаль; его нетвердые колени подались, и тут же натиск был удвоен с лихорадочной, торжествующей яростью.
«Нет! – закричал он отчаянно, и хор голосов ответил ему: «Да. Да, ради Аллаха!» Они ползали по нему в темноте, и несло от них как от козьего стада. Смешки, непристойный шепот, грубая лесть и ругательства громоздились друг на друга в его затуманенном мозгу. Он почувствовал, что вот-вот потеряет сознание.
И вдруг все прояснилось – как будто отдернули занавес, – и он сидел за ним сам, рядом с мамой, перед ревущим в камине огнем, и на коленях книжка с картинками. Она читала вслух, а он пытался следить за ней по книге; но взгляд все время перебегал на большую цветную иллюстрацию, на которой был изображен Гулливер, попавший в плен к лилипутам. Картинка была великолепна невероятной тщательностью прорисовки. Герой, с тяжелыми руками и ногами, лежал на спине, накрытый и притянутый к земле совершенно осязаемой паутиной тросов, а люди-муравьи ползали по всему телу, натягивая новые тросы, вбивая колышки так, чтобы любая попытка вырваться окончилась ничем. Была в этом рисунке злобная анатомическая точность: запястья, щиколотки, шея привязаны намертво, меж пальцами тяжкой руки также набиты колышки, чтобы пришить бечевками каждый палец в отдельности. Тонкие пряди волос туго намотаны на плотно прижатые к земле крохотные брусья. Даже фалды камзола аккуратнейшим образом пришпилены вдоль по складкам. Он лежал, глядя в немом изумлении в небо; широко раскрытые голубые глаза, губы поджаты. Армия лилипутов сновала по телу его с тачками, кольями, мотками веревки; в движениях сквозит лихорадочное возбуждение муравьев, сладивших с большой добычей. И все это время, выходит, Гулливер так и лежал себе на зеленой траве Лилипутии, среди мириад микроскопических цветов, как цеппелин на приколе.
Очнулся он (не имея ни малейшего понятия, как выбрался из борделя), лежа животом на совершенно ледяном каменном парапете Корниш, лицом к рассветному морю; море сонно перекатывало через каменные пирсы пологие холмы волн и текло обратно, захлебываясь в водоводах само собой. Он помнил только, как бежал, спотыкаясь, по кривым темным улочкам, как пересек дорогу и вышел к морю. Бледная, чисто умытая заря занималась над кочковатой серой бездной, легкий влажный бриз принес ему тошнотворный запах смолы и соленой воды. Он чувствовал себя загулявшим матросом, которого забыли на берегу в чужом порту, на другом конце света. Карманы были вывернуты, как рукава, наизнанку. Из вещей на нем остались только брюки да рваная сорочка. Дорогие запонки и булавки для галстука исчезли, бумажника тоже не было. Его невыносимо тошнило. Но, постепенно приходя в чувство, он заодно понял, где находится: блеснул между пальмами луч света на куполе мечети Гохарри. Скоро слепые муэдзины выползут, как замшелые черепахи, чтоб вознести утреннюю молитву Богу Единому, Живому. Машину он оставил где-нибудь в четверти мили отсюда. Без фески и темных очков он чувствовал себя совершенно голым. Тяжелой рысцой он пустился бежать вдоль каменного парапета Корниш, радуясь, что вокруг нет никого, кто мог бы его узнать. Пустая площадь у отеля только-только продирала глаза с первым утренним трамваем. Трамвай прогрохотал в сторону Мазариты – пустой. Ключи от машины ушли вместе со всем прочим, и ему пришлось решать задачу весьма унизительного свойства, а именно: взломать замок вынутым из туфли супинатором – в постоянном предощущении паники, ибо в любую минуту мог появиться полицейский и задать вопрос, и вопрос вполне законный, а то и свести его до выяснения в участок. Он буквально кипел от презрения к самому себе, от унижения, и еще болела голова, очень. В конце концов дверцу он взломал и понесся на бешеной скорости – к счастью, в машине остались ключи шофера – вдоль по пустынным улицам, к Рушди. Ключ от парадного был также утерян в бою, и он был вынужден взломать запор на одном из окон гостиной, чтобы забраться в дом. Сперва ему казалось: он примет душ, переоденется, заберется в постель и проспит до полудня, но, стоя под горячими струями воды, он понял, что уснуть не сможет, слишком расходились нервы; мысли копошились, жужжали в голове, как пчелиный рой, – какой уж тут сон. Внезапно он принял решение уехать в Каир немедля, прежде чем проснутся слуги. Он боялся, что не сможет смотреть им в глаза.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.