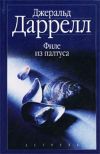Текст книги "Александрийский квартет"

Автор книги: Лоренс Даррел
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 80 (всего у книги 84 страниц)
Рисунок 17-го аркана, Звезды, изображает обнаженную девушку, которая стоит на одном колене и льет на землю Воду Универсальной Жизни («живая вода») из двух кувшинов. За ней – заросли, на одном из цветов сидит бабочка (вариант – ибис на ветке кустарника). Над головою у нее – семь звезд и еще одна, очень яркая. Это, пожалуй, наиболее безмятежный и жизнеутверждающий аркан во всей колоде (ср. традиционное восприятие звезды как символа надежды), хотя стоит он между двумя самыми мрачными – «упадком и крахом» Падающей башни (№ 16) и мертвенной стылостью Луны (№ 18). Девушка, изображенная на рисунке, такой же сквозной персонаж колоды, как и мужчина – герой Влюбленного, Отшельника, Повешенного, Дурака и Мага. До конечного воплощения в Звезде (и окончательного – в Абсолюте, № 22) она фигурирует еще в трех арканах – Справедливости (№ 8), Силе (№ 11) и Сдержанности и рассматривается Дарреллом, очевидно, как вероятный архетип восхождения женской души. Такое толкование в названной последовательности арканов не выглядит безупречно логичным, но, по сути, непротиворечиво. Клеа, которая завершит собой череду александрийских возлюбленных Дарли и вырвется параллельно с ним из тенет Города (читай – мира) во вселенную свободы и творчества, в таком случае вполне логично завершает таротную цепочку в роли Звезды.
Звезда – знак вечного обновления и бессмертия, возрождения из мертвых и преодоления ограниченности телесного. Клеа, умершая было («Клеа») для мира и творчества в морской пучине возле островка Наруза, возрождается обновленной. Буква Фхе, соответствующая Звезде, имеет примитивный иероглифический смысл «рот и язык» и символизирует Слово. Астрологическое соответствие Звезды – Меркурий, к Слову-Логосу добавляется слово как область Гермеса, параллельное таротной масти денариев. Имеется в виду также и третья функция слова – творческая, целительная и инструментальная, область Гермеса Трисмегиста. Что ж, образ достаточно емкий для создания ассоциативного фона для новой Клеа, преодолевшей творческую ограниченность, свойственную Клеа прежней, которая жила без любви, лишенной чувства юмора (что может быть страшнее у Даррелла!) «ганноверской гусыни», словно замороженной в ожидании волшебного пробуждения. Этот же комплекс идей заодно бросает отсвет и на «прорвавшегося» одновременно с ней Дарли.
Аркан Мелиссы, Сдержанность, связан со Звездой достаточно прочно – и общим персонажем (на рисунке изображена та же девушка, но одетая и переливающая воду жизни из золотого сосуда в серебряный), и числовыми закономерностями (для арканов с 13 по 18 базовое число – 31. 14 + 17 = 31). Связь эта вполне отчетливо прочитывается и в тексте. Клеа принимает смерть Мелиссы, и та просит добровольную сиделку «заменить ее для Дарли». Так в «Бальтазаре» подготовлена вполне очевидная для того же Дарли параллель между Мелиссой и Клеа, которая возникнет в последнем романе «Квартета». Дарли встретит Клеа после возвращения в город в том же кафе, за тем же столиком и в той же позе, что и Мелиссу когда-то, далее то и дело будут возникать «параллельные» ситуации, уже звучавшие фразы, уже мелькавшие образы.
Таротная Сдержанность связана с идеей незаметного наполнения материи духом, а также с индивидуализацией существования в его телесной оболочке. Буква Нун, соответствующая этому аркану, находясь в конце слова, обладает свойством индивидуализировать его значение. Сходна и роль Мелиссы в дуэте с Дарли. Незаметная маленькая танцовщица из второразрядного ночного клуба, которая подрабатывает проституцией и откровенно проигрывает в сопоставлении с яркой, ни в чем не знающей себе отказа интеллектуалкой Жюстин, именно и создает те условия, в которых происходит становление творческой индивидуальности Дарли. Жюстин же (не говоря о том, что она просто использует Дарли) способна лишь вампирически тянуть из него необходимую ей энергию. Некоторые сюжеты прочитываются даже на аллегорическом уровне. Так, Мелисса, «выкупившая» долги Дарли у Да Капо, – это Сдержанность, спасающая Влюбленного из тенет Дьявола. Сделав свое дело, она еще и предупреждает Дарли: «…и никогда не имей с ним больше дела. Он – другой, не такой, как ты». Женская душа, живущая в Мелиссе, безнадежно привязана к материальному миру, больна им: именно в этом, если разобраться, и заключается диагноз, который старый греческий доктор ставит ей еще в самом начале тетралогии, и именно от этого заболевания лечит лекарство, прописанное ей Амарилем, – «если бы она могла быть хоть немного любима». В романе «Жюстин» возникает в связи с Мелиссой яркий образ газели, привязанной к водяному колесу, – помимо общей «мирской» символики колеса, усугубленной здесь явной тяжестью и бессмысленностью пути «в круге», здесь содержится и другой намек – эта душа не предназначена слепо вращаться в колесе Сансары. Здесь, пожалуй, самое время еще раз забежать немного вперед – туда, где речь пойдет о предсмертной «шутке» Мелиссы. Да, Персуорден своим самоубийством заставил всю Александрию включиться в куда как серьезную для всех ее участников, но абсолютно шутовскую по уровню их несвободы – до полной марионеточности – погоню друг за другом («Маунтолив»). Но когда будете читать «дальше», обратите внимание на едва ли не мимоходом поданную постельную сцену между Персуорденом и Мелиссой. Ведь информацию, собственно и сделавшую возможной это самоубийство, «подкинула» ему походя именно она. И речь здесь вовсе не о преднамеренном шаге, хотя Дарли в свое время и поражался, получая от Мелиссы письма – тонкие и умные, как если бы их писала незнакомая ему женщина (и впрямь незнакомая, ведь настоящей Мелиссы он так и не разглядел, хотя и тянулся к ней, ведомый интуицией Влюбленного). Взаимодействие персонажей у Даррелла здесь, очевидно, переходит на более высокий уровень: как любовь – игра – совместный путь Художника («мужская» линия арканов) и Женщины («женская» линия). Потому-то Мелисса и может умереть улыбаясь, ведь она «передает полномочия» Клеа. До смерти Мелиссы Клеа творчески и духовно бесплодна и изливает себя лишь в сентиментальной благотворительности да в воспоминаниях о стерильной любовной связи с Жюстин. По-настоящему искать – влюбляться, уезжать из Города, пробовать писать по-новому – она начинает именно после этой смерти. Долго копившая духовный потенциал, до времени скрытый (Сдержанность!), Мелисса Артемис (не случайно это имя, имя девственной богини-охотницы) и в самом деле передает Клеа эстафету, импульс духа, как Персуорден – Китсу и Дарли.
Итак, с помощью таротного скелета романа «Бальтазар» и всего «Квартета» мы выходим на истинных действующих лиц тетралогии, надличностных персонажей [458]458
Еще один прием, позаимствованный Дарреллом у Марселя Пруста.
[Закрыть], названных, кстати, и в самом тексте. Дарли, в очередной раз размышляя о времени, о любви и творчестве, в качестве синонимических употребляет цепочки Прошлое – Настоящее – Будущее, Арноти – Персуорден – Дарли, Жюстин – Мелисса – Клеа («Клеа», «Бальтазар»).
И немного мозаики под конец – таротные ниточки из «Квартета» можно тянуть еще долго. Так, согласно «числовым» закономерностям Таро, в единый сюжетный ряд выстраиваются Император, Смерть и Падающая башня, причем последние два аркана связаны с мастью мечей напрямую (прообраз неудачной авантюры Нессима. Смерть в данном случае – начальник египетской службы безопасности Мемлик, в тексте «Маунтолива» имеются к тому достаточно веские основания). То же самое относится к Влюбленному – Императрице – Дьяволу (сюжет романа «Жюстин»), Повешенному – Отшельнику – Дураку (тема Художника) и т. д.
4. Тема смерти в «Бальтазаре» и образ Александрии
Об одной из связанных с таротной символикой тем я хотел бы поговорить отдельно. Во-первых, исходя из сугубой важности ее для восприятия «Квартета», а во-вторых – из того, что, как и в случае с Дьяволом, роль таротного аркана здесь – пояснить собственно даррелловскую интерпретацию темы общекультурной. Речь о смерти.
Первоначальное название «Квартета» – «Книга Мертвых» – явно отсылает читателя к одноименному древнеегипетскому тексту, имевшему целью приготовить живущих к будущим странствиям в загробном мире. Даррелловская же «Книга Мертвых» ориентирована не на будущее, а на настоящее, ибо Подземный Мир здесь – сама Александрия. В тексте тетралогии достаточно скрытых параллелей между Царством Смерти и Александрией, но для наглядности прибегну к единственной фразе, где эта связь открыто демонстрируется. На первой странице романа «Клеа», содержащего «ключики» практически ко всем символическим рядам «Квартета», Дарли, который возвращается со своего острова обратно в Город, пишет: «…долгожданное посланье от Нессима наконец пришло – как повестка назад, в Царство Мертвых»[459]459
Даррел Л. Клеа. С. 738.
[Закрыть].
В «Жюстин» тема смерти, Александрии как Города Мертвых, звучит на заднем плане. Но в «Бальтазаре» смерть заявляет права на роль примы с первой же страницы романа. Лирический гимн Александрии, которым, как и в «Жюстин», открывается книга, существенно меняет оркестровку. Вся Дельта, а вместе с ней и Город, окрашивается в мертвые тона металла и камня: «Мелкая, цвета львиной шкуры, пустынная пыль: надгробия пророков отблескивают цинком и медью на закате над озером» (для пояснения приведу цитату из «Черной книги»: «Воздух полон тонкой пыли от могил в пустыне – идиомы смерти у арабов» [460]460
Durrell L. The Black Book. P. 20.
[Закрыть]). «Мертвый Тапосирис, развалины маяка и опрокинутые колонны храма, исчезли Люди с Гарпунами…» (первое упоминание об оружии, коему суждено «убить» Клеа). Единственное дерево, допущенное сюда, – естественно, кипарис. Освежающее дыхание моря просачивается в город между бортов военных кораблей – постоянного элемента александрийского пейзажа в «Квартете». Они еще сыграют свою партию в Даррелловом тотентанце, пока же они – лишь источник смутного ощущения угрозы. Даже оправдывая свое возвращение к событиям, описанным уже в предыдущем романе (первое «хе», антитеза – «Но если хочешь идти вперед, научись сначала возвращаться…»), Дарли прибегает к образу, в котором символика смерти очевидна. «Я смог лишь набросать эскиз – так восстанавливают картину ушедшей цивилизации, имея перед глазами только несколько разбитых ваз, табличку с письменами, амулет, десяток человеческих скелетов, улыбку золотой погребальной маски». Заявленная таким образом тема развивается в «Квартете» по нескольким параллельным, периодически отсылающим друг к другу линиям.
Начну с линии, непосредственно связанной с таротной символикой. Смерть, 13-й аркан Книги Таро, содержит достаточно традиционное изображение скелета с косой, но нас в данном случае интересует единственная нестандартная деталь в этой непривычно простой для Таро картинке – скелет отсекает косой отдельные человеческие члены. Сопоставим данное обстоятельство с весьма интересным наблюдением Дж. Фрэзера. Экстраординарное, статистически невероятное количество физических увечий, коими страдают персонажи «Квартета», «…возможно, предполагает разрушительное Время, уродующее архетипические образы, древние статуи <…> архетипическое, героическое не может выжить. Физическое увечие означает унижение перед временем, но дарит возможность выжить» [461]461
Fraser J. S. Lawrence Durrell. L.: Faber and Faber, 1973. P. 102. Замечу сразу, что, на мой взгляд, архетипическое и героическое как атрибут эпического, нормативного сознания не наделено у Даррелла столь однозначно положительным содержанием. Но об этом – после «Маунтолива».
[Закрыть]. Время, постоянно связанное у Даррелла с хтонической стихией воды, – один из важнейших атрибутов Александрии, понимаемой как Царство Смерти. Вырвавшиеся из зеркального мира, из рабской «посюсторонности» сознания даррелловские персонажи освобождаются одновременно и от унизительной власти времени. А подчинившиеся Неизбежности, вернее, тому, что старательно под Неизбежность маскируется, получают «зарубку на память», которая означает полное подчинение миру тьмы. Столь обыденная «потеря деталей» явно усиливает кукольный характер персонажей «Квартета», утративших искру духа. Встраиваясь в отлаженный, подобно часам, гигантский механизм Города, они объективируются, уравниваются в статусе с неодушевленными предметами, что позволяет легко заменять как утраченные члены, так и самих действующих лиц. Стеклянный глаз Скоби, вставная челюсть безымянного трупа, который Нессим подложил взамен исчезнувшего Да Капо, Амариль, который по эскизу Клеа (см. «Рабочие заметки» к «Бальтазару») делает новый нос для своей возлюбленной, – кукольная природа постоянно просвечивает сквозь человеческое лицо жителя Александрии. А о поразительной взаимозаменяемости даррелловских персонажей весьма удачно сказал тот же Фрэзер: «…в “Александрийском квартете”, как в снах или как в шекспировском “Короле Лире”, больше персонажей, нежели ролей» [462]462
Fraser J. S. Lawrence Durrell. P. 123.
[Закрыть]. Способность марионетки вписаться в роль другой, только что выбывшей из игры, на низшем уровне повторяет, с элементом пародии, таротную единосущность даррелловских персонажей «восходящего пути» – Художника и Женщины.
Параллель между людьми-куклами, людьми-вещами и всяческой нежитью следует лучшим традициям романтической образности, и Даррелл исподволь населяет свою Александрию телами, лишенными души и духа, либо душами, лишенными тел, но живущими, подобно людям, среди людей, за счет людей и вместо них. Еще в «Жюстин» возникает образ кабалли – астральных тел людей, умерших преждевременно и не успевших понять, что умерли. Согласно Парацельсу, на которого в данном случае ссылается Даррелл, эти люди воображают, что по-прежнему живут и действуют, хотя физические их тела давно мертвы. Жюстин с ее бесконечным и безнадежным поиском Абсолюта сама уподобляет себя, да и Дарли заодно, кабалли. Но кабалли – далеко не худший вариант даррелловской нежити, ибо, не будучи в состоянии сами воплотить что-то, они вынуждают к движению окружающих людей. «И все-таки живущие не могут обойтись без нас, – говорит Жюстин. – Мы заражаем их страстью искать то, чего нет, страстью роста». На более низком уровне. Да Капо, занятый «ловлей женщин», уподоблен физической эманации плотских аппетитов других кабалли – биржевиков, наблюдавших за ним из-за столиков Клуба Брокеров. А в конце романа Жюстин же произносит вслух мысль, которая подтверждает статус Александрии как Города Мертвых и намекает на тот путь, по которому пойдут Художник и Женщина. «Мне всегда казалось, что мертвые считают мертвыми нас. А себя – вернувшимися домой, к живущим после сей краткой и пустой экскурсии в псевдожизнь».
По-иному звучит в «Бальтазаре» и тема любви. Любовь-сострадание (Дарли – Мелисса) отходит на задний план, а любовь-страсть (Жюстин – Дарли, Жюстин – Персуорден) резко меняет окраску. Определяющей становится жажда обладания предметом страсти совсем иного рода – вампирическое стремление заполнить собственную пустоту за счет любящего. Разбросанные по тексту намеки готовят почву для вставной новеллы, рассказанной Персуорденом в доме Хознани перед отъездом на карнавал, – истории о вампирах, нарочито выдержанной в духе пародии на готическую прозу [463]463
В действительности готическая проза – не единственный адресат этой пародии, ибо в основе ее лежит шутка довольно рискованного свойства, вполне в духе Персуордена – и Даррелла. Напомню, что женщина-вампир, которая становится причиной смерти субтильного и нежного князя Негропонте, наделена весьма специфической для Италии внешностью. Начнем с реалий географических и исторических. Сочетание венецианского контекста и фамилии Негропонте дает нам один-единственный исторический прототип: художника Антонио да Негропонте, грека по происхождению, который работал здесь в середине XV века. Единственная дошедшая до нас работа фра Антонио – «Мадонна с младенцем на троне» (ок. 1460) в венецианской церкви Сан Франческо делла Винья. Белокурая Мадонна, красивая той самой нордической, северной красотой, о которой говорил Персуорден, смотрит из-под опущенных век на лежащего у нее на коленях младенца, на груди у которого – кораллово-жемчужное украшение, где кораллы и впрямь похожи на мелкие кровоточащие ранки. Гетевское Das Ewig-Weibliche, Вечная Женственность, неотделимая в европейском искусстве от образа Мадонны, являет волю «тянуть» очередного Фауста к Истине весьма специфического свойства. Примерно к той, которую готова предложить своим «прилежным студентам Любви» и Александрия, а уж в Вечно-Женственной природе этого города – в даррелловском измерении – сомневаться не приходится.
[Закрыть].
Простодушный Наруз, появляющийся в городе по возможности только раз в году во время карнавала (!) в надежде встретить, не будучи узнанным, Клеа, – единственный, кто воспринимает Персуорденову сказку всерьез. Позже, после собственной насильственной смерти, он сам станет злым гением Клеа, вампиром, постепенно лишающим ее воли к жизни и едва не погубившим ее окончательно. Интересно, что Амариль, который именно на карнавале встретит свою безносую возлюбленную (эта история также оформлена в виде вставной новеллы – в «Клеа»), увидев впервые ее лицо, машинально дотрагивается до головки чеснока в кармане – испытанного средства от вампиров. «Бальтазар» вносит свою лепту в «исследование современной любви», объединяя темы любви и смерти – покуда в «темных» тонах – любовь безжалостная, вампирическая, убивающая. Скрытая полемика с Лоренсом по поводу «темных богов» продолжается.
Еще одна тема, обязательно связанная у Даррелла со смертью, – тема праздника. Западные исследователи неоднократно отмечали [464]464
См.: Friedman A. W. Lawrence Durrell and the Alexandria Quartet: Art for Love’s Sake. Norman (Ok.): University of Oklahoma Press, 1970. P. 184; Fraser J. S. Lawrence Durrell. P. 123.
[Закрыть], что каждый из романов «Квартета» заканчивается праздником, на котором так или иначе присутствует смерть. Так, «Жюстин» завершается великолепно написанной утиной охотой на озере Мареотис, на которую Дарли едет в ожидании собственной смерти и которая оканчивается «смертью» Да Капо и исчезновением Жюстин. В «Бальтазаре» этой части композиционно соответствует обширное повествование о карнавале, перегруженное «летальными» ассоциациями. В «Маунтоливе» и «Клеа» не только в конце, но и в начале текстов помещены подобные же сцены. Праздник, по Дарреллу, прочно связан с исконной, доцивилизованной природой человека, с безличностью и зацикленностью на природном, на стихии. Празднество – время власти над человеком темных богов, время, когда установившееся в современном человеке шаткое равновесие между светом и тьмой нарушается и личность, пусть ненадолго, вытесняется Зверем и Толпой. Недаром карнавал – это время свободы нежити, и не случайно на даррелловском карнавале едва ли не все участники без различия пола и возраста одеты в безликие черные домино. Свобода домино есть свобода ото всех и всяческих запретов, налагаемых личностью, свобода личины. М. М. Бахтин, рассматривая карнавальную свободу, делал акцент на развеществлении, на разрушении условности, на освобождении от социальной заданности. Даррелла же интересует в первую очередь именно теневая составляющая этой свободы. На празднике Александрия, как живое существо, заправляет инстинктами и волей населяющих ее людей уже открыто, не прячась за ширмой социальных норм или за маской личного выбора. Но даррелловская Александрия – это Город Мертвых, та самая таротная смерть с косой. Основной смысл этого аркана – смерть созидающая, смерть ради обновления – откроется только в последнем романе тетралогии, пока же Смерть-Александрия темна и безжалостна. Даже звучащий подобно гимну длинный список имен александрийцев, дважды любовно выписанных Дарли, в начале и в конце романа, совершенно неожиданно заканчивается – в первый раз кладбищенской параллелью, а во второй – своеобразной игрой в «найди убийцу».
Открывается в «Бальтазаре» и соответствующее лицо «духов места» – как посредников между жизнью и смертью. Мнемджян, один из хранителей памяти Города, помимо живых клиентов бреет покойников в морге. Свойство Скоби проваливаться в сон посреди рассказа и, проснувшись, продолжать повествование с полуслова, не замечая перерыва, внимательный Дарли называет экскурсиями в смерть, «визитами вежливости в вечность». Да и сам Бальтазар слишком уж часто для гинеколога оказывается у изголовья умерших и умирающих.
Вампиры и так же периодически возникающие в «Квартете» инкубы и суккубы вводят нас в другой, гораздо более распространенный вариант александрийской нежити – тела, лишенные души и духа. Их призрачному бытию, падению человека до уровня нежити, а любви – до любви суккуба, утрате изначально данной каждому искры света будет полностью посвящен «Маунтолив». В «Бальтазаре» же даны всего лишь вариации на тему смерти, предваряющие ее симфоническое звучание в следующем по счету романе тетралогии.
5. Вместо заключения
Итак, впереди еще два романа, и если вслед за Юлией Кристевой рассматривать «новое», «неожиданное» как основу эстетической значимости текста, то, несмотря на все мои цитаты из «Маунтолива» и «Клеа», они (романы) должны, по идее, показаться читателю весьма эстетически значимыми. Так что не советую особенно доверять радости узнавания – Даррелл мастер путать следы. Да и на вкус эти книги будут куда как разными. Кто-то считает «Маунтолив» лучшим романом из четырех, «становым хребтом» всего «Квартета», «Клеа» же явной авторской неудачей, следствием стремления прыгнувшего не по росту автора удержаться в высшей точке. Кто-то, наоборот, разглядел в «Клеа» цель и смысл тетралогии. Подождем покуда.
Вадим Михайлин
Третий ключ от Александрии[465]465
Данный текст является переработанным и дополненным вариантом статьи: Михайлин В. Третье приближение к Александрии: ключ на шестнадцать // Волга, 1995, № 11–12. С. 150–158..
[Закрыть]
а) Неожиданный третий роман «Квартета»
Что, читатель, удивились? Не вы первый, не вы, даст бог, последний. После роскошной лирики «Жюстин» и «Бальтазара», после открытой вроде бы – напоказ – динамики воспоминаний и чувств незадачливого литератора и любовника Л. Г. Дарли, повествователя по совместительству: вдруг отстраненная, от третьего лица манера, вдруг всеведущий автор, открыто подхихикивающий из-за спин героев главных и не главных; сам Л. Г. Дарли со сладострастным своим расковыриванием старых болячек становится статистом на дальнем, более чем дальнем плане, а роман приобретает сходство то ли с фарсом в духе раннего Ивлина Во, то ли с политическим детективом, если взялся бы вдруг, скажем, Дэшиел Хеммет за детективы именно политические. Жаль, скажете вы? Жаль, конечно, очень жаль. И будь я не переводчик, а читательница, мне более всего было бы жаль столь симпатичных персонажей, униженных автором и оскорбленных. Нессима – в особенности, но даже хоть бы и «преданного как собака» Нессимова секретаря Селима. Придут, невольные, на память приведенные Н. Трауберг слова одной из ранних читательниц Честертонова «Человека, который был Четвергом»: «Ну, это понравится, как же – все оказались стукачами». Но, с другой стороны, ведь текст-то взял? Особенно отдельными частями – пронял? И к смутной горечи за героев почти уже прозосериала не примешалось разве злорадное – давно пора? В отношении, ну, скажем, взыскующей абсолюта всеобщей подружки Жюстин? То-то…
У соотечественников (и со-язычников) Даррелла единой точки зрения на сей внезапный поворот – не сюжета, но техники повествования – тоже нет. Так, Фредерик Карл считает «Маунтолив» самым слабым из романов тетралогии, основываясь на том, что Даррелл отходит от удачно найденной повествовательной техники ради возврата к «ортодоксальному» роману, вследствие чего текст теряет яркость и самостоятельность[466]466
Karl F. R. The Contemporary English Novel. N.Y.: Farrar, Straus and Cudahy, 1962.
[Закрыть]. Есть мнения, однако, и прямо противоположные. Кое-кто видит в «Маунтоливе» вообще чуть ли не единственное оправдание факту написания «Квартета». Да и у самого автора для подобной измены столь счастливо найденной манере были свои веские основания, недаром же Даррелл называл этот роман «точкой опоры и рациональным фундаментом всей вещи»[467]467
Цит. по: Friedman A. W. Lawrence Durrell and the Alexandria Quartet: Art for the Love's Sake. Norman (Ok): University of Oklahoma Press, 1970. P. 111.
[Закрыть]. Полностью понять, зачем Лоренсу Дарреллу понадобился «Маунтолив», можно лишь по прочтении всего «Квартета», а потому – пишу, что хочу и как хочу, всяко лыко в строку. Читательниц всех пяти полов прошу не беспокоиться и особо скучные места пропускать не глядя.
б) Непосредственно к тексту
Основным предметом полемики с лиро-эпическим мировосприятием традиционного романа в «Маунтоливе» является любовь. Форма романа, генетически прочно связанная с XIX веком, предполагает и те два типа любви, за пределы которых не могут выйти его персонажи, – любовь романтическую и натуралистический секс. Целый ряд весьма серьезных западных исследователей творчества Даррелла (Фрэзер, Фридмен) открыто противопоставляют у Даррелла любовь – сексу, и вряд ли ход сей правомерен, ибо противоречие это – мнимое. По Дарреллу – это две стороны одной медали, и они не исключают, а подразумевают друг друга, подводя прочную базу под романтический конфликт между идеалом и действительностью, поскольку оба эти варианта ориентированы на обладание. Слова Ницше о «дурной любви к самим себе» адресованы всему XIX веку. Романтическая любовь склонна видеть в своем предмете не живое существо, реальное, наделенное собственными страстями и нуждами, но воплощение некого субъективного идеала. Таким образом, предмет любви заранее прочно встроен в личность любящего, является фундаментальной ее частью, и любое проявление самостоятельной активности с его стороны грозит весьма серьезными последствиями для «постигающего субъекта». Натуралистическое же виденье мира и в данном случае, как обычно, представляет собой «романтизм наизнанку», ибо натуралистический секс озабочен как раз обладанием предметным, телесным, представление же об идеале низводится в сугубо прикладную область соответствия предмета страсти социально обусловленным нормам женской/мужской привлекательности. Причем оба эти представления о любви весьма уютно чувствуют себя и в XX, и в XXI веках, усиленно пропагандируемые массовой культурой, также ориентированной на обладание.
В «Маунтоливе» на первый план сразу выходит любовь романтическая. Злую шутку сыграла когда-то история с романтиками, в историю влюбившимися безраздельно и безоглядно, гораздыми выдумывать себе ту историю, которая была по нраву. Идеальная любовь, один из столпов романтического двоемирия, за примером привыкла обращаться в средние века, к рыцарскому кодексу служения даме, пере-придуманному заново на основе средневекового романа и провансальской любовной поэзии. Далекий образ идеальной возлюбленной, чей лик на медальоне, а имя – на устах, столь же обязателен для персонажа романтической (да и постромантической) литературы, как исключительность натуры, тонкость чувств и музыкальная одаренность. Вот только с образцом для подражания романтики просчитались. То есть, конечно же, Джауфре Рюдель сгорал в стихах от любви к левантинке то ли Мелисанде, то ли Мелисинде. И благодаря досужим потомкам, сложившим, опираясь на стихи, красивую легенду, и впрямь сгорел. И не он один. Осталось только выяснить, насколько легенды соответствуют фактам. Да нет, они же были нормальные люди, эти рыцари и труверы, они ели, пили и трахались в свое удовольствие, слагая в перерывах возвышенные канцоны и посвящая их далеким – и чем дальше, тем лучше – идеальным возлюбленным. А семью веками позже восторженные юноши во фраках (возраст здесь, конечно, ни при чем, юноша во фраке есть состояние души) приняли, как им не раз уже случалось, идеал за действительность и получили в итоге лишний повод к своей любимой мировой скорби.
Викторианская Англия, вся построенная на давно изжившей себя романтической идео– и фразеологии, канув в Лету, оставила после себя целый ряд институтов – в том числе и ту систему воспитания, очередною жертвой которой предстает нам в самом начале романа юный Дэвид Маунтолив. Приехав в экзотический Египет (что тоже вполне согласно с романтической традицией, т. к. экстраполяция помогает освободить любовь от снижающих бытовых подробностей), он встречает женщину, которая именно и станет на долгие годы частью его собственной личности и будет вести его по жизни, незримо рядом с ним присутствуя, – чем не идеальная романтическая пара? Ото всяких житейских мелочей любящие освобождены полностью, ибо между ними на долгие двадцать лет – моря и страны. Портрет и локон? – а на что еще романтику душа!
Дэвид Маунтолив, рыцарь без страха и упрека, на годы и годы уезжает прочь, закованный в латы дипломатической прозодежды, связанный уставом служения ордену Св. Протокола. Но Дама Сердца не покидает его, она принимает вполне реальное и даже задокументированное участие (письма!) в каждом движении духа набирающего очки и годы стажера. Он проводит двадцать лет в крестовом походе, защищая Родину и Даму в самых дальних уголках мироздания, один из безымянных паломников духа, носителей имени и знака Христова в странах варварских и хладных. И только получив посвящение в Орден и право на парадные доспехи, поменяв кинжал оруженосца на рыцарский меч, Маунтолив возвращается наконец в Землю Обетованную, в Утраченный Рай, в Эдемский свой Сад, где ждет его – Беатриче, Гвиневера, Лаура, Лейла. Но – hortus conclusus, вертоград заключенный остается закрыт для него. Ведь Лейла – не только дама сердца романтического образца. Она, вполне в согласье с духом романтической же традиции, еще и Изида, сидящая с закрытым лицом у врат храма, куда есть доступ только посвященным.
А теперь – подкладка романтической драмы, откомментированной Дарреллом куда как жестко. Да, сэр Дэвид получает акколаду, получает меч и доспехи из рук старого рыцаря – но вспомните как. В двадцатом веке Учитель и Ученик, Магистр и Юный Рыцарь (которому, судя по тексту, слегка за сорок), сидя в Москве, то есть в самом стане Антихриста, и помирая там со скуки, торгуются за шпагу чести и латаные латы. О tempora, o mores! Фисгармония – вместо органа – свистит и кашляет, Христовы воины простужены на нет, а шпагу туземный король прищемил лимузиновой дверцей – вот и почетный шрам.
Романтик – вечное дитя, они любили этот образ в начале позапрошлого века. Что ж, сэр Дэвид до старости будет грезить тенью воина. Уход отца из касты воинов в Страну Востока останется не понят, но зато, отыграв еще одну положенную романтическую сцену, возвращение домой (заснеженное поле, заиндевелый сад, камин и старушка мама у огня, как на картинке: да она ведь и есть – картинка, в той же позе, что и десять лет назад), Маунтолив получит обязательный детский недуг, обязательную боль в ушах. Имеющий уши да слышит. А не умеющему слушать – зачем, опять же, уши?
Сэр Дэвид едет в Египет, почти в Палестину – и Дама тебе, и крестовый поход. Он летит туда на крыльях, в буквальном смысле слова. В кабине самолета немыслимо жарко, и пот ручьями бежит под кольчугой, и как бы не пришлось блевать во шлем с плюмажем. Реальным рыцарям в реальных крестовых походах под знойным левантинским небом приходилось не слаще. В доспехах кондиционеров не было. Даже и белый наряд крестоносца, надевавшийся поверх доспеха, прежде всего имел в виду не дать воителю за веру свариться в латах заживо. Но кто же помнит об этом, читая о подвигах Ричарда Львиное Сердце?
Сарацины и мавры встречают сэра Дэвида с музыкой, он – победитель, и сразу. И только постепенно, как вода сквозь подтаявший снег, сквозь обманку победы начинает проступать реальная горечь поражения. Дама так и заперта в волшебной башне, и колдун с раздвоенной губой ее стережет. История повторяется – с маврами идут переговоры, а восточный христианский рыцарь-собрат оказывается главным врагом. Об отношении крестоносцев к коптам в романе говорят, но можно вспомнить еще и о четвертом крестовом походе, закончившемся славным взятием христианской столицы христианским же воинством. Есть и некоторые коррективы. Ни рыцарь западный, ни рыцарь восточный не воюют за веру, они плетут интриги и заговоры, продают бойцам – презренным иудеям – оружие (Айвенго и жид поменялись местами) и перехватывают письма. А потому уподобляются чаще не крестоносцам во плоти, но изваяньям оных на гробницах. Они – кабалли, души, уже умершие, но по инерции продолжающие «делать дело».
Но главное поражение еще впереди. Витязю явится в конце концов Разоблаченная Изида, вот только лик ее окажется ужасен, и рыцарь, отвернувшись в отвращении и страхе, сбежит от Дамы, от Хранительницы Всех Ключей и Тайн – прочь. Сцены более антиромантической измыслить трудно. Разжиревшая, старая, пахнущая виски и мятными лепешками, в побитом молью платье Беатриче – какой конфуз для романтической надмирности! Идеальный образ меняться не имеет права. Но есть у этой сцены еще и «мистическая» составляющая, выходящая как на символику рыцарского романа, так и на таротный смысловой ряд. Александрия, Изида является рыцарю лично – разве не этого ищут рыцари от века? Но рыцарь, повторяя сюжет Парцифаля, молодого и глупого, но только на ином, безмерно сниженном уровне, не узнает явленного ему откровения, не понимает, не задает вопроса, не произносит пароль. Отправившись на поиски Грааля, чаши с кровью, с духом Господним, – что он ожидал найти? Замахнувшийся на Чашу должен уметь видеть, чтобы сквозь унизительную данность прозреть обещанье пути. Сэр Дэвид слеп в латной маске долга – и долгов. А потому и получает по заслугам. Его последняя попытка «вернуть себе город» – уже чистой воды игра Изиды с плохоньким, с бездарным и потому ненужным учеником. Играет, конечно же, не Лейла. Лейла давно умерла, из бабочки вылупилась гусеница. Играет Город – сквозь тело бывшей Лейлы, как и сквозь прочие тела и души, – ведь мы к тому уже привыкли после первых двух романов.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.