Текст книги "«Жизнь, которая вправду была»"
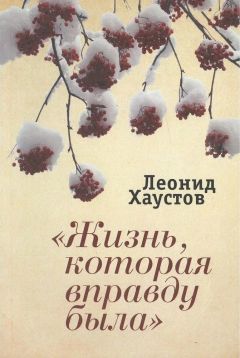
Автор книги: Николай Ударов
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 24 страниц)
Какое счастье жить в родней краю,
с ним разделить и радость, и невзгоды
среди людей, в которых узнаю́
черты родного русского народа,
которому всё в мире по плечу,
который счастье заслужил навеки,
которому как сын отдать хочу
всё лучшее во мне как в человеке.
25 июня 1975 года – 1980 год
Время моё
Время – это расстоянье
в час, в неделю, в месяц, в год.
Время – это состоянье
устремлённости вперёд.
Все – во мне,
и я – со всеми.
Нас поток незримый мчит.
Это так прекрасно – время!
Я беру его на щит.
Дышат огненные цехи,
рожь волнуется, густа.
Делу – время,
час – потехе, —
говорится неспроста.
Но… поющие, как птицы,
всеми красками горя
осыпаются страницы
моего календаря.
Снова, снова запах снега
в чистом воздухе с утра
на тропе, где в школу бегал
я как будто бы вчера!..
Время – это расстоянье,
а ещё и расставанье…
26 июля 1980 года
Триста тридцатый полкПесня[20]20
Составитель не раз слышал, как на Невском «пятачке» в дни празднования 9 мая эту песню пели ветераны. На мой вопрос: «Чья эта песня?» был такой ответ: «Песня – наша. Стихи – Хаустова, а музыка – народная!». О такой славе автор может только мечтать!
[Закрыть]
По Неве отходили солдаты,
и стонал под дивизией лёд.
Оставался лишь триста тридцатый
Полк стрелковый, прикрывший отход.
В дело шли и штыки, и гранаты,
и накатывал огненный вал.
Это доблестный триста тридцатый
полк стрелковый отход прикрывал.
Словно спички, ломались накаты,
но закрыты фашистам пути,
и последним он, триста тридцатый,
должен был по Неве отойти.
Только тронулся лёд ноздреватый,
загремел ледоход, закипел,
и случилось, что триста тридцатый
не успел отойти, не успел…
В сердце есть незабвенные даты.
Долу клонится знамени шёлк.
Вновь сражается триста тридцатый,
до последнего писаря полк!
1961–1980
Вещий сон
Сон приснился вещун.
Я смотрю ему вслед.
Был я старчески юн,
по-мальчишески сед.
От всего защищён…
Вот и думаю я:
это будет ещё,
это – слава моя!
1978–1980
__________
Это стихотворение – самая последняя находка Комиссии по творческому наследию Л. И. Хаустова: оно обнаружилось в закладке к книге-альбому, посвящённому есенинским местам Рязанщины.
Символическая находка!
Книги леонида хаустова
1. Утренний свет. Л.: Гослитиздат, 1945
2. Новоселье. Л.: Советский писатель, 1947
3. Дорогой мира. Л.: Советский писатель, 1952
4. Черты биографии. Л.: Советский писатель, 1956
5. Волне навстречу. Лениздат, 1958
6. Родному краю. Кировское областное издательство, 1959
7. Весенняя река. Л.: Советский писатель, 1961
8. Стихи о Ленинграде. Лениздат, 1967
9. Год призыва 1941. Лениздат, 1968
10. Стихотворения и поэмы. 1940–1970. Лениздат, 1970
11. Избранная лирика. М.: Молодая гвардия, 1971
12. Лирический горизонт. Л.: Советский писатель, 1972
13. Главное в жизни. Л.: Советский писатель, 1975
14. Слушая время. Л.: Советский писатель, 1978
15. День летящий. Л.: Советский писатель, 1981
16. Оставляю вам стихи. Лениздат, 1982
17. Амур и Психея. Л.: Советский писатель, 1989
18. Помню наизусть. В составе коллективного сборника поэтов-фронтовиков «Доро́ги наши фронтовые». Лениздат, 1990.
Пластинки
1. Опасная сторона. Поэма. Читает автор. Ленинградский завод грампластинок, 1980
2. У жизни на пиру. Стихотворения. Ленинградский завод грампластинок. (Даты нет, судя по всему, – вторая половина 70-х годов.)
«Сорок первый наш год призывной…»
Автор сценария – Николай Сотников
Режиссёр-постановщик – Виктор Окунцов
Оператор – Александр Селезнев
Звукооператор – Елена Порфирьева
ЛЕНТЕЛЕФИЛЬМ, 1983 год
Премьерный показ в Ленинградском Доме кино
12 апреля 1983 года
О Т К Л И К И НА Ф И Л Ь М
«С ВЕРШИНЫ ЛЕТ»
«Это лирическая баллада… Зрительный ряд картины построен так, что он дополняет и развивает рассказы поэтов о себе. Например, эпизоды последнего октябрьского наводнения в Ленинграде стали символами вражеского нашествия 1941 года. Рябина, воспетая во многих стихах и поэмах Хаустова, олицетворяет зрелость поэтического творчества».
Вячеслав Всеволодов
Журнал «Новини кiноекрану», 1983, № 7
(перевод с украинского языка)
«ПОЭЗИЯ ПОДВИГА И ПОДВИГ ПОЭТОВ»
«Обычно говорят – фильм родился из повести, из романа, из цикла рассказов или очерков. В данном случае можно сказать, что этот фильм родился из предшествоваших ему статей и рецензий молодого ленинградского критика Николая Сотникова. Однако не следует думать, будто новый фильм посвящен специальным литературным вопросам – он рассчитан на самые широкие круги зрителей и прежде всего на молодежь».
Газета «Советский моряк»,
22 мая 1983 года
«БАЛАДА О ПОЭТАХ»
«К сожалению, Леонид Иванович умер в 1980 году, но в фильме он живет в стихах, в фотографиях, что достигается детально продуманной композиционной организацией зрительного и звукового рядов».
В. Ефимов
Газета «На страже Родины».
9 мая 1983 года
Леонид Хаустов
Поэмы

Сестра
Люсе Шатровой[21]21
Людмила Михайловна Шатрова (Васильева) из подмосковной Балашихи в 1982 году в местном книжном магазине купила лениздатовскую книгу Л. И. Хаустова «Оставляю вам стихи». Увидев под портретом две даты, она поняла, что надежд на будущие встречи с двоюродным братом у нее не осталось. И тотчас же в памяти вспыхнули кинокадрами эпизоды встречи с братом Лёней зимой 1943 года в Кирове. Вернувшись домой, Людмила Михайловна достала из ящика письменного стола бережно хранимую поэму «Сестра» и приняла решение отправить поэму в Лениздат, редактору сборника «Оставляю вам стихи».
И вот на адрес Лениздата пришла бандероль: «Ленинград, Фонтанка, 59, редакция художественной литературы, старшему редактору Н. Н. Сотникову – лично».
За всю мою многолетнюю редакторскую работу это первый и единственный подобный случай: книга находит читателя, читатель – редактора, редактор включает поэму «Сестра» в новую книгу стихотворений и поэм Л. И. Хаустова «Помню наизусть».
[Закрыть]
Площадь людная перед вокзалом.
Эта площадь и та, и не та…
О, как грустно, что ноги связала
эта тягостная
хромота.
Вот родная волнистая улица.
Льёт сиянье накатанный снег.
Сердце как-то тревожно волнуется,
словно чувствует времени бег.
Здесь мой дед написал свои книжки[22]22
О судьбе Селивановского см. стр. 434–437.
[Закрыть],
родилась здесь и выросла мать,
здесь отец мой учился мальчишкой …
Жаль, что я не мальчишка опять!
Здравствуй, город далёкого детства!
Облик твой, хоть с трудом, узнаю́.
Не могу на тебя наглядеться:
всё мне мило в родном краю!
Вновь смеюсь я давнишним проказам,
перечёркнутым накрест войной.
Я как будто вчера ещё лазил
в сад запущенный
через окно.
Порыбачить на берег Вятки
убегали мы
до петухов,
и на Вятке играли в прятки,
нарушая покой рыбаков.
Это всё позабыться не смело,
и так чётко я вижу теперь
в светлой комнате каждую мелочь
и крыльцо в три ступеньки, и дверь.
Только ты позабылась немного,
впрочем, горя здесь, может быть, нет:
ты девчонкой была голоногой,
а теперь тебе двадцать лет.
Вот приду, назову своё имя:
«Брат Ваш. Хаустов Лёня я.»
Может, спросишь: «Судьбами какими
Вас забросило в наши края?
Я бы Вас никогда не узнала.
Вы теперь стали вовсе другой…»
Да, воды утекло немало,
как не виделись мы с тобой!
И не знаю, смогу ли ответить,
что приехал я только к тебе,
чтобы день был безоблачно светел,
словно в детстве, в моей судьбе,
что теперь жить хочу по-другому,
собирая крупицы добра.
Будто к старому отчему дому,
возвращаюсь к тебе, сестра…
Вот и дом узнаю́ за оврагом.
По оврагу раскинулся сад.
Как хотел бы прибавить шагу!
Только раны мои не велят.
На крылечко к дверям поднимаюсь.
Открывают: «Нет дома. Вы – брат?
Как же! Слышала, слышала, знаю.
Расскажите
про Ленинград!..»
В дом вхожу в ожиданье тревожном
и, с хозяйкой ведя разговор,
отвечаю я ей односложно.
Вдруг стучат – и она в коридор.
Я прислушался: «Люся, к Вам – гости!
Угадайте?..» – «Не знаю, кто…» —
«Молодой и военный». – «Ах, бросьте!
К нам давно уж не ходит никто!»
…Наконец-то! Так просто одета…
Из-под шапки
локон в кольцо.
И морозным румянцем согрето
улыбающееся
лицо.
– Лёня, Лёня!.. Да это ты ли?
Я не верю своим глазам!
Хорошо, что соседи пустили.
Ну, пойдём же скорее к нам!
Не стесняйся! Вот выдумал, право!
Я так рада, входи же, входи…
Наша комната там – направо.
Вот как стали мы жить, погляди… —
Я сажусь на сундук. Предо мною
неживой беспорядок вещей…
Полумрак напоён тишиною,
словно дом этот вовсе ничей.
На столе настоящая свалка:
чашки, книги, тарелки, листки…
Здесь господствует лампа-мигалка,
этот символ бессонной тоски.
Помолчала и села напротив.
Смотрим прямо друг другу в глаза.
– Вижу, Люся, неважно живёте, —
я спокойно и твердо сказал.
– Я устала! Несчастья и беды…
Болен папа, а Колька убит.
И не можешь представить себе ты,
как по нём моё сердце болит!
Ну, а ты?.. Ты всё тот же самый.
Где угодно узнала б тебя!
Только стал некрасивый, упрямый…
Не сердись, я ведь это любя.
Я ведь знаю, ты, Лёня, пишешь.
Даже как-то купила журнал… —
И добавила ласковей, тише:
– Если б ты мне чуть-чуть почитал!..
– Хорошо, я тебе почитаю,
я могу хоть сейчас почитать.
Только что же?.. Я сам не знаю.
И не знаю, с чего начать… —
…Такое время настало.
Беды распростерто крыло.
доро́гой огня и металла
меня по войне вело.
Жену я оставил дома,
стихи свои
отложил
и лишь орудийным громом,
забыв обо всём, я жил.
Мы поняли правду простую,
что сам фашист не уйдёт,
и если его не убью я,
тогда он меня убьёт.
И ненависть наша созрела
и стала сильней всего.
За наше, за правое дело
мы шли, не боясь ничего.
Я понял великую мудрость —
в несчастии люди милей.
…Я помню осеннее утро
и шум на ветру тополей.
Лежу в полевом лазарете.
Томительно пахнет листвой.
И лаской чарующей светится
лик девушки
предо мной.
И ночью в тоске бредовой
тогда, когда боль остра,
поверил я в милое слово,
в забытое слово СЕСТРА.
Встал на́ ноги. Многое понял
и детскую вспомнил игру.
Я детство далёкое вспомнил,
а е нём – дорогую сестру…
Пусть вновь будет крышею небо,
а домом моим – ветра́.
не будет огня и хлеба,
но будет со мной сестра.
… Зимних сумерек падали тени
и молчанье с собой привели,
но нежданно в каком-то смятеньи
сокровенные строки пришли.
Я читал, и казался короче
мне разрыв с довоенной судьбой…
– Знаешь, Лёня, мне хочется очень
видеть сад от снегов голубой.
А то знаешь, бывает страшно,
что такое на ум пришло —
снегом сад наш,
как детство наше,
чуть не доверху
занесло.
Он не светлый стоит, а горький.
И к нему добралась война.
Ты когда уезжаешь? Скоро?..
– Поезд завтра. В двенадцать дня.
– Никого я так не встречала,
как встречаю тебя теперь.
Ты открыл мне Победы начало
и конец наших горьких потерь. —
Мы идём, и февральский ветер
тихо веет из полутьмы.
Никогда и нигде на свете
не бывало теплей зимы.
И нам кажется – не было словно
между нами разлучных лет.
Мы с тобой уходили в ровный
голубой негасимый свет.
И молчанье легко, как дыханье,
и легка эта нежная грусть.
– Ты вернёшься?
– У нас не прощанье.
Я сначала с войны вернусь. —
… Навек выхожу я из этого дома
с лицом похудевшим и жёлтым, как воск,
и запах мороза, забыто-знакомый,
как память пронзительный, бросился в мозг.
Так вот оно – чувство второго рожденья,
возврата, свиданья, желанной поры,
и снега пушистого прикосновенья
теплы и милы мне, как руки сестры.
Сквозь ветер огнём полыхающих буден,
сквозь горечь солдатских непрошенных слёз
я вас узнаю́, дорогие мне люди,
как здесь – до беспамятства легкий мороз.
февраль – март 1943 года
Киров – село Новотроицкое
Кировской области
Вятский мастер
(Быль)
Светлой памяти чародея русского слова
Н. С. Лескова, автора «Левши».

Возле берега, где лодки
кверху днищами лежат,
жил кустарь в одной слободке
много лет тому назад.
Вот про то у нас и будет
непридуманный рассказ.
На Руси с секретом люди
часто ходят промеж нас.
Жил Фома, всегда мечтая
сделать вещь, чтобы она,
хоть от Питера считая,
на Руси была одна.
Резал плошки, поварешки,
стол строгал, чинил бадью,
а ночами на окошке
мастерил мечту свою.
Целых десять лет трудился,
но однажды он с утра
в дальний путь заторопился.
Постоял среди двора,
дал наказ жене не плакать,
дёрнул сына за вихор
и, сказав: «Пора, однако!»,
вышел тропкой за бугор.
По Руси шагал великой
с виду малый человек,
а догнать его – поди-ка —
не угонишься вовек!
Прямо через перелоги
шёл вдоль сёл и деревень.
Натрудив к полудню ноги,
отдыхать садился в тень.
Шёл не коротко, не долго,
так, как в сказке, – нужный срок.
И пришёл Фома на Волгу
в Нижний город-городок.
Покрестился на соборы,
похвалил колокола…
А как раз об эту пору
в Нижнем ярмарка была.
Чудо-ярмарка кипела
над великою рекой,
торговала, ела, пела,
била о́б руку рукой.
Обошел ряды прилежно,
где торгует сто купцов,
где приказчики небрежно
крутят кончики усов.
Вот, загнутое подковой,
видит зданье – в окнах свет.
Разменял он рубль-целковый,
чтобы взять себе билет.
И, умом своим раскинув
в надпись вникнув по складам,
поднялся он, шапку скинув,
как к обедне в божий храм,
в храм науки и машины,
в храм уменья и ума.
Знать, на то имел причины,
знать, сюда и шёл Фома.
Он приблизился степенно
к той витрине на свету,
а за нею – здоровенный
немец с трубкою во рту…
Стал глядеть Фома с народом,
что весьма доволен всем,
на часы с различным ходом,
всех родов и всех систем.
Были тут часы ручные,
золотые и стальные,
были башни – не часы,
не поставишь на весы.
И с певучим звоном были,
и с кукушкою в окне,
и такие, что лупили,
словно пушки на войне!
Вид диковин иностранных
хоть сперва и удивил,
на простых часах карманных
взгляд Фома остановил.
И спросил он: «Дорогие?»…
А узнав, сказал спроста:
«Есть у вас часы такие,
чтоб железа – ни винта?
Чтобы на́ воду без риску
можно было их пустить,
ну пускай не в Волгу – в миску,
чтоб далёко не ходить?»
Толстый немец поднял брови,
долго взвешивал ответ.
Дал его в коротком слове,
головой качая: «Нет!».
И тогда-то вятский мастер
(В том хвала ему и честь!)
«Нет, – сказал, – по вашей части,
а по нашей части – есть!»…
Немец спор вести не хочет:
лишку выпил – так лежи:
а народ вокруг хохочет:
коли есть – так докажи!
«Докажу! Давай поспорим!
Душу ставлю об заклад».
До печёнок раззадорен,
буркнул немец: «Отшень рад!».
И тогда Фома Васильич
из-за пазухи достал
свой ларец.
И всей России
в ту минуту виден стал!
Появилась тут же вскоре
миска, полная воды.
А народ молву о споре
повторял на все лады.
Напирая, люди жались,
точно прячась от грозы.
На виду у всех лежали…
деревянные часы!
С недоверьем, осторожно
иностранец принял их.
И народа гул тревожный
стал вдруг таять и затих.
И в огромном светлом зале
вместо сотни голосов
все как будто услыхали
стрекотание часов.
Немец длинным ногтем ловко
крышку заднюю раскрыл,
покрутил часов головку,
наклонился и застыл…
Что увидел – неизвестно,
но запомнил весь народ:
повалился немец в кресло,
поднял руки: «О майн готт!»[23]23
«О майн готт!» (немецк.) – «О мой бог!»
[Закрыть]
Ноги будто бы ослабли…
А Фома часы схватил
и, как маленький кораблик,
в миску плавать опустил.
А назавтра все глядели,
как среди иной красы
на большом щите висели
деревянные часы.
И за труд свой беспримерный
(Не всегда же платят злом!)
самый лучший, самый первый
получил Фома диплом.
И, прощаясь, немец снова,
нервно дергая усы,
все просил мастерового
уступить ему часы.
И хоть был не в лучшем виде,
всё ж Фома проговорил:
«Продавать – никак не выйдет:
не для денег мастерил».
И часы его – творенье
от мозолей жестких рук —
были взяты на храненье
в Академию наук.
А Фома, мужик не гордый,
но довольный сам собой,
за плечо закинув торбу,
вышел по́утру домой.
Шёл Фома и для забавы
набивал малиной рот,
и не знал того, что слава
на́ сто лет ушла вперёд!
1943 – август 1944 года
Село Новотроицкое – Ленинград
Опасная сторона
Памяти М. Л. Лозинского

Иду по улицам знакомым,
тех дней приметы узнаю́,
стою́ у памятного дома,
с душою замершей стою́.
А на стене, уже неясно,
мне надпись грозная видна
с том, что более опасной
была вот эта сторона.
* * *
Про Данте зная понаслышке,
на то не сетуя ничуть,
я взял в читальном зале книжку,
чтоб на экзамене блеснуть.
Её мне с тем условьем дали,
что в понедельник принесу.
Ах, как мы бешено читали,
когда экзамен на носу!
Тома Дидро, Руссо, Вольтера.
Мольер, который Жан-Батист…
Читнёшь Прево, листнёшь Гомера —
и вот ты энциклопедист!
По институтским коридорам
бегу, своей удаче рад:
алеет книжка коленкором,
где чёрным выдавлено: «Ад».
И предвкушаю я заране,
что «Ад» освоен будет весь:
ведь только он стои́т в программе,
хотя и «Рай» у Данте есть.
И этот самый «Ад» до корки
прочту я всем чертям назло,
а в результате —
быть пятёрке.
Мне адски с «Адом» повезло!
Я шёл к Марине.
Мы сидели
на подоконнике опять,
перед разлукой на неделю
не в силах были рук разнять,
а рядом с нами был
раскрытый
посередине, наугад,
туманом сказочным повитый,
такой далёкий Дантов «Ад».
* * *
В воскресный день у стадиона
стояла очередь с утра,
и знали все определённо,
что будет вечером игра.
Плечом вжимаясь в чью-то спину,
притиснут к поручням перил,
я за терциною терцину,
сверяясь с книгою, зубрил.
Нева, тускнея, штилевала,
жарою начало томить.
Меня давно уж подмывало
пойти Марине позвонить.
Услышать голос, замирая,
сказать, что я и тут зубрю,
и выдать за цитату «Рая» —
«Как я тебя сейчас люблю!»
Была обычная столовка
и автомат возле дверей,
и, чувствуя себя неловко,
хотел уйти я поскорей.
Но только звякнула монета,
как чьё-то «т-сс…».
И – тишина.
А репродуктор над буфетом:
«Война, товарищи, война!»
И люди на него глядели,
как будто что-то видя в нём,
и прямо в лица им летели
слова, одетые огнём.
И надо ж было этой книжке,
что я обязан был сберечь,
скользнуть легонько из-под мышки
и на щербатый столик лечь!
За ним, задумавшись тоскливо,
сидел, глаза уставя вниз,
над непочатой кружкой пива
немолодой артиллерист.
Он сразу вздрогнул, оттого что
увидел книгу средь стола.
И вот багровая обложка
в его сознанье поплыла.
И шрам, видневшийся на шее
(Хасан иль финские бои),
стал вдруг бледнее, стал виднее,
как будто мелом провели.
И, словно слыша грохот боя,
поднялся он во весь свой рост,
он поднял кружку пред собою,
как бы обдумывая тост.
И в то слепящее мгновенье
на счастье, чёрт возьми, своё
в каком-то горьком откровенье
о столик грохнул он её!
Она рванула, как граната,
осколками засыпав пол.
Как будто это так и надо —
никто и бровью не повёл.
Мне тесен стал рубашки ворот.
В дверях споткнувшись, как слепой,
забыв про всё,
я вышел в город,
уже крещён его судьбой.
Часы над аркою почтамта,
час первый зрелости моей…
А мной потерянного Данте
я вспомнил через много дней.
* * *
Шаг патрулей в ночах тревожных,
на лица изморозь легла,
уже в чехле, как сабля в ножнах,
адмиралтейская игла.
Стал хлеб уже всего дороже,
пошла уже дуранда в ход.
Кончался в ярости бомбёжек
тяжелый сорок первый год.
Блокада.
Я в полку пожарном.
Теперь казарма мне как дом.
С утра тушили на Дегтярном,
сейчас на Каменный пойдём.
Огонь вселяется в квартиры,
ему войною ордер дан.
Я, если мог, спасал картины:
вдруг Репин или Левитан!
Я шёл вперед к огню в объятья,
а он метался, как лиса.
И тут же чьим-то летним платьем
я копоть вытирал с лица.
И снова вскакивал с матраца,
вновь по тревоге в строй бежал.
Горели склады декораций —
вот это, знаете, пожар!
А как-то наше отделенье
тушило ваты склад в порту.
Огня там не было, лишь тленье
да смрад, что чуешь за версту.
Так припекало нам подошвы,
так ел глаза горячий чад,
что командир, пожарник дошлый,
и тот сказал: «Вот это ад!»
* * *
Я ждал отбоя час желанный
(а голодуха – тяжела),
когда однажды с вестью странной
меня сокурсница нашла:
– О госэкзаменах решенье,
нас выпустят в кратчайший срок. —
Ко мне какое отношенье
имеет это, – я не мог
понять никак. Девчата – ладно,
куда ни шло, но я ж – боец!
И, выслушав её прохладно,
в сердцах добавил под конец:
– Плевать! Наверно, всё забылось,
и дней на подготовку нет…
– Каким ты стал, скажи на милость! —
она мне бросила в ответ.
Зенитки дальние палили,
стучал над ухом метроном,
а я лежал, и мысли были
всё об одном, всё об одном:
а почему я не согласен?
Да разве не мечталось мне
однажды появиться в классе
в насторожённой тишине,
чтоб увести ребят в дорогу
к стихам и звёздам, к красоте
и стать для них немножко богом.
Неужто же конец мечте?!
* * *
Мы госэкзамены сдавали.
Робея, шли в парадный зал,
и вместе с паром уплывали
слова, которые сказал.
Комиссия в пальто сидела,
продрогшая давным-давно.
Как озимь в инее, седело
стола зелёное сукно.
Профессора мои!
С волненьем
вас поимённо перечту.
Спасибо не за снисхожденье,
а за спасённую мечту!
* * *
Как это каждому знакомо,
осталось мне,
сбиваясь с ног,
для получения диплома
отметить обходной листок.
А в нём графа «Библиотека».
Читальный зал, давно пустой,
угрюмый бронзовый Сенека,
совсем от инея седой.
И груда книжек обгорелых
печально высилась в углу,
и только два окошка целых
ноябрьскую цедили мглу.
Библиотекарша на голос
из задней комнаты пришла,
и пирамиду книг тяжёлых
она из рук моих взяла.
И с ватником горжетки соболь
в противоречье явном был.
Но мне запомнились особо
перчатки с пятнами чернил.
С десяток вычеркнув названий
и вскинув удивлённый взгляд,
она сказала:
– Но за вами
ещё записан Данте, «Ад». —
И, быстро про себя решая,
что делать, я забормотал:
– Такая книжка небольшая,
была как будто… да, читал…
– Так где ж она?
– Нелепый случай.
Она потеряна. Как быть?
Но я могу другою, лучшей
её сейчас же заменить.
Что вам потеря этой книжки,
когда пылают города?!
– Не смейте думать так.
Мальчишка!
Вы с нею явитесь сюда! —
* * *
Где разыщу я книгу эту,
чтоб завтра положить на стол?
И я решил пойти к поэту,
который Данте перевёл.
* * *
Он сам открыл мне вход парадный,
и я запомнил навсегда
пожатие руки прохладной
и жест его: прошу сюда!
Седеющий, худой, высокий,
в доху тяжёлую одет,
такой спокойно-одинокий
передо мной стоял поэт.
Поэт, который русским словом
нам слово Данте передал.
Он даже профилем суровым
похож был на оригинал.
Коптилка огоньком дрожала
на письменном его столе,
где муфта дамская лежала,
чтоб руки сохранять в тепле.
– Так чем могу быть Вам
полезен? —
Был голос низким и глухим. —
Мы в филологию полезем
иль о стихах поговорим?
Вы не смущайтесь. Так какая
нужда Вас привела ко мне? —
Я, от волненья заикаясь,
поведал о своей вине.
– Ну что ж, бывает, понимаю,
авось разыщем экземпляр. —
И вот в ладонях я сжимаю
обложки ледяной пожар.
В своем неловком положенье,
не поднимая головы,
его спросил… из уваженья:
– Нам чем работаете Вы? —
И в Ленинграде осаждённом,
объятом бурей мировой,
так просто, так непринуждённо,
но с поднятою головой,
смотреть себе повелевая
туда – за смертную межу,
сказал он, папку раскрывая:
– Теперь я «Рай» перевожу. —
А в крошеве метели белом
прожектор поднебесье стриг.
Я шёл и думал под обстрелом:
«Какой божественный старик!»
* * *
Бесчинствует, ожесточаясь,
мороз, берущий всё в тиски.
Всё чаще в городе встречаю
тел заметённых бугорки.
А я – курсант. Занятья в поле:
«Ложись – беги! Ложись – беги!»
Ещё ты жив и тем доволен,
что не обмотки – сапоги.
И… фронт. Сожжённая Дубровка.
Нева. Стеклянный звон шуги.
И через брустверную бровку
мои пудовые шаги.
…В уральский город с костылями
доставленный из-подо Мги,
я познакомился с тылами,
с глухою тишиной тайги.
И, как разрыв тяжёлой мины,
в котором не видать ни зги,
открытка матери Марины:
«Убита. Память береги».
Мне в уши ветер злой и хлёсткий,
как стон далёкий: «Помоги-и-и!»
А радио на перекрёстке
в мои колотится мозги.
И «Смерть немецким оккупантам!»,
и завывание пурги —
тут поневоле вспомнишь Данте,
идя сквозь адские круги.
* * *
В свой институт, в библиотеку,
пришёл я нынешней весной.
И снова – бронзовый Сенека
и зал, звучащий тишиной.
И, нас напоминая чем-то,
сжимая вечное перо,
склонялись новые студенты
к томам Вольтера и Дидро.
А я войны далёкий сполох
в своём сознанье воскресил,
и подойти к одной из полок
я разрешенья попросил.
И вот, поэта вспоминая,
творившего, презрев беду,
на полке с «Адом» книгу «Рая»
увидел я в одном ряду.
Ты здесь, великий флорентиец,
взяв семь веков под пьедестал!
С тобою русский пехотинец
в познанье ада вровень встал.
Я был у Случая во власти,
под пулей падал на бегу.
Спроси меня: «А был ты счастлив?»
И, всё пройдя, сказать могу:
«Да, было счастьем дней кипучих —
и поцелуи на заре,
и встречи с лучшими из лучших,
и тот экзамен в ноябре,
и залп блокадного салюта,
и вздох измученных людей —
вся жизнь, замешанная круто,
в неповторимости своей».
* * *
О моя Беатриче
из десятого класса!
Я в любви к тебе вечной
не успею поклясться.
О моя Беатриче
с тяжеленным портфелем!
Только капельку счастья
мы с тобою разделим.
О моя Беатриче
Стороны Петроградской.
Полны белые ночи
нерастраченной лаской.
Вслед глядели мальчишки,
если ты проходила.
Ты умела, ступая,
земли не касаться.
О моя Беатриче
из десятого класса!
Эти старые плиты
под асфальтом укрыты,
возмужавшие липы
белым светом облиты.
Они каждой весною
свои листья меняют,
а седые мальчишки
всё тебя вспоминают.
* * *
…Стою́ у надписи неясной,
что сохранила нам стена,
уже не веря, что опасной
была вот эта сторона.
Быть может, здесь тебя убило,
взрывной ударило волной?
Ты, верно, солнце так любила,
что шла опасной стороной.
1963–1964
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































