Текст книги "«Жизнь, которая вправду была»"
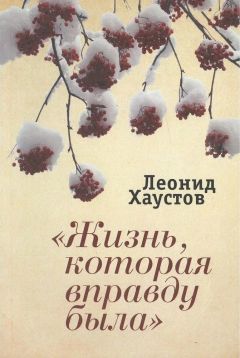
Автор книги: Николай Ударов
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 24 страниц)
Был ли цыганским поэтом Леонид Хаустов?
Однажды в конце рабочего дня к нам на третий этаж, где располагались комнаты штатных сотрудников аппарата Правления Ленинградской писательской организации, заглянул Хаустов. Вид у него был какой-то озабоченный и явно утомлённый, почти с ходу он стал рассказывать мне о сегодняшнем его выступлении в пригородном Доме культуры. Напомню, что в окрестностях Ленинграда, хотя и неравномерно, но зато постоянно жили цыгане. Особенно много их было в Старо-Паново. Выступал Леонид Иванович с большой программой, касался темы роли детства и ранней юности в судьбе человека, поведал и о своей родословной…
После окончания выступления его окружили читатели, среди которых преобладали цыгане, которые начали делать неоднократные попытки заговорить с поэтом по-цыгански. Хаустов, смущенно улыбаясь, только разводил руками: «Знаю несколько обиходных слов и строчек из таборных песен. Отец когда-то научил! Но не берусь утверждать, что даже эти слова произнесу точно и правильно. Цыганского языка я не знаю!» В ответ он услышал фразу, которая была громом среди ясного неба: «Совсем цыган зазнался! Не хочет со своими на родном языке поговорить! А ещё называется цыганский поэт!..»
«Я, – говорит горячо и взволнованно Хаустов, – объясняю им, что я – поэт русский, пишу по-русски, преимущественно осваиваю именно русский материал. Да, есть у меня несколько стихотворений о цыганской жизни, но всё-таки это взгляд со стороны! Представь себе, не верят и обижаются. Хорошо, что меня шофёр выручил: «Поехали, до станции подброшу. Мне по пути!», а то ждал бы автобуса еще часа полтора!».
В общем и целом правильно ответил Хаустов – и по форме, и по существу, но всё же вижу – разволновал его этот эпизод. «Это впервые у Вас, Леонид Иванович, такой именно разговор получился? Неужели раньше не было?»… Помолчал, повспоминал и отрицательно головой закачал: «Нет, в таком разрезе никогда ещё не было!».
Так и закончился тогда наш разговор: я не стал больше тревожить поэта, но сам этой историей не только увлёкся, но и разволновался. «Если Леонид Иванович – внук цыганки, которую он никогда не видел (она умерла, как и моя мать, в родах), то я – цыганский правнук, выросший в русской среде. Правда, мой дед по отцовской линии Афанасий Сотников – запорожский казак (отсюда и фамилия – Сотниковы). Деда я никогда не видел. С отцом говорил только по-русски. Читать по-украински стал учиться лишь весной 1968 года, когда, работая в фонде А. П. Довженко в Центральном государственном архиве литературы и искусства, обнаружил, что есть текст ТОЛЬКО на украинском языке (Довженко зачастую писал почти одновременно на двух языках). Вот тогда мне отец и преподнёс некоторые уроки. Вдова Довженко Юлия Ипполитовна Солнцева немного по-украински читала, как актриса обладала отличным языковым чутьём, но в лексике зачастую ошибалась. Например, она мне вручила рецензию на украинском языке на книгу А. Марьямова «Довженко» в серии «Жизнь замечательных людей» и перевела слово в заголовке «уважни» как «уважительны», а ведь это означает ВНИМАТЕЛЬНЫ, в значении – к фактуре!
Писать по-украински я не научился, и мои редакторы в журналах и в газетах Украины переводили меня, естественно, ополовинивая мой и без того скромный гонорар.
В начале 20-х годов мой отец, недавний выпускник реального Полтавского училища, вполне мог бы стать УКРАИНСКИМ писателем, но стал писателем русским и связал свою судьбу с Ленинградом и Москвой.
Обо всём этом и принялись беседовать с Хаустовым при очередной нашей встрече у него дома. Во главу угла сразу был поставлен вопрос о языке – нас всё же больше всего волновала литература, а не, скажем, живопись или тем более декоративно-прикладное искусство с его орнаментами. Впрочем, Хаустов «проехался» и по орнаментам: «Вот у нас на полотенцах женщины петухов вышивают, а ведь не оленей, не крокодилов! Рябинки – любимая роспись хохломских мастеров! Сам видел, когда в городке Семёнове был. Рябинки, а не пальмы! Обрати внимание!»…
Но вскоре разговор вновь вернулся в литературное русло, лучше всего после русской литературы Хаустов знал украинскую и белорусскую. Поговорили о двуязычии Довженко, Шевченко (а ведь русские поэмы Шевченко при всём профессионализме проигрывают перед его дивными украинскими созвучиями), обратились к новейшей литературе. Из белорусов вспомнили Василя Быкова, из молдаван – Иона Друце, из киргизов – Чингиза Айтматова… Подольше остановились на феноменах казаха Олжаса Сулейменова и татарина Рустема Кутуя. О Кутуе Хаустов не знал, так я ему рассказал и кое-что процитировал: я написал две рецензии на русскоязычные книги Кутуя. С Сулейменовым лично общался во время Дней казахской литературы в Ленинграде. Этого вопроса (языкового) не поднимали, но, судя по некоторым устным репликам и намёкам в стихотворениях, стычки у Сулейменова с коллегами в Алма-Ате были. Мне сразу же вспомнились комические строки Олжаса: ««Нет и не будет!» – «Чего, уважаемый главный редактор?» – «Твоих стихов – в моём журнале!»». Как мне в письме писал Кутуй, и у него в Казани конфликтов было не счесть!
Так что розовато-приторные статьи, доклады и даже монографии (я поначалу собирался писать по теории литературы диссертацию как раз о диалектике национального и интернационального) испытание временем не выдержали. Живя в жуткой тесноте в обнимку с книгами и рукописями, я недавно, уплотняясь, почти все «труды» 70-х – начала 80-х годов на интересующую нас тему выкинул. Оставил только самое-самое, что уместилось на четверти полки.
«Люблю украинскую речь! – воскликнул Хаустов. – Но не уверен, что правильно фонетически произношу слова, да и с лексикой и синтаксисом зачастую бывают нелады!». Тут я рассказал Леониду Ивановичу, как строго меня учили фонетике украинского, преимущественно поэтического, языка в Киеве две поэтессы, а из числа дальних родственников (кто бы вы думали?..) токарь по дереву на Броварском комбинате – городок Бровары (что значится как пивовары) – Галя с «семиричкой», как она выражалась, то есть с всего-навсего – со школой семилеткой!
«А белорусскому кто тебя учил?» – «Фельдшерица из Орши! Чистейший язык, словно вода из лесной криницы! А когда мне дала два урока научная сотрудница из академического института имени Янки Купалы, я на занятиях заскучал: вроде всё верно, но такой упоённости родным языком, как у фельдшерицы, а в годы войны партизанки, нет!»…
Хаустов помолчал, а потом горестно вздохнул: «Вот ты сетуешь на специалистов по теории литературы, разного рода искусствоведов и знатоков эстетики! А ведь и впрямь – скользят по поверхности – и только! Они мне напоминают начинающих фигуристов, выходящих на лёд».
Отлично сказал! Как припечатал. И главное – в самую суть попал! Я тут же стал рассказывать Леониду Ивановичу о том, как у нас проходили семинарские занятия на двухгодичных курсах по этике и эстетике при Доме актёра. Занятия были дневными и велись только для творческих работников, в крайнем случае – культпросветчиков. Так вот, многие спорные и очень сложные темы (происхождение искусства, мера условности, синтез искусств и т. д.) обсуждались хотя и горячо, но, в шутку говоря, «пар не шёл»! А вот два занятия на тему «Национальное и интернациональное в литературе и искусстве» вызвали такой накал, что преподавателю, кандидату философских наук, доценту нашего университета, пришлось нас чуть ли не водой разливать!
«Да, это не просто больной вопрос – больнейший! Родной язык – душа поэзии, её суть. Помнишь, как писал Михаил Луконин, «писать стихи по-эсперанто не будут люди никогда»?!!» – Я добавил, что стихи всё же такие есть, но сугубо экспериментальные и учебные.
«А кто ещё двуязычен в украинской литературе?» – спросил меня Хаустов. Я добавил имена Александра Ильченко и порассказал о том, как у него был в Киеве в гостях и советовался с ним о своей поэме в честь Сечи Запорожской. Назвал и Марко Вовчок. Мы сошлись на том, что двуязычными называть тех литераторов, кто по-русски только деловые документы пишут, нельзя. Речь должна идти только о творчестве!
«Вот Садриддин Айни писал и по-таджикски, и по-узбекски!» – напомнил Леонид Иванович. «В двуязычной Бухаре это и сейчас не редкость. Я вот вёл дипломную работу о литературной критике и у таджика, и у узбека из Бухары. Они были однокурсниками, говоря на своих языках, друг друга в целом понимали, но разве мы вправе говорить о них как о деятелях двуязычных культур! Литературный же уровень обоих был таким, что, как мне думается, Леонид Иванович, их потолок творческого роста – областная газета!»
«Давай говорить только о большой литературе, а то мы и до делопроизводства дойдём! – настаивал Хаустов. – Надо брать высшие образцы. Ты знаешь, я часто думаю о юношеском французском само-ироничном стихотворении Пушкина-лицеиста. В собрании сочинений есть перевод этих строк на русский. Не впечатляет. У Льва Толстого французских текстов в «Войне и мире» на авторский лист наберётся. А я себе часто задаю вопрос: «А надо ли было?..» Вообще-то, прямо скажу, позитивная роль дворянско-французского языка в России XIX века явно преувеличена. Вот, скажем, Тургенев, который мне дорог. То – чудеса родной речи, а то – калька какая-то с французского языка! Или вот возьми, к примеру, Григоровича. Мать и бабушка (по материнской линии) – природные француженки, французский язык в обиходе и звучит в семье с утра до вечера. В пансионате – все предметы преподаются на французском языке! А есть ли в итоге какие-то галоманские следы в его литературном творчестве? Ну, разве что несколько фраз (как и цыганских) с переводом на русский в том же абзаце в скобках в «Антоне-горемыке» – и всё! Русский он прозаик по самой своей сути! А язык такой красочный, что с классиками первого ряда поспорить может. Родной язык с родной литературой неразрывно связаны! А возьми такие примеры: персидский язык у дипломата Грибоедова и немецкий язык у куда более скромного по рангу дипломата, но семейно погружённого в немецкую жизнь с головой Тютчева… Отразились ли эти языковые знания в творчестве? Ни в коей мере! Я вот о другом думаю: как мой бывший приятель разведчик агентурный Игорь Ринк вошёл в русскую поэзию почти бесследно для своей немецкой языковой погружённости? Сам подумай – не было бы этой погружённости, разоблачили бы его и замучили в гестапо! Перечитай стихи Ринка, высмотри в строчках немецкие следы. Вот тебе моё очередное задание».
В тот долгий вечер вспоминали мы и о судьбах поляка Аполлинера, ставшего французским поэтом, и о судьбе свободно писавшего на трёх языках (на польском, на французском и на русском) Бруно Ясенского и в итоге вернулись к чарующему русскому языку, в котором и поговорка рифмами века обгоняла и по содержанию к поэмам восходила.
«Ещё одни родные стены»[44]44
Строка из неоконченного стихотворения Л. И. Хаустова.
[Закрыть]
(последние в итоге адреса…)
Увы, рано или поздно этот вопрос встаёт перед каждым деятелем литературы и искусства (о других категориях людей, заслуживающих особого признания, будем писать иначе и по другим поводам). Совершенно ясно одно – даже выдающийся специалист в какой-нибудь редкостной отрасли останется известен весьма узкому кругу коллег разных поколений, и такого паломничества к их пенатам, как к Есенину в село Константиново, к песенному соловью Алексею Фатьянову в его родные Вязники на «Алёшин певческий праздник» быть никогда не сможет. Это нам, рыцарям певучего слова, – в радость и в утешение!
В своё время в «Литературной России» была даже такая постоянная рубрика «Литературные пенаты». Ну, как говорится, у кого какая судьба: кому заповедник, кому – дом-музей, кому – музей-квартира… а вот музей-комната в коммунальной квартире чего-то в этом ряду не просматривается, хотя через это жильё прошли многие выдающиеся мастера литературы…
Правда, продлить неповторимую атмосферу рабочего кабинета (он – чаще всего и столовая, и спальня…) могут оставшиеся в живых члены семьи, да вот – надолго ли?..
В итоге подавляющему большинству из нас остаётся мечтать лишь о собственном фонде в архивах. Каких? Идеальный вариант, – если в специализированных в Москве и в городе на Неве, в лучших библиотеках, а чаще всего – в музеях краеведческих и в архивах общего назначения – областных и краевых.
Завершая разговор о творческой судьбе Леонида Хаустова, не могу не сказать о двух его архивных фондах: в рукописном отделе Института русской литературы Академии наук (Пушкинский Дом) и в Центральном государственном архиве литературы и искусства на Шпалерной улице, почти у невских берегов. Невские воды, которые так были дороги Хаустову, и там, и тут хранят о нём память.
В Пушкинском Доме в период работы литконсультантом Правления Ленинградской писательской организации мне доводилось бывать довольно часто: то сопровождая наших гостей в литературный музей, то на литературно-юбилейные торжества, то по делам канцелярским… Давно я здесь, на набережной Макарова, не был. Рукописный отдел помещается ныне в домике во дворе, и к нему ведёт оригинальная навесная галерея. В читальном зале просторно, светло, намного уютнее, чем в других хранилищах.
Итак, фонд № 371. Леонид Иванович сам в 1975 году принёс сюда несколько пачек книг, рукописей, писем, концертных программок, литературных листовок, выпущенных в связи с проведением так называемых Дней литературы в том или ином регионе страны. Сейчас об этой форме работы с читателями старшие не помнят, а младшие и не знают.
Нашлась автобиография от 18 октября 1957 года. Обнаружились записные книжки (преимущественно – со стихами) 1938–1940 годов и 1941 года (довоенная), школьная тетрадка (вернее сказать – ученическая, так как школу Хаустов закончил в 1938 году). Вёл автор эту тетрадку с 16 декабря 1940 года по 16 марта 1941 года… То есть, довоенный период, менее всего знакомый мне и как другу семьи и как биографу, стал несколько яснее.
Спешу оговориться. Эти находки ни в коей мере не отрицают мои тезисы о творческой зрелости поэта ещё в довоенную пору, но всё же я ожидал каких-то, пусть и малых, открытий и прежде всего стихов, которые мне ранее не были ведомы. Таковых не нашлось! За исключением одного, явно экспериментального и во многом полемичного, связанного с раздумьями о своей родословной. (Судя по всему, поэт от этих строк решительно отказался и оставил лишь в черновиках.)
Очень я надеялся встретить какие-то увлекательные литературные письма. Короткое, сугубо деловое письмо Константина Симонова носит обычный характер переписки автора и редактора. Письмо Евгения Винокурова менее официальное, я бы сказал, приятельское: Винокуров искренно хочет помочь ленинградцу напечататься в столице. Два письма Хаустову от Павла Шубина, старшего друга и учителя, сугубо свойские, написаны впопыхах, может, в дорогах… Это разбор новых стихов подопечного с довольно резкой критикой отдельных строк и даже как бы учительскими заданиями: сделать то-то, сделать так-то…
Порадовала меня программка творческого вечера Л. И. Хаустова. Вечер в большом зале Дома писателя имени В. В. Маяковского состоялся в четверг 15 октября 1970 года и был посвящен 50-летию со дня рождения поэта. Вступительное слово произнёс друг детства критик и литературовед Аркадий Эльяшевич, вёл вечер земляк Хаустова, тоже вятич, прозаик и драматург Аркадий Минчковский. Чтец Лев Елисеев, очень популярный мастер художественного слова тех лет, составил и исполнил композицию по стихам Хаустова. Были исполнены и романсы композитора Дмитрия Толстова, с которым Хаустова связывали долгие годы дружбы и сотрудничества.
1970 год, октябрь… Да я же в это время работал старшим редактором редакционно-издательского отдела общества «Знание» на Литейном, 42, на втором этаже Лектория, то есть совсем неподалёку от Дома писателя! Если бы я знал о вечере, непременно после работы добежал до улицы Воинова, 18 – это же так близко! Разминулись мы, к сожалению, тогда, а я ведь именно в эти дни работал над большой рецензией на однотомник Хаустова «Стихотворения и поэмы»!
Что же ещё?.. Уточнения многих датировок. За это всегда любым источникам – низкий поклон. Одно уточнение биографического толка. Оказывается, в детстве два раза Лёня Хаустов вместе с отцом работал в геологических партиях в родных вятских краях, точнее – в верховьях Вятки у реки Кобр в районе села Синегоръе. Вот откуда восклицание поэта в Крыму, в самое пекло – махнуть бы в Синегорские леса! Иногда и география помогает биографии.
…Закрываю принесённые мне папки. Всматриваюсь в пометы на обложке: «Начато 27 августа 1944 года, закончено 22 августа 1980 года». Личное дело члена Союза писателей Леонида Ивановича Хаустова…
И вот передо мною опись долгожданного фонда № 728 в Центральном государственном архиве литературы и искусства на Шпалерной улице, дом 34. Фонд этот значительно моложе того, о котором шла речь выше: вторая жена Л. И. Хаустова Мария Петровна в 2003 году, спустя 23 года после кончины поэта, передала, вероятно, всё, что составляло архив домашний. По профессии она была инженером, литературно-архивные тонкости в работе не изучала. Посему фонд получился в итоге сумбурным, многое носит случайный характер, очень многое в архив сдавать не имело смысла вообще.
Что проясняет этот фонд, чем он обогащает исследователя? Прежде всего в ряде документов чётче обозначены даты штатной работы Хаустова. Оказалось, что с 1944 года по 1946 год он занимал должность редактора (рядового, не главного) в редакции журнала «Костер». Такой сюжетный ход в биографии Хаустова вполне логичен: во-первых, он профессиональный педагог-литератор, во-вторых, у него уже был опыт работы в детской редакции Радиокомитета. С 1946 года по 1951 год он значится руководителем литературного кружка при Дворце пионеров. А вот тут биографическая и одновременно кадровая неувязка: по другим данным, он и в блокадную пору вёл занятия в литкружке при Дворце на Фонтанке.
С 1947 года по 1950 год (опять «нахлёст» получается!) он занимает должность (может быть, общественную?) председателя Бюро объединения молодых писателей при Ленинградском отделении издательства «Молодая гвардия». Отделение вскоре было ликвидировано и, как я не раз уже писал с горечью, никогда не восстанавливалось, хотя мне как помощнику руководителя Ленинградской писательской организации в 1972 году было дано задание не только подготовить соответствующие документы для ЦК ВЛКСМ и ЦК КПСС, но и, взяв за основу штатное расписание Ленинградского отделения издательства «Советский писатель», предусмотреть примерно такое же в новой организации. Помнится, мне говорилось так: «А там, глядишь, и литобъединение повышенного типа при новом издательстве организуем. Было ведь такое! Поговори на эту тему с Хаустовым…» Говорить «на эту тему» не пришлось, ибо во всех ходатайствах ленинградцам было отказано, и мы продолжали существовать на скромнейшем издательском «пайке».
С 1950 года по 1968 год перерыв почти в 18 лет – в плане штатной работы. Но вот важное уточнение – появляется в документах строка: с 1968 года по 1971 год Хаустов занимает должность заведующего Бюро пропаганды художественной литературы, то есть, по сути дела, практически руководит всеми писательскими выступлениями и всеми литературными кружками и объединениями. Должность сия не сахарная: с одной стороны, идёт постоянное давление с «третьего этажа», где помещается руководство, а с другой, – со стороны членов Союза писателей и тех немногих НЕчленов пока, кто прошёл методсовет и кому разрешено выступать по путёвкам Бюро. Именно в те годы я, выпускник журфака университета, работаю старшим редактором в обществе «Знание» (по соседству!), имею уже немало публикаций, очень замотан и получаю зарплату (без премий) сперва 115, а затем 120 рублей. В подработке очень нуждаюсь. Убеждён, что Хаустов помог бы мне начать регулярные выступления, но перед нами опять же пример моих упущенных возможностей!
Вы, конечно, можете спросить: «Так почему же вы не выступали по путёвкам общества «Знание»?» Выступал! За 7 рублей 50 копеек, но только на темы, так сказать, литературоведческие. Стихи читать свои я мог только изредка и лишь как дополнение к разного рода обзорам.
Напомню, что Общества книголюбов тогда ещё не существовало… Это уже потом выступления для книголюбов стали оплачиваться выше.
С работой Бюро пропаганды я как штатный сотрудник напрямую буду сталкиваться через два года, уже в качестве штатного сотрудника аппарата Правления, особенно – в связи с приёмом делегаций из союзных и автономных республик. Прямо скажу – тяжёлая была работа в Бюро: и – оперативная, и рутинно-канцелярская. Три года выдержал на данном посту Хаустов. Многовато для его взрывчатого неукротимого темперамента!
Фонд № 728 расширил моё представление о личных литературных контактах Хаустова: ему дарили свои книги Ярослав Смеляков, поэт, переводчик, историк русской поэзии, преподаватель Литературного института имени М. Горького Лев Озеров, польский поэт Владислав Броневский, поэт Борис Ручьёв, классик сатиры Леонид Соловьёв, с одним из новогодий его лично поздравил уже весьма популярный в масштабах страны Андрей Вознесенский. Это всё лишний раз говорит о том, что Хаустов и в 60-е, и даже в 50-е годы ни в коем случае не был, что называется, областным поэтом. Его знали, с ним считались.
Сбереглись в фонде № 728 разного рода наградные документы: удостоверения к медалям, грамоты «Ветерану полка противопожарной обороны» (к тридцатилетию полка: 1941–1971 годы), «Ветерану Невской Дубровки».
И всё же более всего порадовал меня фотоархив. Несколько фотографий и художественно выразительны, и высокого качества: юный Лёня Хаустов, вероятно, среди либо старшеклассников, либо среди однокурсников; а главное – как он читает стихи! Когда просто выступает (с трибуны, у председательского стола на собраниях, с эстрады), теряется даже присущая ему творческая индивидуальность, а вот поэзия его воистину преображает.
По-новому воспринимаешь и образ отца поэта – Ивана Васильевича. Сбереглись фотографии тридцатых годов. Групповые снимки очень живые, непосредственные, в центре непременно – геолог Хаустов. Обстановка явно не просто товарищеская, но даже дружеская. Один из фотоснимков отца поэта (он снят в профиль, изображение воспринимается как барельефное) несомненно достоин художественной выставки. Другие фотопортреты приземлённее, да и сняты по-любительски небрежно. Высокого качества фотокарточки из архива отца и матери Хаустова. Вероятно, в старой Вятке успешно практиковали несколько мастеров, которые могли бы потягаться со своими коллегами с Невского проспекта!
Очень жаль, что не сбереглось ни одной фотографии матери поэта Лидии Ивановны. Есть только одна фотокарточка – Лидочка в детстве. Зато её образ запечатлён в прелестных стихах сына, более того, этот образ сопоставим с матерями Есенина и Некрасова. Мне как довженковеду недаром вспомнился призыв Довженко – писать «самыми чистыми красками отшумевшую юность свою». Юность матери Хаустова, запечатлённая в его проникновенных стихах, – тема для особого большого разговора и о психологизме в поэзии, и о типе русской девушки из провинции конца XIX – начала XX веков.
Диплом об окончании Хаустовым Пединститута почему-то… дубликатный. Неужели Леонид Иванович оригинал потерял где-то на военных путях-перепутьях?.. Но удивительнее всего другое – государственные экзамены датированы… 18 октября 1941 года! А ведь в поэме «Опасная сторона» такие же экзамены проходят в лютый блокадный мороз! Вероятно, перенос действия на два-три месяца имел чисто художественный смысл, к тому же блокадная зима трагичнее других времён года блокадных календарей.
Газетных и журнальных вырезок мало, есть случайные, не очень-то важные в творчестве поэта. Бережно хранится в одной из папок целый (и в неплохом состоянии) номер 13–14 (сдвоенный) журнала «Ленинград» за 1940 год со стихотворением Хаустова «Кувшин». Он в этом номере – единственный дебютант. В целом же уровень номера достаточно высок и авторитетен, что, конечно, тем не менее, не означает разного и не однозначного отношения к литераторам той поры. Но одно ясно бесспорно: довоенный Ленинград – подлинная литературная столица страны. Что же касается самого «Кувшина», то написаны строфы несколько вычурно, но даже с блеском. И всё-таки стихотворение это в свой главный актив в дальнейшем поэт не включал.
А рукописи стихов и прозы? Думаю, что как прозаик Хаустов всё же родился на фронте, став автором фронтовых и путевых очерков. Среди стихотворных текстов абсолютно нового для себя я не встретил: варианты, работа над словом, бесконечные сокращения написанного.
Два писательских документа составляют сердцевину архива: весьма скромный по внешнему виду писательский билет 1944 года и помпезный, большой, бордовый за подписью Г. М. Маркова билет 1980 года. А между этими датами – писательская судьба.
Что ещё?.. Уточнил, как всегда, датировки стихотворений, очистил совесть (ведь не мог же я выпускать этот том без архивной работы!). Растревожил душу. Во-первых, как вы поняли, Хаустов для меня не чужой человек. Во-вторых, я сам сейчас формирую два фонда: отца своего, драматурга, публицистика, критика и литературного педагога Николая Афанасьевича Сотникова, и свой… Есть, что учесть, чему поучиться и от чего предостеречься. Хаустов продолжает давать мне и посейчас свои уроки.
…Волны памяти. То – высокая волна, то – почти водная рябь. За волной идёт волна, и мы, поклонники «державного течения» Невы, сторонимся стоячих вод.
Лично я в Педагогическом институте имени А. И. Герцена (ныне – Педагогическом университете) никогда не учился и не работал, и всё же он стал для меня родным и близким, будто с ним была связана и моя судьба. Наверное, это потому, что это альма-матер Леонида Ивановича Хаустова. Верно сказал о своём друге Лев Михайлович Демин: «Есть люди, которые утрачивают всякую духовную связь и с малой родиной, и с родной школой, и с институтом, который в прямом смысле слова ОБРАЗОВАЛ человека. К Хаустову это никак не относится! Он остался верен всему, что любил и во что верил!».
Бывал я не раз на факультете литературы и русского языка на Первой линии Васильевского острова, но почему-то всё же считаю именно главное здание и окружающие его корпуса тоже как бы малой ленинградской родиной Леонида Ивановича.
До войны пединститут наш очень высоко ценился, и поступить туда было вовсе не легче, чем в университет. Педагогические кадры были отличные, в институте царил дух творчества. Недаром его в шутку называли во второй половине 30-х годов «ленинградским Литинститутом». Педвуз наш словно принял эстафету от Высших курсов искусствознания при Институте истории искусств на Исаакиевской площади, в чём-то соперничал с Коммунистическим институтом журналистики на канале Грибоедова, а в чём-то – и с РЛУ (Рабочим литературным университетом) при Доме писателя имени В. В. Маяковского. Вот на эти взаимосвязи и обращал внимание своих учеников, своих студийцев Павел Шубин. Сам студент, он уже имел «птенцов гнезда Шубина», как любил иронично заметить. Среди этих «птенцов» заметно выделялся студент Леонид Хаустов, который был младше Шубина всего лишь на шесть лет. Шубин учил его не только писать и редактировать, но и преподавать. И – научил!
В музее нынешнего Педагогического университета хранятся не только книги и фотографии Павла Шубина и его лучшего ученика Леонида Хаустова, но и список профессиональных литераторов, которые были либо студентами, либо аспирантами педвуза. Прямо скажу, не все эти имена мне хотелось бы вспоминать. Самые дорогие мне я назвал – и достаточно! К тому же я пишу не историю педвуза и его литфака, а последнюю, завершающую главу дневниковых записей члена Комиссии по литературному наследию Хаустова.
Когда увидела свет в 1982 году в Лениздате первая посмертная книга стихов и поэм Леонида Ивановича «Оставляю вам стихи», два ветерана писательской организации, активисты историко-мемориальной комиссии при Правлении, почти в один голос похвалив меня, стали мне предлагать сделать такие же сборники таких-то и таких-то поэтов старших поколений, на что я вежливо, но категорично ответил: «Такое возможно только один раз и – с творчеством того, кого безгранично любишь!».
Давно мне мечталось подарить музею педвуза наш с режиссёром Виктором Фёдоровичем Окунцовым фильм «Сорок первый наш год призывной…» об участниках прорыва блокады, о трёх поэтах – Леониде Хаустове, Анатолии Чепурове, тоже учившимся в Институте имени Герцена, но заочно и в послевоенные годы, и Александре Межирове. Да ведь как это сделать? Киноплёнка пропала, неведомо куда. Есть у меня видеозапись, но она за все эти годы так «наработалась», что нуждалась в реставрации. И вот музей педвуза за эту реставрацию взялся, теперь в музейных фондах есть и компакт-диск с записью почти всего фильма (за исключением самого начала) и запись в компьютерной памяти.
Лично я от этой новейшей техники далёк, надеюсь лишь на свою духовную память, самый надёжный компьютер, который мне и надиктовал книгу, которую вы держите в своих руках.
Весной 2012 года меня пригласили сотрудники музея и руководство психологического факультета педвуза выступить перед большой аудиторией студентов и преподавателей с показом нашего фильма о двух питомцах института.
Больше всего я боялся того, КАК нынешние парни и девушки будут смотреть и слушать наш фильм! Именно – и СЛУШАТЬ, ибо фильм буквально напоён и музыкой, и стихами. Тридцать минут стояла абсолютная тишина, а затем зал взорвался долгими аплодисментами! Я был счастлив. Самое главное – фильм не устарел, как очень часто быстро старятся документальные, особенно документальные ТЕЛЕфильмы.
Мы видели десятки фотоснимков Хаустова (кинокадров не сохранилось!), слышали его радиовыступление, последнее в жизни, стихи в его исполнении – помогла пластинка «У жизни на пиру», которую умело и без потерь переписала наша звукооператор Елена Порфирьева.
Самое удивительное другое – все в один голос говорили о том, что десять минут, одна киночасть, причем не сплошь, а перебивками (такова была изначально задуманная композиция фильма) наиболее ярко представляют нам именно Хаустова. Вероятно (скажу в порядке самокритики), нам с Окунцовым полностью не удалось снять некоторый телевизионно-репортажный налёт с выступлений Чепурова и Межирова. А вот Хаустов – весь нараспашку, такой, каким он был, каким мы его помним и любим!
Людей, знавших Хаустова лично, остаётся всё меньше и меньше. Их – буквально считанные единицы.
Но есть такое понятие – эстафета памяти. То, что она есть, подтвердили и публикаций в периодике, и радиопередачи, и телефильм, и книги, изданные после 1980 года, и эта книга, которая долго шла к читателям, но наконец всё-таки встретила их, чтобы с ними породниться.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































