Текст книги "«Жизнь, которая вправду была»"
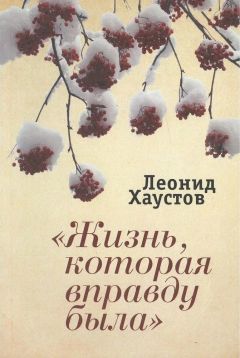
Автор книги: Николай Ударов
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 24 страниц)
Стансы о незабытой усадьбе
В городе Всеволовске на улице Сергиевской, 172
сгорела бывшая литфондовская дача.
…И всё-таки не всё пожар спалил —
остались ели и кусты, и травы,
но нет цветов. Они цвели на славу.
Теперь когда взойдут из-под земли?
Сомнений нет, что это был поджог —
не молния же это шаровая!
Не шаровая да и не простая.
Ну как я этот дом не убёрег!..
Я предлагал соорудить музей
и подготовил имена и даты.
Но где экскурсовод и где зарплата?
Не всемогущ энтузиазм друзей!
Но дух наживы страшен и силён.
Участок мил, подходит для коттеджа.
Горит огонь, и догорают в нём
любовь и память, слава и надежда.
Покуда нет запоров и оград
и не пропущен ток, и псы не лают в злобе,
пока последний час ещё не пробил,
я даже этой горькой встрече рад.
Вот здесь нашёл я первый моховик,
а здесь свою лелеял грядку…
Мне обо всём не вспомнить по порядку,
хоть я к воспоминаниям приник.
А здесь катил мой трехколесный друг,
а здесь в канаве бой морской я правил…
Не надо ни богатства мне, ни славы.
Минувшего, не замыкайся, круг!
Станция на Дороге Жизни
(всеволовск судьбу спустя)
Вторая улица налево
от переезда по прямой.
Опять судьба мне повелела
придти сюда, в мой дом родной.
Я вновь на станции притихшей,
моей отрадой ранних лет,
ничто на свете не забывшей,
Иду сквозь тьму
на этот свет!
Куда иду?..
На пепелище,
где до сих пор
не убран сор,
где дней моих златых жилище —
пожарищу
наперекор.
Но даже здесь
росы жемчужной
повсюду россыпи видны.
Они, конечно, пеплу чужды
как знаку горя и войны.
Но не блистать роса не может.
На то она и рождена!
И оттого всего дороже
по чистоте своей она.
Чтобы всегда поэзия сияла!
В день рождения Л. И. Хаустова (ему в тот день исполнилось бы 75 лет!) к нему на квартиру пришла лучше познакомиться с его творчеством немецкая студентка из ГДР Пе́тра…
«Какое это чудо – русский стих!» —
немецкая студентка восклицает.
И русский ослепительный язык
вновь, как родник,
искрится и мерцает.
На невских наша встреча берегах
в честь юбилея русского поэта.
Поэзия – наследство навека.
Река Времён, как море, широка.
Зато узка и своенравна Лета.
Навек влюблённый в Русь
учитель мой
любил страну Бетховена и Гёте.
Он, даже обездоленный войной,
вступая на Неве в смертельный бой,
не прерывал поэзии полёта.
Я поневоле замедляю речь,
чтоб немка лучше русский понимала.
Учитель мог навек
на поле боя лечь,
но выжил, завещая нам беречь
поэзию,
чтобы она всегда сияла!
Его последняя рябина
Л. И. Хаустов похоронен на станции
Дивенская близ Гатчины.
Есть могилы тоскливые,
есть надгробья надменные,
есть наивно-умильные
и совсем не приметные.
Есть пугающе-грозные,
есть безвкусно кричащие,
есть могилы бесслёзные
и искусно скорбящие.
Неизвестных солдат
и Солдата, который
Неизвестен, чтоб стать
достояньем истории.
Кладбищ даже боюсь,
обхожу стороною.
Пусть считают, что трус —
всё люблю я земное.
Но на Дивенской, здесь,
у могилы поэта
всё забуду, что есть,
и – признание это.
Просто – холмик в цветах,
полевых, не могильных,
запах сена и трав —
ненасытных, обильных.
И – рябина,
такая ещё молодая!
Им любима
и здесь
его
не покидает!
Поворот на станцию Дивенская
Поворот на Дивенскую плавный
снова в стороне.
Вновь на встречу не попал я,
что приснилась мне,
встречу с домиком сосновым,
где учитель жил
и, к несчастиям готовый,
счастьем дорожил.
Ждал закаты и рассветы,
дождик и грозу
и цветы с началом лета,
и грибы в лесу,
луговое разнотравье,
под окном сирень…
И стихи писал и правил
каждый новый день.
Быстро таяли запасы
привезённых книг.
Каждый день – он словно праздник,
словно светлый миг.
От черемухи цветенья
до огня рябин
в этих вот сосновых стенах
он гостить любил.
И остался он бессрочно
здесь невдалеке
в тихой роще,
в светлой роще.
Он остался с кем?
С небесами и с лесами,
что вокруг царят
и, конечно же, – с цветами,
что в траве горят,
и, конечно же, – с рябиной,
что стоит над ним,
и со всем, что в жизни было
для него родным.
…Прибавляю тихо скорость.
Дождь меня нагнал.
Высоко вздымает гордость!
Как девятый вал!
Высоко́ восходит слово
в песенной строке.
Поворот маячит снова
там, невдалеке…
Встречая девяностые
Для добрых дел и чувств предела
вовеки не было и нет!
Леонид Хаустов(Из стихотворения «На рубеже восьмидесятых»)
Восьмидесятым посвятил
ты лучший тост из новогодних.
Я эти строки повторил
в ночь новогоднюю сегодня.
Десятилетие прошло,
не оставляя сожаленья.
Ему не скажет главных слов
моё навеки поколенье.
Иной эпохи сыновья,
мы все – ровесники Победы.
В стихах о том поведал я,
как ты о фронте нам поведал.
Ты прожил славно жизнь свою,
и цену счастья ты изведал.
И я недаром узнаю́
в твоей судьбе свою Победу.
Надпись на книге Леонида Хаустова
«День летящий»
День летящий,
радости таящий!
Ты его, попробуй,
догони!
На свету поющий
и звенящий,
день деньской,
для нас не догори!
День летящий,
в век переходящий!
За тобой угнаться
не успеть!
Ты, о счастьи
все мечты таящий,
будешь в сердце
вечно пламенеть!
Надпись на книге Леонида Хаустова
«Оставляю вам стихи»
Я оставляю вам стихи.
Что я могу еще оставить!
Они все ваши – до строки!
Мои любовь, печаль и память…
Я неуютный человек
судьбы нелегкой и нескладной.
Да и характер мой несладкий —
ещё один житейский грех.
Но я при этом был поэт.
А у поэта – вещий голос.
Пройдёт судьбы простая повесть —
останется волшебный свет.
Не зря!
Еще одна строфа из мрака
любовью к свету спасена.
Остаться вечною закладкой
была ей учесть суждена,
страничкой старого блокнота
(Теперь ты не найдёшь таких)…
Поэта вечная работа —
везде следы стихов твоих!
Идти в надежде и печали,
попасть стараясь след во след…
Всё отыскать смогу едва ли,
что написать успел поэт,
но буду счастлив бесконечно
его судьбу прожить сполна.
Не зря огонь пылает вечный
и за волной идёт волна!
Уроки мужества
Мой главный поэтический учитель
был самый яростный мучитель:
возьмёт себе он карандаш потолще
и – ну копьём в стихов заветных толщу!..
Строчки рушатся,
словно стены,
а у меня слёзы в глазах не сушатся
неизменно.
Смотрю на стихи свои
будто бы сквозь линзы…
Можно строчки, конечно, вылизывать,
а можно так вот —
крест-накрест
или же оторвать пальцами!
Но я проявляю характер
и начинаю упрямиться:
«Не дам! Это очень важно!
А это – просто находка!..»
Учитель взором сверкает страшным
так, что пересыхает глотка:
«Сиди и слушай!
Учись, жив я пока!
Гляди – всё лучше и лучше
становится
за строкой строка!
Переписывай тут же начисто
лирику
достойного
качества!»
Помолчит немного,
но встанет на пороге:
«А вот и задание тебе на́ дом!
Сделать то
и вот это
надобно!..»
…Чай подзаварит,
затем холодильник
вмиг по-хозяйски
опустошит.
Так вот поэзию мы проходили
душа в душу
две живые души!
Учил орёл орлят летать
Обо всем сказал по-своему,
так сказал, как приказал!
Был учителем и воином.
Горе знал и счастье знал.
Знал село и город каменный.
Песни русские любил.
С разудалыми цыганами
дружбу крепкую водил.
Молодые стихотворцы
шли на исповедь к нему.
Он учил их чудотворству,
понимая, что к чему…
Со строкой умел поладить.
Музыкой бывал пленён.
Вдохновенье видел в правде.
Смело шёл на связь времён.
И его любило счастье,
от напастей берегло.
Он успел, с землей прощаясь,
нас поставить на крыло.
О его школе
Старый мастер… Ну, не то что б старый
(Мастер – да, но вовсе не старик!),
сочетая доброту и ярость,
бил мои ошибки напрямик.
Сеял бури и вносил разруху,
но вручал спасительную нить…
Пожимал мне на прощанье руку,
говорил так просто:
– Будем жить!..
На гребне яростной волны
Написано было ко дню рождения Л. И. Хаустова
через двадцать лет после его кончины…
Двадцать лет… Каких? Таких, что
горше не сыскать!
С головой стою́ поникшей
в этот день опять.
Двадцать лет… Поверить как же —
даль и словно миг!..
Только ты, строка, расскажешь
всё, что я постиг.
Двадцать лет… Учитель словно
не ушёл во тьму —
вновь гранит и ладит слово,
судя по всему.
Двадцать лет… Мне всё известно,
что он сочинял.
Всё, что можно, я изведал
и для всех издал.
Двадцать лет… Что остаётся?
Что мне предстоит?..
Уходить и мне придётся.
Путь всегда открыт.
Я обязан быть на гребне
яростной волны!
Встретить в бурю наше время
мы душой вольны.
Неповторимый фотоснимок
Этот снимок неповторимый
чудом подлинным наделён.
Мой учитель, судьбой хранимый,
смотрит весело в даль времён.
Юбилейный день отмечая,
он лавровый не ждёт венок.
Ни восторга нет, ни отчаянья
в ожидании новых строк.
Говорит он в тот миг со мною,
двадцать лет уже говорит,
со страною – своей строкою.
А строка – в са́мом сердце царит!
От прощания до колыбели
жизнь промчалась быстрее дня!
С фотографии юбилейной
смотрит Хаустов на меня!
«Созвездье слов – судьбы награда…»
Созвездье слов – судьбы награда
всем испытаньям вопреки.
Не помню мебели громаду,
но помню книги и стихи.
Они везде, они повсюду.
На них – свет солнца золотой.
Они всегда – такое чудо,
как небосвод наш голубой!
Цвет окон – смена дня и ночи.
Не наглядеться в них никак!
То вновь длиннее, то короче…
Как стихотворная строка!
Любил в его бывать я доме,
где свет и воздух, и простор.
Делиться не желал бедою,
неспешный славил разговор,
припоминал всегда былое:
когда – своё,
когда – из книг…
Воспоминание святое!
Я вновь к тебе душой приник.
И времена все, и пространства
он отменял их, чародей!
Вокруг ушли,
а он остался,
жил потому что для людей!
Порою был горяч уж слишком,
порой придирчив был до слёз…
И славой оказался выше
тех, кто наградами оброс.
Его же обнесли наградой
на бурном жизненном пиру.
А он с наградой не был рядом —
он был всегда с тобою, Русь!
Я к возрасту его всё чаще
в своих тревогах подхожу,
на календарь с тоской прощальной,
как в бездну горную, гляжу.
Я возраст тот преодолею
или он канет камнем вниз?..
Но всё мудрее, всё звучнее
стихом пронизанная жизнь.
Всей жизнью каждое созвучье
в судьбе моей напоено́.
Меня ведёт учитель лучший,
хотя расстались мы давно.
Расстались.
В дружестве остались.
Костёр наш с ним
неугасим.
Судьбы́ я календарь листаю.
Последний лист неуловим.
За вас продолжаю полёт
Светлой памяти поэта Леонида Хаустова,
который скончался за десять дней до своего
шестидесятилетия в 1980 году.
Поравнялся я с Вашим возрастом,
одолеть сумел Ваш рубеж,
но скорей всё шагаю к пропасти,
за которой нет и надежд.
Помню весть о кончине Вашей.
День померк…
И в глазах темно…
Я поклялся тогда
всё оставшееся
уберечь.
И сберег всё равно!
Весь архив разбирал по листочку,
поначалу путал слова,
в запятые вникал и в точки…
Так вот стих за стихом оживал!
Записные книжки, тетрадки,
дневники и простые листки
отдавали мне в беспорядке
сокровенные Ваши стихи.
За подборкой пошли подборки,
книги[32]32
Первый посмертный сборник поэтических произведений Леонида Хаустова «Оставляю вам стихи» вышел в свет в Лениздате в 1982 году, второй – «Помню наизусть» (в составе коллективного сборника поэтов-фронтовиков «Дороги наши фронтовые» – тоже в Лениздате в 1985 году.
[Закрыть], фильм[33]33
Леонид Хаустов вместе с Александром Межировым и Анатолием Чепуровым стал героем документального телефильма «Сорок первый наш год призывной…» (Лентелефильм, 1983).
[Закрыть]…
Всё – за шагом шаг.
И хотя на душе было горько,
наполнялась огнём душа!
…Так никто мой архив не встревожит.
Я страшусь, что он весь пропадёт,
и, как будто бы лист лета прошлого,
в неизвестную даль опадёт.
Счастлив я, что чиста моя совесть,
что учителю верность храню,
но года мои мчатся, как поезд,
к невозвратному Вашему дню.
Можно скорость, конечно, сбавить,
но тогда как всё лучше писать?!!
В скорлупу свою жизнь
можно спрятать,
но себя невозможно предать!
Вы меня по-другому учили
жить, писать и стремиться вперёд,
от других навсегда отличили…
Значит, надо продолжить полёт!
Склоняясь над архивами друзей
Вновь разбираю я фотоархивы
тех, кто с годами родней и родней.
Стану от счастья чужого счастливым.
Вспыхнет мой вечер сияньем огней.
Эти огни – то с Большого проспекта,
то с неизвестной вятской реки,
то из блокады и раннего детства…
Чаще всего – не огни – огоньки!
Жили мы долго по жизни соседями.
Я всё годился ему в сыновья.
Нашими вечно гордился беседами.
Вот она – главная школа моя!
Школа поэзии!
Кафедра творчества!
Строгость и ярость!
И нежность души!..
…До моего, наконец, одиночества
строки и снимки вот эти дошли.
Умер учитель мой самый любимый,
следом за ним —
лучший мой ученик[34]34
Книга прозы Вячеслава Всеволодова «Рубежный камень» (а Всеволодов был одним из самых любимых учеников Леонида Хаустова) вышла в свет в 2013 году в издательстве «Алетейя».
[Закрыть],
те, кто для сердца
необходимы.
Но всё равно, жив искусства родник!
Сделал, что мог.
Может быть, даже – больше!
Вышли творенья
почти все
на свет.
Сколько же лет
сердцу верному больно?
Сколько же лет!..
Знаю любой фотоснимок любительский.
Каждую запись твержу наизусть.
Долгих волнений не в силах я вынести:
злая тоска наступает – не грусть!
В детскую пору, конечно, не ведал я
смысла великого каждой черты.
Нынче иду осторожно по следу я
многих открытий, порою простых.
Скудность уюта послевоенного.
Мира духовного
красота.
Мира волшебного, доброго, верного
вновь предо мною восходит звезда.
Николай Сотников
«…И за волной идёт волна…»
(Из дневника члена Комиссии по литературному наследию Л. И. Хаустова)
Он верен был родному краю
(Вятская тема в творчестве Леонида Хаустова)[35]35
На основе этой статьи я написал одноимённую радиопередачу для Кировского областного радио.
[Закрыть]
С лёгкой руки Александра Твардовского вошло в нашу литературу да и вообще в духовную жизнь меткое выражение «малая, первоначальная, родина». Без такой малой родины трудно себе представить настоящего художника, а поэта – особенно. Задолго до Твардовского на невыразимую высоту поднял понятие РОДИНА ПОЭТА кумир Леонида Хаустова великий Гёте.
Любил Хаустов свою Вятскую землю горячо и беззаветно. Родился он в 1920 году в городе Нолинске, но вскоре его родители, сельские учителя, переехали в село Новотроицкое, где будущий поэт прожил десять лет, пока вся семья вслед за отцом окончательно не переехала в Ленинград. Для отца Хаустова Ивана Васильевича это был не просто переезд, не просто изменение, причём, коренное образа жизни, но и смена профессии: он и раньше увлекался геологией, но отныне геология навсегда становится делом его жизни.
Но родное, ставшее родным, Новотроицкое не осталось лишь в памяти и в легендах, как порою бывает у бывших сельских жителей, решительно ставших горожанами, а продолжало существовать на равных с Ленинградом. Отец брал сыновей с собой в геологические партии, а работа геолога очень часто (вот совпадение!) приводила его в родные вятские края.
В тяжелейшую военную пору вся семья Хаустовых вновь собралась в эвакуации в родном селе – тяжелораненого офицера Леонида Хаустова после излечения в госпитале в городке Невьяновске отправили на поправку… в его детство! Редчайшее совпадение! Но ничего сказочного в нём нет: военврачи знали, что сравнительно неподалёку на малой родине молодой ленинградец и окрепнет, и душевных сил наберётся. Так и случилось. К тому же недавний выпускник пединститута имени Герцена приобщился к педагогической работе как воспитатель и учитель эвакуированных ленинградских ребятишек. И на этот раз можно смело сказать, повезло!
В Новотроицкое Хаустов привёз с собой стихи. Кое-что сохранилось в памяти, из довоенного, из фронтового, написанного под Невской Дубровкой. Чудом (опять – чудо!) удалось сберечь на всём многотрудном госпитальном пути записные книжки и блокноты, которые, как это ни странно, пополнялись в пути на Невьянск: раненый офицер диктовал новые строки, и дежурные медсёстры записывали их, пока этот неугомонный, цыганистого вида младший лейтенант вновь не впадал в беспамятство.
Так и получилось в стихах – на фронте грезил вятскими берегами, а здесь, в Новотроицком, мечтал о возвращении в осаждённый Ленинград. Сбылась эта мечта: добился своего, получил проездное предписание, правда, – пока до Тихвина. Но от Тихвина до Ленинграда рукой подать, если бы в мирные-то дни!.. Это «рукой подать» растянулось на несколько недель. Путь с берегов Невы к вятским берегам и обратно опишет Хаустов многие годы спустя в очерке «Возвращение в Ленинград». А сейчас скажем лишь одно: нашелся шофёр-попутчик, и началась дорога – из дома в дом, из одной малой родины – в другую.
В Ленинград въезжали под гул орудийной канонады, но ленинградцы шли, высоко подняв головы, как и положено победителям – не за горами уже был день полного снятия блокады. Хаустов хотел расплатиться с шофёром, но тот так посмотрел на него, что осталось только ограничиться словами благодарности. Шофёр был горд тем, что помог ленинградцу вернуться домой. И эта гордость была ему лучшей наградой.
Ленинград открывал счёт новым победам, но не закрывал счёт ежедневных утрат. Хаустов узнаёт об этих утратах буквально каждый день. Они останутся в его сердце и в его стихах. Он будет работать на Ленинградском радио, вести (ещё в блокадном Ленинграде!) детский литературный кружок, где среди его учеников окажутся ныне известные поэт и журналист Юрий Воронов, поэт Олег Шестинский и критик и публицист Алексей Гребенщиков. Он рано приступит к педагогической работе – более чем за год до выхода в свет его первой книги стихов, отредактированной Александром Андреевичем Прокофьевым. Книга называлась «Утренний свет». Этим утренним светом был свет Победы. Спасибо тем сёстрам и санитарам, сохранившим рукописные листки – без них многих страниц в этой книге бы не было!
А дальше? Дальше вроде бы обычная писательская биография: новые книги, встречи с читателями, поездки по стране и зарубежным странам, общение с учениками, которых становилось с каждым годом всё больше и больше, редкие, но всегда впечатляющие свидания с вятской землёй… С каждым годом её зов становился всё сильнее. Видимо, росло и чувство неудовлетворённости, в котором он иногда признавался своим ученикам (среди них был и автор этих строк): «Мало написал я о вятской земле! В большом я перед ней долгу…»
Сборник «Родному краю», вышедший в Кировском книжном издательстве в 1959 году, он любил больше как книгу, как издание, так как включённые в сборник стихи его с каждым годом удовлетворяли всё меньше. Первым решительным поворотом к вятской теме стала работа над поэмой «Военной зимой». Сперва это было большое сюжетное стихотворение «Варя». Оно потребовало продолжения, развития, углубления. Вначале оно посвящалось только медсестре, лечившей фронтовика в далёком тылу зимой, его влюблённости в неё, её вере в возвращение с фронта мужа. Строфы стихотворения вошли в поэму почти полностью, но появились две новые главы – начальная и конечная, дав не только дополнительные краски к фону времени, но, самое главное, раздвинув горизонт произведения. Автобиографичности во всём здесь искать и не следует. Поэт жил с родителями, а лирический герой снимает комнатку у школьного сторожа, например. Но такие детали существенной роли не играют. Зато появились другие, куда более существенные. Скажем, – такая строфа, казалось бы информационная, на первый взгляд:
Семнадцать вёрст пройти ей будет надо
холодного, метельного пути,
чтобы блокадным детям интерната
коробку витаминов принести.
Теперь Варя не только умелая медсестра, побывавшая сама на фронте, не только верная жена, но самоотверженный, мужественный человек. Оказалось, что здесь, на вятской земле не один он, раненый защитник Ленинграда, но неподалёку живут спасённые ленинградские дети. Опять пересеклись вятская и ленинградская темы.
Прекрасно выписаны у Хаустова старики – сторож Захар и жена его Агафья в её синем с белыми горошинами платке, который видится автору платком всех русских матерей, проводивших солдат на войну, сыновей своих и мужей. В том маленьком домике сошлись большие пути, дороги фронта и тыла, дороги времён недавних – боевых. Постоянно видятся раненому офицеру-ленинградцу и его фронтовые друзья, кажется ему, что за столом, где они вдвоём с Варей встречают день Восьмого марта, становится всё теснее – из далеких битв возвращается Варин муж, живыми-невредимыми ворочаются домой сыновья добрых стариков, хотя на одного из сыновей – Костю – уже пришла с далёкого фронта на вятскую землю похоронка. «Глубокий тыл. Глубокая зима» – слова, ставшие рефреном. Но и здесь в такт общему для всех времени тикают ходики. Они слышны, как слышны людские сердца.
Хаустов рассказывал, что на уроках в Новотроицкой школе не мог не идти на святую ложь: когда его спрашивали сельские ребята, его ученики, видел ли он на войне их отцов, он отвечал, что видел! Ребята были маленькие – может быть, им казалось, что война, фронт – это всё в одном месте, там все солдаты непременно встречаются. Вспоминая об этом, Хаустов с трудом сдерживал слёзы…
«Написать бы книгу только о Вятке! – мечтал он. – Пусть в такую книгу войдут и старые стихи, и новые. Есть у меня уже наброски – о самой Вятке, какой её помню с детства, о своей родословной (а она далеко в вятскую историю уходит!), о войне, конечно, как она и сюда через судьбы людские добралась, об отце с матерью – вятичах коренных…»
В 1975 году встретился Хаустов с земляком, другом детства, тоже коренным вятичем Львом Михайловичем Дёминым. Они не только друзья, но и дальние родственники. Детство вместе – на вятской земле, юность – в Ленинграде, а вот воевали далековато друг от друга: Хаустов, как мы знаем, на Ленинградском фронте, а Демин – на Дальнем Востоке, на Сахалине. Встретились, разговорились и неминуемо в мечтах вернулись в детство, на Вятку-реку: «Вот бы вместе собраться, одному из Москвы, другому из Ленинграда и отправиться в Новотроицкое, побродить по родным местам, рыбу половить, грибов пособирать…» И так размечтались, что ни о чём другом и говорить-то больше не хотелось. Стали вспоминать вятские обычаи, частушки, названия деревень да сёл, а вскоре написал Хаустов стихотворение, посвятив его другу детства и назвав – «Земляку».
Любил Хаустов и меткий народный юмор, и хлёсткие названия, и озорные вятские частушки, но особенно его трогал старинный, идущий словно из глубин народной души напев:
Вот так жила и пела Русь
из века в век, из года в годы.
И тенью песни этой – грусть
ложилась на сердце народа…
А дымковскую игрушку он просто обожал! «Цветастый их хоровод» украшал комнату поэта. Всюду они были, – маленькие цветастые фигурки, – на рабочем столе, на книжных полках, особенно той, где собраны книги о Вятке и книги вятичей.
Погляжу, уставши за день,
на цветастый хоровод —
словно душу кто погладит
и печали все уймёт.
Любил игрушки, любил и творцов их – народных мастеров… Мне как члену Комиссии по литературному наследию Хаустова удалось уточнить дату написания им стихотворения «Мастер». Оказалось, что написано оно в августе 1944 года. Напомню, что блокада была уже снята, поэт работал на радио, готовил свою первую книгу стихов… И вот он вновь обращается к вятской теме, воплотившейся в данном случае в образе старого народного мастера, для которого поэт-фронтовик по-прежнему остался вихрастым любознательным мальчишкой, обожавшим часами просиживать в его мастерской.
Старый мастер не только творил игрушки, он творил сказку и про Матрёшку и про Ваньку-встаньку, и про их похождения в лесу и встречу с серым волком…
Память детства, до чего тепла ты!
Мне с тобою далеко шагать.
На привале хорошо солдату
из письма от матери узнать,
что в родной далёкой деревушке,
где зимой до крыш бывает снег,
делает чудесные игрушки
золотого сердца человек.
Была работа, была служба, но был и этот привал, когда хотелось отринуть от себя военные впечатления, прорваться через их завесу к далёким чистым годам детства. Хаустов в таком желании не был одинок. И Александр Довженко даже в самые грозные годы войны уносился в мечтах на свою Зачарованную Десну, в старую хату на окраине городка Сосницы, и вставал перед ним видением из детства серый конь в яблоках – живое воплощение мечты.
Хаустов безмерно любил природу во всех её явлениях и проявлениях. Он бывал очарован юго-восточным Крымом и лёгкой, словно шёлковое покрывало, алма-атинской ночью, алтайскими отрогами и пред-карпатской степью, но неизменно в стихах возвращался на вятскую землю, где узнал красоту природы впервые. Рябины, украшающие его стихи – вятские, луговые цветы – вятские, сирень и черёмуха – и те вятские! А встречи с ними в других краях – как повод для возвращения к истокам.
Сколько домов деревянных он перевидал, но отчий дом – словно отец всем тем домам. Ставлю на проигрыватель пластинку[36]36
У жизни на пиру. Лирические стихи. Читает автор. Ленинградский завод грампластинок. 1975(?).
[Закрыть] и слушаю голос Хаустова. Самым авторским из всех своих чтений у Хаустова было чтение стихотворения «Отчий дом». Когда он начинает вновь и вновь читать это произведение (а ведь это пластинка – поэтому слушать можно без конца и всегда оправдано настоящее время!), кажется, что начинает звучать вятский народный наигрыш – радостный, нежный, лукавый и щемящий:
Мой дом,
мой первый на земле,
мне видится бревенчатый,
в обнимку с тополем,
в селе,
с утра дымком увенчанный…
…В том доме каждая доска
живая – чуть дотронешься,
а притолока так низка —
не хочешь, да поклонишься!
Всё это поэт назвал в стихотворении о детстве так – «Большая, как память, любовь».
Память действительно была большая, благодарная, но нельзя забывать от том, что путь от человеческой памяти до поэтической бывает и далёк, и неровен.
Последней прижизненной его книгой стал сборник «День летящий». Последней из числа задуманных – сборник «Быть Человеком!». А между ними – та книга, которую мне пришлось делать как редактору и составителю уже без её автора. И название пришло неожиданно: мы с вдовой поэта, разбирая его архив, в ряду рукописей нашли маленькую записочку из больницы: «Друзья! Оставляю вам стихи!». Вряд ли Хаустов, набросав эти несколько поспешных слов, передавая папку с рукописями за несколько дней до своей выписки, придал словам тем слишком большое значение. И потом была жизнь, целый год жизни и трудов. Но вот нашлась маленькая записочка и помогла нам назвать книгу – «Оставляю вам стихи»… Другое значение – куда более широкое!
Готовить этот сборник было тяжело – поэт не успел представить в издательство рукопись и не провёл даже подготовительную работу по формированию сборника. А мы решили твёрдо – не ограничиваться только переизданием, обязательно представить в книге и новые стихи. За то короткое время, которое было в нашем распоряжении, весь архив «поднять», разобрать и тем более изучить мы не успели, однако, уже самые первые находки нас не могли не порадовать. Прежде всего, это были две незавершённые поэмы – «Живая вода», посвящённая вятским страницам детства, и «Учитель», поэма о той самой любимой школе Хаустова на Фонтанке. Так опять встретились темы двух «малых, первоначальных родинах» в судьбе поэта!
«Я сегодня явственнее вижу всё, происходящее в былом» – вот, пожалуй, главный автоэпиграф ко всему творчеству Хаустова последних лет. А видит он с вершины лет главное в жизни. («Главное в жизни» – название одного из последних сборников Хаустова; «С вершины лет» – так он хотел назвать книгу избранного.) Память уносит его в двадцатые годы, когда Хаустовы жили в Новотроицком, когда у учителя Ивана Васильевича Хаустова, отца поэта, впервые зародилась мечта стать мелиоратором, а впоследствии – и геологом. А виной тому шохра, «заболоченное поле, вымахи осины и ольхи», шохра, скрадывающая пашни, угодья, причинявшая столько бед и огорчений.
Контраст и противоборство мёртвой воды с водой живой – есть ли ещё более общий и более постоянный конфликт в жизни и литературе? Но здесь он решается очень конкретно и даже, на первый взгляд, буднично: уговорил учитель Хаустов земляков взяться за осушение шохры прямо во время любительского спектакля, со сцены, в костюме Гамлета (Иван Васильевич был ещё и театрал отменный, и музыкант-любитель!), и на следующий день закипела работа! Но самое удивительное в том, что и спустя почти полвека, проезжая по родным местам, поэт узнаёт, что народная память в благодарность продолжает называть ручей, осушивший ненавистную всем шохру, Ивановым ручьём!..
Признаюсь, почерк у Хаустова я разбирал далеко не всегда, и в далёком уже ныне 1981 году, готовя к печати с трудом расшифрованные отрывки из поэмы «Живая вода», я зафиксировал текст так:
…А шохры нету, нету шохры.
Сверкают блюдечки купав,
и на ветру мне слышен шёпот
поднявшихся на пойме трав.
Вот край душевного привета.
И – речка… Как названье ей,
хотел узнать я, и на это
мне был простой ответ – ручей.
Теперь, имея в своем распоряжении и другие страницы черновиков, я с удовольствием исправляю ту давнюю ошибку: последняя строка должна звучать так: «Иванов, был ответ, ручей», то есть, ручей имени отца поэта – Ивана Васильевича Хаустова!
Поэма об отце имела и краткий план: «Разговор в поезде. Знакомство с геологами. Представляюсь, называю фамилию. Огорчён тем, что стихов моих не знают, не читали да и вообще поэзией не увлекаются. Зато знают моего отца! Оказывается, по какому-то вкладу в геологию. Меня это очень тронуло. О многом заставило задуматься…»
Глава «Микера» была напечатана Хаустовым поначалу как самостоятельное произведение, а вот всё остальное уже никому и никогда не восстановить. План так и остался планом.
Такая же детальная и долголетняя ждала разработка у Хаустова и по поэме «Учитель», посвящённой любимому им школьному учителю Д. Н. Чубинову, биологу, коллекционеру, человеку, буквально одержимому любовью к детям и растениям:
…Нами помнится спозаранку
Щербаков переулок весь
и смотрящая на Фонтанку
школа та, что и ныне есть…
…Отшлифована безукоризненно
всем, что было и что ушло,
предо мной обернулась линзою
толща времени, как стекло.
В эту линзу времени попадают многие стоп-кадры минувших дней: и безукоризненный, а по-своему и уникальный кабинет биологии, созданный Чубиновым, и он сам, похожий на Дон-Кихота, вечно окружённый, даже облепленный детворой, и надвигающаяся блокада Ленинграда… Да, поэма должна была пройти и через девятьсот блокадный дней. И вновь читаю записи торопливого острого пера: «Это должна быть поэма об Учителе с большой буквы, о гражданине, о подвижнике… Слишком любил детей, чтобы стать образцовым методистом, толкователем урока… Умер в своей школе, в блокадную зиму, спасая коллекцию своего кабинета. Не съел ни одного злака… Всё осталось, как и было до 22 июня 1941 года. Узнал о его смерти, вернувшись в Ленинград из Новотроицкого. Школьные годы без него в моей памяти опустели, словно школьный коридор. Вот он, негероический на вид герой, одни из подлинных защитников Ленинграда…»
О Чубинове Хаустов думал и в последний день своей жизни 21 августа 1980 года. В его пишущей машинке осталась перепечатанная им начисто машинописная страница – финал поэмы «Учитель» с последней строфой, ставшей и подведением жизненных итогов, и завещанием, напутствием своим читателям:
Можно многого стать рабом —
власти, славы, страстишек мелких.
Есть другое – тянуть горбом
в неслабеющей перестрелке.
…Все эти года я разбирал архив поэта. Не такой уж он и объёмный, этот архив, но ёмкий, насыщенный, трудно читаемый, почти все страницы рукописные, а не машинописные. К тому же много записных книжек, блокнотов… Боялся – не пропустить бы какой-нибудь страницы!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































