Текст книги "«Жизнь, которая вправду была»"
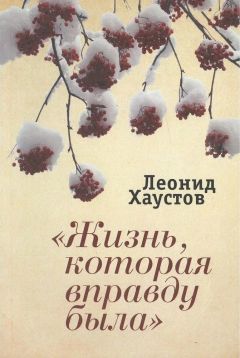
Автор книги: Николай Ударов
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 24 страниц)
Военной зимой

1
Глубокий тыл. Глубокая зима.
Я просыпаюсь в ледяных потёмках
и по армейской въевшейся привычке,
как по сигналу, тороплюсь вставать.
Гремит, в ладони тычась, умывальник,
и вот уже, обозначая утро,
в печи дрова, шипя, исходят пеной
и варится картошка в чугуне.
Я комнату газетами оклеил,
газетами покрыл рабочий стол,
и в этом есть достоинство: живу я
с эпохою моей лицом к лицу.
Картошка сварена, и печка прогорела.
Малиновые угли пышут жаром,
клубя в себе мои воспоминанья
о днях иных и о другом огне…
В минуту эту я перед собою
так ясно вижу, словно наяву,
однополчан.
Я, братья, снова с вами.
Вы —
это ты, комбат мой Лукичёв,
храбрец из храбрых капитан Анохин,
наш военфельдшер, песенник Хоменко,
телефонисты, – как же звали их?
Когда в землянку угодила бомба,
мы этого не услыхали – просто
очнулся я, засыпанный землей,
придавлен тяжко мертвыми телами
моих друзей.
А там, над головой,
на месте брёвен в три наката
было
большое небо. Плыли облака.
И вот я здесь, в деревне, на поправке.
А сердце – там, на невском берегу…
На кухне проскрипели половицы,
и входит он, дверь отворив без стука,
мой друг Захар, ночной при школе сторож,
меня пустивший поквартировать.
Он говорит:
– Мое почтенье! Здравствуй!
Я со двора привет тебе принёс
от зайчиков, что в поле наследили,
и от снежка, который ночью выпал
и заровнял одну твою тропинку,
протоптанную к дому одному. —
Он достаёт внушительный кисет,
что полон самосада-горлодёра,
который схож с пожухлою травой.
Закуриваем. Думаем. Молчим.
Встаёт Захар.
– Ну, я пойду, однако.
Дровишки надо разнести по классам… —
Вот он ушёл, и я сижу один.
Совсем светло.
За стенкой, у Агафьи,
уборщицей работающей в школе,
жены Захара, ходики стучат.
Я целый день их стрекотанье слышу.
Они всегда – и день и ночь – в работе
и точное показывают время,
в котором мы воюем и живём.
Я думаю о том, пусть у Агафьи
ошибкой оказалась похоронка,
пришедшая на сына Костю…
2
Глубокий тыл. Глубокая зима.
Я выхожу на улицу, и воздух,
ударив в ноздри, голову мне кру́жит,
как школьнику зимою на катке.
И вижу я рабочий день села,
знакомые угадываю звуки:
вот проскрипел колодезный журавль
и, словно выстрел, хлопнула калитка.
Да разве я могу не засмотреться?
Как раз напротив зданья сельсовета
шагают допризывники в строю.
И командир их, волочащий ногу,
в кавалерийской, до земли, шинели,
им подаёт команду: «Запевай!»…
И песня зажигается над строем,
лихая песня «Три танкиста», песня
та самая, с которою и я
курсантом шаг чеканил в сорок первом…
А за кирпичной школой, меж деревьев,
как голубое облако, стоит
нарядный домик.
Мне идти туда.
Тропинку за́ ночь вправду завалило.
Прокладываю заново её,
не в первый раз и, видно, не в последний.
недолгий путь, и я – перед медпунктом.
На окнах марлевые занавески,
и над трубою розовый дымок, —
меж облаков проглядывает солнце.
Я тихо поднимаюсь на крылечко,
снег с валенок сметаю рукавицей,
как можно тише двери отворяю
и, шапку сняв, сквозь сени прохожу.
– Какой сегодня день хороший, Варя! —
И это всё, что я могу сказать.
Она сидит за столиком и пишет.
На ней халат и белая косынка.
Закончив фразу и поставив точку,
она так странно говорит: – Пришли? —
Я чувствую, что медленно краснею,
и виновато признаюсь: – Пришёл… —
Она мне перевязывает ногу
досадно быстро, как умеют только
медсёстры, побывавшие на фронте
(она была на финской). Эти руки,
проворные и маленькие, пахнут,
чуть слышно пахнут земляничным мылом.
Я тихо их беру в свои ладони
и говорю: – Простите ради бога… —
она глядит не то чтобы сурово,
но, в общем, мне понятен этот взгляд.
Она легонько поджимает губы,
которые всегда таят усмешку.
Мне хочется коснуться этих губ.
И это чувство – словно наважденье.
Уже с порога говорю я: – Варя!
Ведь нынче праздник, день Восьмого марта.
Не обессудьте, очень просим вас
зайти, как говорят, на чашку чая.
3
Восьмое марта. Сорок третий год.
Я помню всё до слова, до минуты.
Я жду её: придёт иль не придёт?
И всё же я уверен почему-то.
Уж сумерки сгустились над селом,
и я смотрю в окошко на дорогу.
Агафья суетится за столом,
давным-давно поняв мою тревогу.
Становится уже совсем темно.
Всё потонуло в мутноватой синьке.
Лишь видно, как толкаются в окно
лучами ослеплённые снежинки.
И как ни ждал – пришла она внезапно.
И прежде чем её я увидал,
я ощутил морозный свежий запах,
а в лампе огонёк затрепетал.
Ей был к лицу платок обыкновенный,
домашней вязки, теплый, шерстяной.
Моё жилище оглядев мгновенно,
переглянулась весело со мной.
Пальто её повешено на гвоздик,
что вбит сегодня только для него.
– А я всегда ходить любила в гости,
чтобы самой не делать ничего… —
Колёсико у лампочки вертела.
Кольцо блеснуло на её руке,
как маленькое солнышко желтело
на тёмном деревянном потолке.
Потом мы все сидели за столом,
и с улицы метельный слушал шум я.
Мы честно разделили вчетвером
одно большое, горькое раздумье.
Мы были не одни, казалось мне —
сидят другие люди рядом с нами:
и Варин муж, пропавший на войне,
и старики – между двумя сынами.
Чем дальше люди, близкие для нас,
находятся в годину испытаний,
тем ближе сердцу нашему подчас
они бывают.
И воспоминаний
крепчайший хмель из головы нейдёт.
Горят слова, не сказанные прежде.
И понял я, что Варя верит, ждёт
всему назло, ожесточась в надежде.
Спокойный голос: – Мне уже пора.
Наверно, сын не выучил уроки.
К тому же надо завтра мне с утра
идти в райцентр, а путь туда далёкий… —
Семнадцать вёрст пройти ей будет надо
холодного, метельного пути,
чтобы блокадным детям интерната
коробку витаминов принести.
Палящему душевному пожару
не даст утихнуть нежности поток…
А мог ли я не полюбить Варвару?
И сердце отвечает: нет, не мог!
Как хорошо мне рядом с ней идти
дорогою меж белыми кустами!
Позёмка хлещет по ногам в пути
змеистыми свистящими хвостами.
– Ну, вот и всё. Спасибо. Я пришла.
Скажу вам откровенно на прощанье:
Нам так нельзя. Я это поняла.
Уедете? Даёте обещанье?..
4
Обычай соблюдая, мы присели
перед дорогой.
Длинные минуты.
Потом Захар сказал:
– Будь я сейчас немного помоложе,
наверняка бы – вот те крест! – уехал.
Там, в Питере, народ сейчас нужон! —
Концом платка Агафья вытирала
скупые слёзы.
Я сидел и думал
про бабий, весь в горошинах, платок.
Им где-то машут новобранцем вслед,
стоят в нём по обочинам шоссеек,
бегут с ним по дощатому перрону,
размахивают им на пристанях,
на обрывающихся, словно песня, пирсах
над горькой и соленою водой…
Везде, везде, куда б ни кинул оком, —
те белые горошины на синем
рассыпаны, как слёзы матерей.
– Ты обо мне, родная, не горюй,
а за приют – солдатское спасибо!
У вас мне было очень хорошо.
И рад бы, да не время отдыхать.
Я знаю: доберусь до Ленинграда.
Теперь уже я снова годен в строй!
– Поедем, что ли? – подал знак Захар. —
Чего тут объяснять? Оно понятно… —
Поставлена давно у коновязи,
дремала лошадь и хвостом махала,
снежинки отгоняя, словно мух.
Потом, когда усаживался в сани,
Агафья, стоя на крыльце, спросила:
– А что Варваре можно передать?
– Что передать? Пусть бережёт себя.
Да пусть меня покрепче позабудет.
А можно – ничего не говорить. —
Захар, в нагольном рыжем полушубке,
плотней мне сеном ноги укрывает
и наконец, похлопав кобылёнку
по снегом запорошенному крупу,
садится сам и чмокает губами,
брезентовой вожжою шевеля.
Мне подмигнув и выматерясь нежно,
расправив по-ямщицки бородёнку,
он говорит: – Поехали! —
Зима.
Рысцою проезжаем по селу,
по дотемна укатанной дороге,
где по́ снегу развеяно сенцо.
И проплывают мимо дом за домом,
и проплывают мимо дым за дымом,
заборы, палисадники, сады…
Мы проезжаем мимо зданья школы
из красного, как пламя, кирпича.
А справа меж заснеженных деревьев,
как голубое облачко, стоит
знакомый домик…
Там ли ты сейчас?!.
Прощай, любовь, несбывшееся чудо!
Мы тихо проезжаем по селу,
и вятские под окнами рябины,
ещё оледенелые, стоят…
1943, 1948–1975
Село Новотроицкое Кировской области – Ленинград
Амур и Психея

Есть в Ленинграде очень старый
и всем известный Летний сад.
Там вечерами бродят пары,
как сто, как двести лет назад.
И я, изрядно поседевший,
чего нисколько не стыжусь,
под сенью липы поредевшей
привычно на скамью сажусь.
И под осенним небом хмурым
смотрю, как, мраморно-бела,
Психея над своим Амуром,
подняв светильник, замерла.
Она его сейчас разбудит,
и он исчезнет, словно сон.
Его искать Психея будет
среди племён, среди времён…
И вечный смысл седого мифа
в моей пульсирует крови:
на свете нету слаще мига,
чем заглянуть в лицо любви!
…Набитый песнями и смехом,
Шёл из Берлина эшелон,
и отзывался долгим эхом
ему простор со всех сторон.
И мнилось мне под солнцем мая,
нам озаряющим маршрут,
что нас не тяга паровая,
а крылья Ники вдаль несут!
Нацелясь точно, без ошибки,
свой соблюдая интерес,
я, захватив свои пожитки,
на полку верхнюю залез.
И отступили все тревоги:
вот – вещмешок под головой,
вот я – живой. И все дороги,
все-все сейчас слились в одной —
вот в этой, пусть не очень скорой,
но самой лучшей из дорог,
где, как гвардейцы, семафоры
для нас берут под козырёк.
Гляжу я вниз – и вижу то же,
что наблюдал ещё с утра:
сержант, на Пушкина похожий,
и молодая медсестра.
Ей по́ сердцу сержант кудрявый:
нашивок за раненья – две,
а сверх медалей орден Славы —
и сотни планов в голове!
Они болтают без умолку
про то, что кончилась война,
что едет он к себе на Волгу,
что в Комсомольск спешит она
к своим родителям…
Потёмки.
Сон под колесный перебор.
И вдруг проснулся я,
негромкий
внизу услышал разговор.
– Где спички?
– Здесь.
– Зажги скорее.
Я только раз в глаза взгляну. —
И спичка медленно сгорела.
– Сама зажгу ещё одну. —
Шепталось так, как будто пелось,
в потёмках полночи густых.
и снова спичка загорелась
и озарила лица их.
И снова тьма. И вновь сиянье.
Сожгли они – прости им бог! —
в том ослепительном молчанье,
должно быть, целый коробок.
В лицо любви глядеть, бледнея,
глядеть, не помня ничего.
Что им запрет богов! Психея
нашла Амура своего…
Кто говорит, мол, «нам не к спеху»,
кто там брюзжит – «всему свой срок»?..
Свой волжский город он проехал
и двинул дальше на восток,
туда (раздумывать ему ли?),
где только действуй да живи,
до Комсомольска-на-Амуре,
что означает – «на Любви».
Я верю в их любви заветы:
всегда искать, всегда гореть,
встречая мирные рассветы,
в лицо любви своей смотреть.
Я вспомнил их под небом хмурым
в саду, где, мраморно-бела,
Психея над своим Амуром,
подняв светильник, замерла.
* * *
Подобно созвездью,
что в небе зажглось,
всегда они вместе,
хотя бы и врозь.
И вот уж седея,
твержу, не дыша:
Амур и Психея,
любовь и душа.
1978
Живая вода
Главы из неоконченной поэмы об отце[24]24
В одном из черновиков поэмы «Живая вода» обнаружился примерный рабочий план, который даёт некоторое представление о том, как мечтал Л. И. Хаустов построить свою поэму:
«Глава первая – 1917 год – отцу 25 лет
Глава вторая («Микера») – отцу 35 лет
Глава третья – отцу 50 лет
Глава четвёртая («Больница») – отцу 70 лет
Глава пятая – его нет…»
[Закрыть]
Его любили люди за талант,
которому названье – человечность.
Леонид Хаустов
Шо́хра
Каменных зданий, строений кирпичных,
было у нас всего-навсего три:
церковь да школа, а третье – частично:
старый лабаз с тишиною внутри.
Церковь. Зачем её только сломали?
О лихорадка решительных лет!
Даже теперь, через дальние дали,
вижу двуглавый её силуэт.
Школа, в которой я начал учиться…
Самые первые учителя…
Школьный звонок и поныне мне снится,
давние годы забыть не веля.
Бывший лабаз – как вместилище мрака.
В «красных» и «белых» игра там велась.
Весело мне подниматься в «атаку»,
чтоб победила Советская власть!
* * *
Я сегодня явственнее вижу
всё, происходящее в былом.
Торфяной коричневою жижей
простиралась шохра за селом.
Шохра – заболоченное поле,
вымахи осины да ольхи.
Что её описывать? Тем более
глупо помещать её в стихи.
«Шохра, шохра – чтоб ты пересохла!» —
на неё ворчали старики.
А она, вся в тине, больше глохла,
напрочь отделяясь от реки.
Вечером над ней туманы висли.
Разве утка залетит туда.
С той поры мне стала ненавистной
мёртвая, стоячая вода.
* * *
Свой драмтеатр при школе был.
То моего отца созданье.
Отец трагедии любил,
был просто Юрьев по призванью!
«Искусство создано для масс» —
пусть этот лозунг знает всякий.
И пол-округи каждый раз
сюда съезжалось на спектакли.
Однажды в школе «Гамлет» шёл
в довольно сильном сокращенье.
«Быть иль не быть?» – И принц повёл
свой монолог в таком решенье. —
«“Вот в чём вопрос!” Сельчане, вам
его самим решать придётся.
Как ни смотри по сторонам,
без вас никак не обойдётся.
Прозаседав почти что день,
решили мы на педсовете,
чтобы при школе жили дети,
те, что из дальних деревень.
Уже артельщики срубили
под общежитье новый дом.
Мы даже трёх коров купили,
чтоб дети были с молоком.
А выгон где? Так жить нельзя нам!
Должно быть ясно мужику.
Пускай не зваться мне Иваном —
мы шохру выбросим в реку!
Мелиоратор я бывалый,
Давно имею этот план».
Из зала голос: «Так, пожалуй!
Ты дело говоришь, Иван!»
Назавтра, помню, в день субботний,
не на спектакль, а для работ
никак не меньше полусотни
у шохры съехалось подвод.
Ну и пошла тогда работа!..
Своё тут каждый место знал —
кустарник вырубать в охотку
и магистральный рыть канал.
* * *
Недавно еду. Край родимый.
Приводит путь в Шабалино́.
Я – на автобус. Мимо, мимо…
Места, знакомые давно.
Вот и село. Схожу, робея.
Оно мощней и вширь, и в рост,
но первым кланяюсь тебе я,
тебе, родительский погост.
А шохры нету, нету шохры.
сверкают блюдечки купав,
и на ветру мне слышен шепот
поднявшихся на пойме трав.
Вот край душевного привета.
И речка… Как названье ей? —
Хотел узнать я. И на это
«Ива́нов – был ответ – ручей»
* * *
Колодец
… В партии я больше четверти века,
Родина, ты мне дороже всего.
Был беспартийным отец человеком.
Я коммунизму учусь у него.
Ехали цыгане по степи пустой
и остановились в роще на постой.
Пестрые, с провисом, рваные шатры,
как цветы, поникли от дневной жары.
Ехали геологи по дороге той.
Жёг их беспощадно астраханский зной.
Им в глаза въедалась поднятая пыль.
Словно конь в запарке, встал автомобиль.
У трёхтонки, видно, перегрет мотор.
К рощице с ведёрком побежал шофер.
Инженер в фуражке вышел, пропылён,
табору отвесил поясной поклон:
– Жизнью кочевою с вами мы родня.
Первая забота – напоить коня.
Как живётся-можется? Есть ли в чём нужда? —
И сказал старейший: – Если б не вода…
С горечью солёной ручеишко тут.
Люди – было б ладно, лошади не пьют!
Как тут ни кумекай, надо ехать прочь… —
И сказал геолог: – Можно вам помочь.
Выручим, не бросим вас в такой беде.
Я сквозь землю вижу: рядом – быть воде.
Тех, кто посильнее, отряди ребят,
бур возьми алмазный, и пускай бурят. —
Жёсткий слышен скрежет: в землю бур идёт,
и дошли под вечер до грунтовых вод.
Потрудились дружно, не жалея сил,
и колодец славный ими вырыт был.
Заливался смехом паренёк: – Беда!
Скоро утону я, до колен вода!

* * *
Мике́ра
Травы от зноя никли,
ветер бил по лицу.
Ехал я на каникулы
в те же места – к отцу.
Мой рюкзачок заштопан
мамой в далекий путь.
Сказал я шоферу, чтоб он
не прозевал тормознуть
у рощи… Стена живая
берёзок. Одна семья.
Из кузова вылезая,
заметил колодец я.
Порадовался я сердцем:
поставили люди сруб.
Домиком острым с дверцей
был мне колодец люб.
Жаждой томим и зноем,
я опустил ведро.
поднял, а в нём – живое
плещется серебро!
Вижу – висит икона:
в обличье вечном своём
Георгий разит дракона
длинным своим копьем.
Я вздрогнул, как от удара:
вделано заподлицо
в этой иконе старой
отца моего лицо!
Вырезка из газеты
районной – и весь секрет.
Есть у меня портреты
Отца. А такого – нет.
Пока мне по свету но́сится,
верую до конца
в Георгия Победоносца
с лицом моего отца.
Из неоконченной поэмы
Я ещё семилетний босоногий малец,
и работают в школе мать моя и отец.
За селом по-над речкой, помню, табор стоял:
и котлы, и телеги, пестрота одеял.
Был отец мой охотник до искусства цыган,
в песнях толк понимал он, знал гитару, баян.
Как-то маме цветастый подарил он платок.
А цыганской венгерки был первейший знаток!
Звёзды медленно гасли над остывшей золой,
и узнал я впервые, что́ зовётся зарёй.
Лет четырнадцать было плясуну одному.
Даже имя Микера подходило ему.
Непонятное имя, как лицо, как глаза,
в глубине у которых полыхала гроза.
И отец говорил нам про Микеру: «Талант»,
а ещё по старинке добавлял: «Бриллиант».
Говорил, что артистом суждено ему быть,
только надо учиться, а не в таборе жить.
И Микера остался старшим братом моим.
Табор вскорости снялся, словно ветром гоним.
Мы дружили. По-русски плохо он говорил,
но какие игрушки для меня мастерил!
Тосковал и ходил он за отцом по пятам:
«Я хочу на конюшню, я хочу к лошадям».
Если хочешь – авела[25]25
Аве́ла (цыганск.) – литературный перевод: идёт, так и быть.
[Закрыть]! – значит, дело с концом.
В исполкоме Микера был пристроен отцом.
Мама книжки читала вслух Микере и мне.
Между тем уже время подходило к весне…
И однажды Микера (было именно так)
в ночь безлунную тройку в новой сбруе запряг
и уехал! Немало есть на свете сторон,
но в какую умчался под бубенчиков звон —
не узнать… Конокрадом был иль не был, бог весть,
но в истории этой что-то все-таки есть!..
Ах, Микера, Микера, ненаглядный ты мой!
Ты рванулся в дорогу, словно птица домой.
Ах, Микера, Микера, ты мой названный брат,
всё я жду, что вернёшься, что приедешь назад.
Не могу равнодушно быть в лесу, у огня…
А цыганская пляска обжигает меня!

Неоконченная поэма
Памяти Д. Н. Чубинова
Это всё-таки непростительно,
Как об этом ни сожалей, —
плохо помним своих родителей,
забываем учителей.
Отшлифована безукоризненно
всем, что было и что ушло,
предо мной обернулась линзою
толща времени, как стекло.
С точной оптикою согласно,
правя в будущее разбег,
вырастает в ней семиклассник
до огромного – Человек!
…Нами помнится спозаранку
Щербаков переулок весь
и смотрящая на Фонтанку
школа та, что и ныне есть.
До сегодня открытый взору
(В пьедестал превращаю пол.),
деловито по коридору
мне навстречу Учитель шёл.
Мне его описать не просто
через бездну мелькнувших лет.
Рост. Какого же был он роста?
Нет возможности дать ответ.
Мне он видится крупным планом
в необычной своей красе.
Он казался мне великаном,
хоть, наверное, был, как все.
Нет, не все. Легендарное. Вот оно,
мною знаемое с азов,
проступало в нём Дон-Кихотово
через пики седых усов.
Как под ветром летели волосы!
Острым клинышком борода,
но не шпага – ключи у пояса,
неразлучные с ним всегда.
Грохотавшая эта связка
мне сегодня всего видней.
Нашей повести в ней завязка
и развязка таится в ней.
За Учителем нашим вслед
в тишину я вступаю строгую,
в знаменитый тот кабинет,
по-простому в класс биологии.
Предо мною – ряды столов
и, колеблема зыбким маревом,
вертикальная гладь столов
с четырех сторон, как аквариум.
Те шкафы чудеса таят.
Вижу птиц и зверюшек всяких,
а ещё бесконечный ряд
банок-склянок, в которых – злаки.
Гладил банки своей рукой:
«Вот – из Индии, вот – из Греции.
Знайте, помните, что такой
вы нигде не найдёте коллекции!..»
…Ах, какое, какое веселье!
О, большой перемены гам!..
Первоклашки на нем висели
обезьянками по ветвям.
И сегодня, через полвека,
говорю я, и сам седой:
«Был он вовсе не человеком,
а ходячею добротой».
Вспомню слово – бузить.
Класс как будто бы ад кромешный.
Слабосильного истузить
было очень для нас потешным.
Его били за то, что мал,
хоть не больно совсем,
однако,
он, конечно, всё понимал,
улыбался он нам…
И – плакал.
И когда он, сжавшись в комок
и не думая о защите,
принимал за щелчком шлепок,
появился в дверях Учитель.
И, как голос медной трубы,
над собою услышал с порога я:
– Что вы делаете, рабы!
Рабская психология! —
Побузили – всего делов!
И забылось всё в классе нашем.
Только смыслом тех громких слов
был ошпарен я, ошарашен.
Щедро налитый мной стакан.
Я над жизнью стою своею,
никаких не считая ран
и о прожитом не жалея.
И, вращая дум жернова,
повидавший на свете многое,
повторяю опять слова,
те – про рабскую психологию.
Можно многого стать рабом —
власти, славы, страстишек мелких.
Есть другое – тянуть горбом
в неслабеющей перестрелке[26]26
Финальные три строфы поэмы были написаны Леонидом Хаустовым в день его смерти. Это – поэтическое завещание мастера стиха современникам и потомкам.
[Закрыть].
1980
Из моей родословной(Из неоконченной поэмы)
Мой предок был изгнан царём из Москвы
за смуту, за гонор, за злобу,
за то, что он жил, не склонив головы,
не тише воды и не ниже травы,
не как подобает холопу.
В изгнаньи сначала он крепко тужил.
Потом полюбил нашу Вятку.
Где велено жить, там изгнанник и жил,
игрушки лепил и, должно быть, уж пил,
плясал на базарах вприсядку.
Потом осмотрелся, нащупавши грош,
открылся большим грамотеем.
«Служивенький, батюшка, будь так хорош —
составь нам прошенье и душу полож.
И руб тебе не пожалеем!»
Давно молодуху красавицу взял,
и дочки пошли белотелы.
Вдруг чудом каким-то священником стал!
Об этом-то я ничего не узнал —
ведь это претёмное дело!..
Довольно, мой предок, судьбу проклинать —
ушёл ты от жизни разгульной
младенцев крестить, мертвецов отпевать…
Но стал по ночам свои вирши писать —
легки на язык, богохульны!..
А годы идут, словно ветер в лесах,
что ели под корень шатает.
И старится он – серебро в волосах,
но то, что навек обратится во прах,
мой предок отнюдь не считает.
Май 1941 года – 1943 год – 1980 год
Легенда об игрушечном мореГлавы из поэмы
1
В стародавнее время
среди местных купцов
возвышался над всеми
Никодим Огурцов.
Шли дела его ходко —
до́ ста лет можно жить!
Но решила чахотка
богача придушить.
Может, жадность причиной
той болезни была,
но ни водка, ни хина
исцелить не могла.
И пенснишки с тесьмою
покрутив перед ним,
врач сказал ему: – «К морю!
Так-то, сударь, мой, в Крым!».
Инженера – за локоть
(слёзы градом текут):
«Ехать к морю далёко!
Сделай мне его тут!».
Инженер постарался,
хоть изрядно кутил.
Но купец не дождался:
взял и дух испустил.
2
Городок наш в таёжном просторе,
немощённый, зарос лопухом.
Но заправское «Чёрное море»
красовалось в саду городском.
Меж ветвей в полумраке зелёном
в тишине, что угрюмо-строга,
из покрытого тиной бетона
простирались его берега.
Весь открыт был и ветру, и зною
среди моря игрушечный Крым
со своею равниной степною,
с побережием горным своим.
Крым, что снегом завален до марта,
для ребячьих забав служил.
Будто кто-то рельефную карту
среди белых берёз положил.
3
Ранним утром прохладно-росистым,
по тропинке шаги торопя,
всё живое приветствуя свистом,
на земле утверждал я себя.
И уже предвкушал, как с разбега
брошусь я в водяную гладь
и, забыв обо всем, до обеда
буду лежа в «Крыму» загорать.
Но, закрывшись от солнца ручонкой,
не известная здесь никому,
голенастая злая девчонка
как хозяйка стояла в «Крыму».
Я залез на песчаную груду,
без оглядки встречая беду,
и сказал: «Уходи отсюда!»
А она мне в ответ: «Не уйду!»
И хоть был я в политике «жохом»,
и хоть знал, что противно враньё,
закричал я, позоря эпоху:
«Это “Чёрное море” – моё!».
Может, вправду я был ей нестрашен
или так ей понравился «Крым» —
«Знаешь, пусть оно будет нашим,
это море – твоим и моим…»
1943–1980
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































