Текст книги "Расширенный фенотип: длинная рука гена"
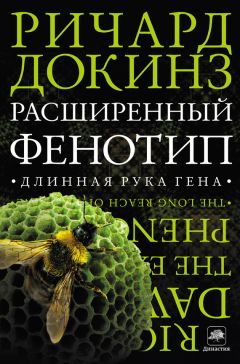
Автор книги: Ричард Докинз
Жанр: Зарубежная образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 28 (всего у книги 34 страниц)
Суть этого мысленного эксперимента в том, что Модель 2 одинаково применима как в рамках индивидуума, так и к взаимоотношениям между организмами. И у гусениц, и у цикад генам розовой окраски отбор благоприятствует в генофондах с преобладанием генов розовой окраски, а генам голубой окраски он благоприятствует в генофондах с преобладанием генов голубой окраски. В случае с гусеницами причина этого состоит в том, что каждый ген выигрывает, если попадает в одно тело вместе с другими генами, обусловливающими ту же окраску, что и он. В случае же с цикадами ген выигрывает, если тело, в котором он находится, встречается с другим телом, содержащим ген той же окраски. У гусениц сотрудничающие друг с другом гены занимают различные локусы в одной и той же особи. А у цикад сотрудничающие друг с другом гены занимают один и тот же локус в различных особях. Моя цель – сократить имеющийся в наших представлениях разрыв между этими двумя типами генного взаимодействия, показав, что взаимодействие генов на расстоянии принципиально ничем не отличается от их взаимодействия в пределах одного организма.
Продолжу серию цитат из Майра:
В результате коадаптирующего отбора возникает целостный, гармоничный генный комплекс. Действовать совместно гены могут на многих уровнях: на хромосомном, ядерном, тканевом, на уровне органа и целого организма.
Теперь читатель уже без труда угадает, как следует расширить майровский список. Совместное действие генов разных организмов по существу ничем не отличается от совместного действия генов одного организма. Каждый ген функционирует в мире, наполненном фенотипическими последствиями активности других генов. Какие-то из этих других генов входят в состав того же генома. Какие-то входят в состав того же генофонда и оказывают свое действие через другие тела. Еще какие-то относятся к другим генофондам, другим видам, другим типам.
Природа функциональных механизмов физиологического взаимодействия представляет (sic!) лишь второстепенное значение для эволюциониста, которого интересует прежде всего жизнеспособность конечного продукта – фенотипа.
Майр опять попал в точку, но “фенотип”, который он имеет в виду, – это еще не все, его можно расширить и за пределы индивидуального организма.
Status quo генофондов поддерживается, качественно и количествен но, благодаря многим механизмам. Нижний предел генетического разнообразия определяется преимуществами, которые зачастую дает гетерозиготность… Верхний его предел определяется тем фактом, что присоединяться к генофонду могут только гены, способные к гармоничной “коадаптации”. Никакой ген не обладает фиксированной селективной ценностью: в одной генетической среде он может давать большие преимущества, а в другой быть практически летальным.
Превосходно сказано, но не будем забывать, что к “генетической среде” могут относиться гены не только того же самого организма, но и других организмов.
Результатом сильной зависимости генов друг от друга является их тесная взаимосвязь. Нельзя ни изменить частоту какого-либо гена, ни добавить новый ген в генофонд, так чтобы это не отразилось на генотипе в целом, а значит, косвенно, и на селективной ценности других генов.
Здесь Майр сам незаметно перешел от разговора о коадаптированном геноме индивидуума к разговору о коадаптированном ге нофонде. Это большой шаг в правильном направлении, но мы, тем не менее, должны сделать и следующий шаг. Майр вел речь о взаимодействиях между всеми генами генофонда, безотносительно того, в каких именно организмах они находятся. Теория расширенного фенотипа категорически требует от нас признать, что гены, относящиеся к разным генофондам, разным типам, разным царствам, взаимодействуют друг с другом точно таким же образом.
Рассмотрим еще раз, как могут взаимодействовать два гена, принадлежащие к одному генофонду, или, выражаясь точнее, каким образом частота встречаемости каждого гена из пары влияет на перспективы выживания другого гена. Первый способ, который, как я подозреваю, Майр главным образом и имел в виду, состоит в совместном использовании одного организма. На выживаемость гена A влияет частота встречаемости в популяции гена B, поскольку от частоты B зависит вероятность того, что A окажется вместе с B в одном теле. В качестве примера можно вспомнить взаимодействие между локусами, определяющими направление полосок и положение тела у бабочек. Или вымышленную гусеницу, подражающую люпину. Или пару генов, кодирующих ферменты, необходимые для последовательных этапов биохимического синтеза какого-нибудь нужного вещества. Назовем этот тип взаимодействия генов “внутриорганизменным”.
Второй способ, каким частота гена B в популяции может повлиять на перспективы выживания гена A – это “межорганизменные” взаимодействия. Тут решающее влияние оказывает вероятность встречи организма, несущего ген A, с организмом, несущим ген B. Примером могут послужить мои гипотетические цикады. Или фишеровская теория о численном соотношении полов. Как я уже указывал, в данной главе одной из моих целей было продемонстрировать, насколько незначительны различия между двумя этими типами взаимодействий, внутриорганизменным и межорганизменным.
А теперь давайте рассмотрим взаимодействия между генами, принадлежащими к разным генофондам, генами, находящимися в организмах разных видов. Вы увидите, что межвидовое генное взаимодействие весьма мало отличается от внутривидового межорганизменного. В обоих случаях взаимодействующие гены не находятся в одном теле. В обоих случаях выживаемость каждого гена из пары зависит о того, насколько часто встречается в своем генофонде другой ген. Позвольте, я поясню эту мысль, снова воспользовавшись мысленным экспериментом с люпином. Предположим, что существует вид жуков с таким же полиморфизмом, как и у цикад. В некоторых областях вышло так, что преобладают розовые формы обоих видов, а в других преобладают жуки и цикады голубой окраски. Жуки и цикады различаются по размеру. Для имитации соцветий они “кооперируются”: более мелкие цикады склонны садиться на верхушки стеблей, где цветки должны быть мельче, а более крупные жуки предпочитают располагаться ближе к основанию поддельного соцветия. “Соцветия”, созданные совместными усилиями жуков и цикад, лучше обманывают птиц, чем те, что состоят из представителей какого-то одного вида.
Частотно-зависимый отбор Модели 2 будет вести по направлению к одному из двух эволюционно-стабильных состояний точно так же, как и раньше, за исключением того, что теперь у нас участвуют организмы двух видов. Если в силу исторической случайности на каком-то ограниченном участке преобладают розовые формы (независимо от вида), то у обоих видов отбор будет благоприятствовать розовой окраске за счет голубой, и наоборот. Если данный вид жуков был относительно недавно интродуцирован в области, уже заселенные нашими цикадами, то направление отбора, воздействующего на жуков, будет зависеть от того, какая цветовая форма цикад преобладает в конкретной местности. Таким образом, будут иметь место частотно-зависимые взаимодействия между генами из двух различных генофондов, принадлежащих двум не скрещивающимся друг с другом видам. Для имитации соцветия люпина цикады точно так же могли бы сотрудничать с пауками или с улитками, как и с жуками или с цикадами другого вида. Модель 2 подходит для взаимодействий между видами и между типами не меньше, чем для взаимодействий между индивидуумами и внутри индивидуумов.
Подходит она и для представителей разных царств. Рассмотрим взаимодействие между льном (Linum usitissimum) и ржавчинным грибом Melampsora lini, правда, в этом случае оно носит характер скорее антагонизма, нежели сотрудничества. “Существует практически однозначное соответствие, когда определенный аллель у льна делает растение устойчивым к несущей определенный аллель ржавчине. Впоследствии такая система “ген за ген” была обнаружена и у многих других видов растений… В связи со своеобразием генетической системы, модели подобных взаимодействий не описываются при помощи экологических параметров. Это тот случай, когда в межвидовых взаимодействиях генов можно разобраться, не упоминая о фенотипах. В модели системы “ген за ген” неизбежно будет присутствовать межвидовая частотная зависимость” (Slatkin & Maynard Smith, 1979, p. 255–256).
Как и в других главах, в этой я, чтобы сделать аргументацию более ясной, использовал гипотетические мысленные эксперименты. На тот случай, если кому-то они покажутся невероятными, позвольте мне снова обратиться к Уиклеру за примером настоящей цикады, действия которой по меньшей мере столь же невероятны, как и все, что выдумал я. Для Ityraea nigrocincta, как и для I. gregorii, характерна коллективная мимикрия с имитацией люпиноподобных соцветий, но у I. nigrocincta “есть еще одна особенность, заключающаяся в том, что оба пола имеют две морфы, зеленую и желтую. Эти две морфы могут группироваться, причем зеленые особи стремятся разместиться на верхушке стебля (особенно если он вертикальный), а желтые ниже. В итоге получается чрезвычайно правдоподобное “соцветие”, поскольку настоящие цветки зачастую распускаются от основания соцветия к верхушке, так что, когда основание уже покрыто цветками, на верхушке все еще остаются зеленые бутоны” (Wickler, 1968).
В трех последних главах мы не спеша расширяли понятие фенотипической экспрессии генов. Вначале мы признали тот факт, что даже в пределах организма гены осуществляют контроль над фенотипами на разных уровнях отдаленности. Ядерному гену, вероятно, проще регулировать форму той клетки, в которой он находится, чем форму какой-то другой клетки или всего организма.
Однако мы по традиции сваливаем все три уровня в одну кучу, называя их генетической регуляцией фенотипа. Мой тезис состоял в том, что небольшое расширение этого понятия за непосредственные границы организма будет шагом относительно несущественным. Но, учитывая его непривычность, я развивал свою мысль постепенно: от неодушевленных артефактов перешел к эндопаразитам, управляющим поведением своих хозяев. От тех паразитов, что сидят внутри, мы через пример с кукушками вышли на разговор о дистанционном управлении. К действию генов на расстоянии теоретически можно отнести почти любые взаимодействия между организмами, принадлежащими как к одному, так и к разным видам. Все живое может быть представлено как сеть из создаваемых репликаторами перекрывающихся силовых полей.
Мне трудно вообразить ту математику, которая потребуется в конечном итоге для понимания всех подробностей. Я различаю лишь смутную картину, как репликаторы под действием отбора тянут в разные стороны фенотипические признаки в эволюционном пространстве. Одной из особенностей моего подхода является то, что формирующими любой конкретный фенотипический признак считаются репликаторы, находящиеся как внутри организма, так и вне его. Некоторые явно тянут сильнее прочих, так что влияния могут различаться не только по направлению, но и по силе. Разобраться в этих силах, вероятно, существенно поможет теория гонки вооружений – эффект редкого врага, принцип “жизнь/обед” и т. п. Определенную роль, возможно, играет и просто расстояние: похоже, что при прочих равных условиях гены оказывают на близлежащие фенотипические признаки большее влияние, чем на отдаленные. Как важный частный случай этой закономерности, влияние, оказываемое на клетки содержащимися в них генами, будет количественно более интенсивным, чем влияние генов из других клеток. То же самое справедливо и для организмов. Но это все будут эффекты количественного характера, которые нужно приводить в соответствие с другими факторами, связанными с гонкой вооружений. Иногда – например из-за эффекта редкого врага – на некоторые аспекты фенотипа организма гены других организмов могут влиять сильнее его собственных генов. Подозреваю, что почти на каждом фенотипическом признаке лежит отпечаток компромисса между воздействиями внутренних и внешних репликаторов.
Конечно же, такие понятия, как конфликт и компромисс между различными давлениями отбора, влияющими на один и тот же признак, хорошо известны нам и из обычной биологии. Мы часто говорим, что, скажем, размер птичьего хвоста представляет собой компромисс между нуждами аэродинамики и сексуальной привлекательности. Мне неизвестно, какого рода математика считается подходящей для описания подобных внутриорганизменных конфликтов и компромиссов, но, какой бы она ни была, ее следует приспособить и к аналогичным задачам, касающимся дистанционных генных воздействий и расширенных фенотипов.
Но у меня нет крыльев для того, чтобы парить в математических высях. Полевым исследователям животных требуется какое-то словесное изложение. Что нового привнесет теория расширенного фенотипа в наши нынешние представления? Во многом благодаря Гамильтону, большинство полевых биологов теперь придерживается той теоремы, что поведение животного должно максимизировать вероятность выживания всех находящихся в этом животном генов. Я подкорректировал это утверждение, и получилась новая центральная теорема расширенного фенотипа: “Поведение животного стремится максимизировать выживаемость генов этого поведения, независимо от того, находятся ли эти гены в организме животного, данное поведение осуществляющего”. Если бы фенотип животного всегда находился под полным контролем генотипа и не подвергался влиянию генов других организмов, тогда обе эти теоремы были бы равносильны друг другу. В ожидании появления математической теории, пригодной для количественной оценки взаимодействий между конфликтующими давлениями отбора, самый простой качественный вывод будет, наверное, такой, что поведение, которое мы наблюдаем, может хотя бы отчасти быть адаптацией для сохранения генов какого-то другого животного или растения. И потому для организма, осуществляющего это поведение, оно может быть однозначно неадаптивным.
Когда я как-то попытался убедить в этом одного своего коллегу – непоколебимого дарвиниста и хорошего специалиста по изучению естественного отбора в природе, он решил, что я отрицаю адаптации, и предостерег меня, что люди то и дело норовят списать со счетов какую-нибудь мелочь в поведении или морфологии животных как бесполезную и неадаптивную, только чтобы впоследствии убедиться, что не понимали, какова ее функция. Он прав. Но я хотел сказать нечто другое. Говоря здесь о неадаптивности некой поведенческой схемы, я имел в виду лишь то, что она неадаптивна для конкретного индивидуума, ее выполняющего. Я полагаю, что особь, выполняющая поведение, не является тем объектом, приспособлением для которого это поведение является. Приспособления приносят пользу ответственным за них генетическим репликаторам и только попутно – индивидуальным организмам.
На этом книгу можно было бы и закончить. Мы расширили фенотип так далеко, как только возможно. Последние три главы были своего рода кульминацией, и ничто не мешало бы нам удовольствоваться этим в качестве завершения. Но я хочу закончить свое сочинение неустойчивым созвучием, осторожным пробуждением любопытства по новому поводу. В самом начале я признался в том, что собираюсь быть пропагандистом, а самый простой способ пропаганды – нападки на противоположную точку зрения. И потому, прежде чем приступить к защите теории о расширенном фенотипе активного репликатора зародышевого пути, я старался подорвать читательское доверие к индивидуальному организму как к основному получателю адаптивных преимуществ. Но теперь, когда расширенный фенотип мы уже обсудили, самое время вернуться к вопросу о феномене организма и о том, несомненно, важном месте, которое он занимает на иерархической лестнице живой природы. Не станет ли этот вопрос хоть сколько-нибудь яснее в свете расширенного фенотипа? Если жизнь не обязана быть расфасованной по изолированным организмам, а сами организмы порой не такие уж и изолированные, то почему же, тем не менее, активные репликаторы зародышевого пути столь очевидно предпочитают действовать на мир через них?
Глава 14
Заново открывая организм
На протяжении почти всей книги мы занимались тем, что умаляли значение индивидуального организма, взамен выстраивая картину, представляющую собой беспорядочное поле битвы репликаторов, борющихся с альтернативными аллелями за выживаемость, беспрепятственно проникающих сквозь стенки тела, как будто эти стенки прозрачные, взаимодействующих с миром и друг с другом, игнорируя границы между организмами. И вот теперь мы застыли в нерешительности. Что-то в них есть, в этих индивидуальных организмах! Если бы можно было надеть такие очки, в которых живые тела действительно выглядели бы прозрачными и видно было бы одну ДНК, то мы обнаружили бы, что ДНК распределена в мире чрезвычайно неравномерно. Если бы клеточные ядра сияли подобно звездам, а все остальное было бы невидимым, тогда многоклеточные организмы напоминали бы плотно упакованные галактики, разделенные пустым пространством. Мы увидели бы мириады сверкающих точек, передвигающихся согласованно друг с другом и не связанных с представителями других галактик.
Организм – это физически обособленный аппарат. Как правило, отгороженный от других подобных аппаратов. Он обладает внутренней структурой, иногда ошеломляюще сложной, и для него в высокой степени характерно свойство, которое Джулиан Хаксли обозначил как “индивидуальность” (что в буквальном переводе означает “неделимость”) – разнородность частей, достаточная для того, чтобы перестать функционировать, будучи разрезанным пополам (Huxley, 1912). С точки зрения генетики организм тоже обычно представляет собой четко определяемую единицу, все клетки которой содержат одни и те же гены, отличные от генов других организмов. Для иммунолога организм обладает особой формой “уникальности” (Medawar, 1957), заключающейся в том, что он готов принять без отторжения свои собственные трансплантаты, но не трансплантаты, взятые от других. Для этолога – впрочем, это одна из сторон хакслиевской неделимости – организм является единицей поведенческой активности в гораздо большей степени, чем группа организмов или часть организма. У организма имеется одна скоординированная центральная нервная система. Он принимает “решения” (Dawkins & Dawkins, 1972), как единое целое. Все его части одновременно направлены на выполнение общей задачи. В тех случаях, когда два или более организмов пытаются объединить свои усилия, – например, когда львиный прайд подкрадывается к добыче, – степень их скоординированности едва ли сравнима с той сложнейшей гармонией, с той временно́й и пространственной точностью, с какой взаимодействуют сотни мускулов каждой отдельной особи. Амбулакральные ножки морских звезд обладают известной автономией и могут разорвать животное пополам, если ему хирургически разрезать околоротовое нервное кольцо. Но в природе морская звезда ведёт себя как целостный объект, имеющий какую-то единую цель.
Я благодарен доктору Дж. П. Хейлману, что он не стал скрывать от меня саркастический отзыв, которым один коллега удостоил мою статью, бывшую пробным запуском идей данной книги (Dawkins, 1978a): “Докинз заново открыл организм”. Ирония не ускользнула от меня, но на самом деле все несколько сложнее. Мы согласны с тем, что существует нечто, делающее организм особенным уровнем в иерархии живого, но это не что-то очевидное, что можно было бы просто принять без обсуждения. Я очень надеюсь, что эта книга показала наличие у куба Неккера оборотной стороны. Но кубы Неккера имеют обыкновение возвращаться в исходное положение, а потом то и дело менять конфигурацию.
Теперь, когда мы увидели другую сторону куба Неккера, когда наш взгляд привык проникать сквозь стенки организмов как внутрь – в мир репликаторов, так и наружу – к их расширенным фенотипам, теперь мы, по идее, должны бы яснее понимать, какая же особенность индивидуального организма делает его единицей жизни, в чем бы эта особенность ни заключалась.
Так что же такого необычного в индивидуальном организме? Если мы можем рассматривать жизнь как совокупность репликаторов и их расширенно-фенотипических инструментов выживания, то почему тогда на деле репликаторы предпочитают сотнями тысяч группироваться в клетках и понуждают эти клетки образовывать многомиллиардные клоны, называемые организмами?
Один из вариантов ответа подсказывает нам логика сложных систем. Саймон в своем побуждающем к размышлению эссе “Устройство сложности”, используя ставшую знаменитой притчу про двух часовщиков Темпуса и Хору, выдвигает общую рациональную причину, по которой любая комплексная структура, биологическая или искусственная, имеет тенденцию формировать иерархическую организацию из соподчиненных однотипных субъединиц (Simon, 1962). Я уже излагал эту мысль применительно к этологии и пришел к заключению, что эволюция статистически “маловероятных систем протекает быстрее, если имеется последовательность промежуточных стабильных подсистем. Эти же рассуждения можно применить и к каждой из подсистем, а следовательно, существующие в мире системы высокой сложности будут, вероятнее всего, иметь иерархическую структуру” (Dawkins, 1976b). В данном случае иерархичность заключается в том, что гены собираются в клетках, а клетки – в организмах. Маргулис приводит убедительные и увлекательные аргументы в поддержку старой идеи о том, что у этой иерархии есть еще один промежуточный уровень: эукариотические клетки сами по себе являются в некотором смысле “многоклеточными” образованиями, симбиотическими объединениями объектов, таких как митохондрии, пластиды и жгутики, которые гомологичны прокариотическим клеткам и происходят от них (Margulis, 1981). Больше я не буду касаться этой темы. Мысль Саймона очень общая, а нам нужен ответ на конкретный вопрос, почему репликаторы предпочитают объединять свои фенотипы в функциональные комплексы – в первую очередь, на двух уровнях: клетки и многоклеточного организма.
Для того чтобы задаваться вопросами, почему мир таков, каков он есть, мы должны представить себе, а каким он мог бы быть. Нужно придумать возможные миры, жизнь в которых была бы организована по-другому, и спросить себя, как бы все устроилось в таких мирах. Какие же альтернативы существующей жизни было бы полезно представить? Во-первых, чтобы понять, почему реплицирующиеся молекулы концентрируются в клетках, давайте представим себе мир, где они свободно плавают в океане. Там будет существовать множество разных репликаторов, они станут конкурировать друг с другом за пространство и за химические ресурсы, необходимые для построения собственных копий, но при этом не сгруппируются ни в хромосомах, ни в ядрах. Каждый одиночный репликатор оказывает фенотипические воздействия, способствующие его копированию, а отбор благоприятствует тем репликаторам, воздействия которых наиболее эффективны. Легко предположить, что подобный мир будет эволюционно нестабилен. Его заполонят мутантные репликаторы, “собирающиеся в банды”. Химические эффекты некоторых репликаторов будут дополнять друг друга – в том смысле, что если химические эффекты двух репликаторов объединить, то это будет содействовать копированию обоих (Модель 2 из предыдущей главы). Я уже приводил в качестве примера гены, которые кодируют ферменты, катализирующие последовательные этапы биохимического синтеза. Этот принцип можно распространить и на более крупные группы взаимодополняющих реплицирующихся молекул. Биохимия нашей планеты действительно позволяет предположить, что минимальная реплицирующаяся единица (за возможным исключением живущих на всем готовеньком абсолютных паразитов) должна состоять примерно из пятидесяти цистронов (Margulis, 1981). Для наших рассуждений не имеет значения, каким образом возникают новые гены: то ли старые гены удваиваются и остаются неразделенными, то ли гены, бывшие изначально независимыми, в самом деле собираются вместе. И в том, и в другом случае мы в равной степени можем говорить об эволюционной стабильности “объединенного” состояния.
Итак, для чего гены собираются в клетках, понять несложно, но зачем клеткам сбиваться в многоклеточные клоны? Можно подумать, что тут никакие мысленные эксперименты не нужны, так как наш мир изобилует одноклеточными и неклеточными формами жизни. Все они, однако, мелкие, и, возможно, имеет смысл попытаться представить себе мир, в котором существовали бы крупные и сложно устроенные одноклеточные или одноядерные организмы. Вообразима ли такая форма жизни, при которой один-единственный набор генов, восседающий в единственном центральном ядре, управлял бы биохимией макроскопического тела со сложными органами, будь то одна гигантская клетка или многоклеточный организм, все клетки которого, за исключением одной, не имеют своей собственной копии генома? Я думаю, что такая форма жизни могла бы существовать, только если бы ее эмбриология покоилась на принципах, совершенно не похожих на те, что нам известны. При всех знакомых нам типах развития, в любой развивающейся ткани в любой момент времени “работает” лишь меньшая часть генов (Gurdon, 1974). Согласен, пока что это слабый аргумент, но все же трудно понять, каким образом необходимые генные продукты могли бы переправляться в нужные части развивающегося организма в нужное время, если бы на весь организм имелся только один набор генов.
Но почему в каждую клетку тела должен попадать полный набор генов? Такую форму жизни, при которой геном разделялся бы на части в процессе дифференцировки, представить себе, безусловно, несложно. Тогда каждый тип ткани – скажем, в печени или в почках – получал бы только те гены, которые ему нужны.
Казалось бы, только у клеток половой линии есть необходимость сохранять геном целиком. Дело, возможно, всего-навсего в том, что не существует простого способа физически разделять геном на части. Ведь, в конце концов, все гены, нужные в какой-то определенной дифференцирующейся области развивающегося организма, не собираются на одной хромосоме. Полагаю, тут мы могли бы задаться вопросом: а почему все обстоит именно так? Но исходя из того факта, что все так, а не иначе, можно предположить, что полное удвоение генома при каждом клеточном делении – это просто самый легкий и экономичный вариант. Однако в свете моей притчи про марсианина-идеалиста и необходимость быть циничным читатель, возможно, поддастся соблазну пойти в своих предположениях дальше. Не может ли статься, что полное, а не частичное копирование генома при митозе является приспособлением некоторых генов, которое позволяет им выявлять среди своих коллег потенциальных отщепенцев и обезвреживать их? Лично я сомневаюсь, и не потому что все это чистейшая выдумка, а потому что трудно представить себе, какую выгоду извлечет, допустим, ген, находящийся в печени, если он взбунтуется и начнет вредить генам из почек или из селезенки. Исходя из логики главы о паразитах, интересы “генов печени” и “генов почки” должны совпадать, поскольку у них общая зародышевая линия и все они выходят из тела в одних и тех же гаметах.
Я не дал организму строгого определения. Можно, в самом деле, утверждать, что понятие “организм” имеет сомнительную ценность хотя бы потому, что его трудно определить удовлетворительным образом. С точки зрения иммунологии или генетики пара однояйцевых близнецов могла бы считаться единым организмом, хотя для физиолога, этолога или с позиции хакслиевского критерия неделимости она под это понятие однозначно не подходит. Что такое “особь” в колонии сифонофор или мшанок? Словосочетание “индивидуальный организм” вызовет у ботаника меньше теплых чувств, чем у зоолога, и на то есть причины: “Особь плодовой мушки, хрущака, кролика, плоского червя или слона представляет собой популяцию на клеточном, и ни на каком другом, более высоком, уровне. От голодания у животного не меняется количество ног, сердец или печенок, однако у растений стресс будет влиять как на формирование новых листьев, так и на отмирание старых. Растение может отвечать на стресс изменением числа частей своего тела” (Harper, 1977, p.20–21). Для Харпера, изучающего популяции растений, лист может казаться “особью” в большей степени, чем “растение” – беспорядочный, нечеткий объект, чье размножение иногда трудноотличимо от того, что зоологи беззаботно называют “ростом”. Харпер чувствует потребность ввести два новых термина для обозначения разных типов “индивидуума” в ботанике. “Единицей клонального роста является “рамет” – объект, который, будучи отъединен от родительского растения, как правило, способен вести независимое существование”. Иногда – например, у земляники – рамет и есть то, что мы называем “растением”. У других видов, скажем, у клевера ползучего, раметом может быть и отдельный лист. А “генет” – это все, что вырастает из одноклеточной зиготы, “организм” с точки зрения зоолога, изучающего животных, которые размножаются половым путем.
Янзен тоже попытался разобраться с этой трудностью (Janzen, 1977), предложив рассматривать клон одуванчиков как единого “эволюционного индивидуума” (харперовский генет), эквивалентного одному дереву – пусть и не подвешенного на стволе, а разбросанного по поляне и физически разделенного на отдельные “растения” (раметы, по Харперу). В соответствии с такой точкой зрения возможно, что на территории всей Северной Америки друг с другом конкурируют всего четыре “особи одуванчика”. Аналогичного взгляда Янзен придерживается и на колонию тлей. В его статье отсутствуют литературные ссылки, но такая точка зрения не нова. Она существует по меньшей мере с 1854 г., когда Т. Г. Гексли “трактовал каждый жизненный цикл как особь, принимая за целостную единицу все, что возникает от зиготы до зиготы. Он даже последовательность бесполых поколений у тлей рассматривал как индивидуума” (Ghiselin, 1981). У этого подхода есть свои достоинства, но я покажу, что при этом остается за бортом нечто важное.
Доводы Гексли/Янзена могут быть сформулированы следующим образом. Зародышевая линия типичного организма – скажем, человека – каждый раз между мейотическими делениями проходит, вероятно, через несколько десятков митозов. Если, как в главе 5, взглянуть на “прошлый опыт гена” ретроспективно, то история клеточных делений, в которых принимал участие любой ген любого человека, будет выглядеть так: мейоз, митоз, митоз… митоз, мейоз. В каждом из сменяющих друг друга тел, помимо митозов, происходивших в клетках зародышевого пути, были и другие митотические деления, обеспечивавшие зародышевую линию гигантским клоном “клеток-помощниц”, которые группировались в организм, где “квартировали” половые клетки. В каждом поколении зародышевая линия вытекает через одноклеточное “бутылочное горлышко” (гамету, дающую начало зиготе), затем раздувается до многоклеточного организма, затем снова вытекает через узкое горлышко и т. д. (Bonner, 1974).
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































