Текст книги "Прозрачные леса под Люксембургом (сборник)"
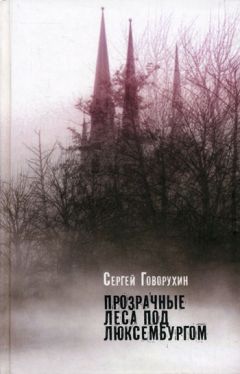
Автор книги: Сергей Говорухин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 18 страниц)
А потом сидеть с хозяином на крыльце и, потягивая крепкий самосад, в который раз слушать бесхитростную повесть его жизни.
Слушать и думать о своем, наслаждаясь дурманящим запахом скошенного сена, тишиной и покоем закатного дня…
Всю жизнь хотелось отоспаться. Вот так, разом, за все.
Всю жизнь, взбадривая себя утренним кофе, повторял одну и ту же брошенную кем-то идиотскую фразу: «На том свете отоспимся».
Тот свет не за горами. И по-прежнему не ясно, можно там отоспаться или нет…
– Прикрой нас! – резко обернувшись ко мне, горячо выдохнул Жорка. – Мы к первой «броне»! У башнера пулемет переклинило!
До первой «брони» было чуть больше тридцати метров. Подавшись вперед, как перед броском на короткую дистанцию, они рванули к бронетранспортеру. По открытой, лежащей как на ладони дороге. И тут же сзади них высекло автоматной очередью каменную крошку…
Тридцать метров. Их еще надо было преодолеть…
Стремительно переместившись к люку механика-водителя, я дал несколько длинных очередей по склону. Выше, ниже, левее: из-за плотных зарослей «зеленки» было невозможно определить, откуда велся огонь.
Присев поменять опустошенный рожок, я краем глаза увидел ожесточенные сигналы Жорки: они успели добежать и укрыться за первой «броней».
Я бросил взгляд на часы: было семь тридцать шесть утра…
–
У гранитного парапета Москвы-реки пустые бутылки, мятые жестяные банки, окурки дорогих и дешевых сигарет. За гранитным парапетом Москвы-реки в темных маслянистых водах бутылки, банки, окурки…
Что-то оседает на изуродованном отходами дне, что-то впадает в Оку. Из Оки в Волгу. Из Волги в Каспийское море…
Вдоль парапета – группами по несколько человек – пьяные, обкуренные, отвязанные…
Конец мая. Последний звонок.
У обочины в ряд – патрульные машины, снятые с маршрутов «икарусы» – сегодня они предоставлены выпускникам.
На задних стеклах автобусов знаки: «Осторожно, дети!» На знаках два малыша, испуганно перебегающих дорогу…
Водитель, будь предельно внимателен: на дороге дети!
Водители останавливаются, откинувшись на сиденье, ждут терпеливо и по-отцовски трогательно: дорогу переходят дети…
–
По дороге на кладбище – склады, ангары, ржавые стрелы башенных кранов у недостроенных заводских корпусов, полинявшие от дождей слоганы рекламных щитов: «Любые запчасти для японских автомобилей», «Блок-хаусы. Евровагонка», «Ощути мир с ЛД»…
Над дорогой – низкие рваные облака, выцветший аэростат с рекламой давно прошедшего сериала на приспущенных боках…
Сколько ненужных подробностей сопровождает нас на пути в вечность…
–
Я сидел у постели умирающего товарища и думал о цинизме писателя.
Параллельно в повести, которую я писал, умирал военный корреспондент. Умирал от рака, мужественно и возвышенно, щедро расточая последнюю мудрость на отводящих заплаканные глаза близких.
И мучаясь над этой главой, понимая, насколько не вписывается в конструкцию повести искусственно-претенциозный эпизод смерти, пытаясь сделать его проще и достовернее, я окончательно потерял связующую нить между литературой и действительностью.
Я давно ни с кем не прощался вот так: в течение нескольких дней, недель, месяцев. Не помнил, как ведут себя люди, чей конец предначертан и неизбежен, но лишь один Бог ведает, когда он наступит.
Те, кого я терял, посеченные осколками, хрипящие простреленными легкими, умирали у меня на руках. Умирали мучительно, в последнем тяжелом бреду, давясь кровавой рвотой и судорожно царапая землю слабеющими руками…
И вот теперь, в сумраке наглухо зашторенной комнаты, на мятой серой постели, среди склянок с лекарствами, умирал мой товарищ – настоящий военный корреспондент, во многом послуживший прообразом тому, литературному герою.
Умирал скупо и неприглядно, не растрачивая себя на прощальные фразы и не подводя итог сложной, насыщенной событиями и теперь уже прожитой жизни.
Умирал не от ран, полученных на войне, где он провел большую часть жизни, а от истерзавших его тело метастазов, перед которыми по-прежнему было бессильно человечество.
И глядя на огромный, разбухший, как спрут, лимон в стакане остывшего чая, я подумал, что метастазы, наверное, выглядят так же: всепожирающе, давяще, захватнически…
Изредка перехватывая потускневший отсутствующий взгляд товарища и слушая короткие, с трудом дававшиеся ему фразы, я наконец понял, как описать смерть литературного героя.
Это был момент откровения. Почти не слыша, отвечая невпопад, я размышлял о повести, и только повесть была для меня главным событием этого дня.
Но, думая о повести, я впервые поймал себя на мысли о том, до какой степени нашему стремлению сделать мир лучше и чище неразрывно сопутствуют профессиональные жестокость и цинизм по отношению к людям, живущим рядом с нами и все чаще уходящим от нас…
Сейчас мне было необходимо одно: запереться на несколько часов и записать новый вариант главы.
Для этого я должен был уйти.
Я ушел, сославшись на непредвиденные обстоятельства, мелко и стыдно разыграв телефонный звонок несуществующему абоненту. Ушел, так и не заметив бесприютного взгляда, которым он простился со мной…
Я успел, записал. Оторвавшись с мертвой точки, повесть поплыла по течению, и несколько дней я парил в поднебесной высоте от сознания талантливо выполненной работы.
В среду утром позвонила его жена.
– Юра умер, – сказала она. – Три часа назад…
–
Степень безнравственности общества легко проследить по пунктам обмена валюты – неотъемлемой примете нашего времени.
На центральных улицах городов, в местах оживленных и беспокойных, курсы обмена почти не отличаются друг от друга, но стоит вам оказаться в аэропорту за час до отправления рейса или в глухом «медвежьем углу», где один-единственный «обменник» на десятки километров вокруг, как вы с изумлением увидите: курс занижен до такой степени, что продать валюту можно только в состоянии полной безысходности.
Ваше отчаяние – наша прибыль. В конечном счете, можно сформулировать и так.
Пункты обмена, театры, сапожные мастерские, больницы, школы, суды, магазины – каждый на своем месте мы извлекаем пользу, прок, выгоду.
Стараемся сделать небрежнее, но дороже, бесплатно, но больнее, бездарнее, но претенциознее.
Сапожник – учителю, акушерка – роженице, художник – непосвященному, судья – безвинному, равнодушный – равнодушному…
И каждый день с маниакальной настойчивостью мы повторяем одно и то же: правительство не любит свой народ, не доплачивает, не предоставляет, не бережет…
И впервые от имени правительства мне захотелось спросить: а за что нас любить?
–
Как прекрасен скрип уключин в предрассветном тумане, как созвучен он тихому плеску воды о борт рыбацкой лодки, как безмятежен мир на рассвете…
Как глубоко спят кричавший всю ночь малыш и рядом, уронив голову на руки, измученная его криками мать.
С исступленным карканьем поднимаются с веток стаи воронья, уступая рассвет благовестным птицам и, обдуваемая теплым ветром, шелестит листва за окном.
На столе переполненная окурками пепельница, недопитая водка в стаканах, вчерашние непримиримые оппоненты спокойно и ровно дышат во сне и так встречают рассвет, стирающий следы казалось бы неразрешимого конфликта…
Где-то далеко дребезжит на мостовых дежурный трамвай, увозя неприкаянных влюбленных и проспавшего свою остановку нетрезвого отца семейства с заранее виноватым лицом.
Завернувшись в одеяло, курит у окна немолодая женщина с темными провалами бессонницы под глазами, и первый коснувшийся подоконника луч солнца примиряет ее с еще одной ночью, теперь оставшейся позади…
На рассвете начинаются войны.
–
Почему благополучному с его именьями, угодьями, престольными обедами Толстому было необходимо море с балкона особняка в Гаспре, а мятежный болезненный Чехов довольствовался низкими плетеными заборами пыльной татарской слободы, за которыми ругань возчих, бабы с бельем, обреченно бредущие овцы…
Потому что море было в нем самом? Или потому что он боялся перенасытиться им, как рано или поздно перенасыщаются морем все живущие возле него? И тогда бы шум прибоя и магическая непостижимость стихии, сливающейся со Вселенной у горизонта, перестали быть для него Откровением.
И лишь изредка у самой кромки воды в бухточке Гурзуфа одинокий, чахоточный, брошенный в Крыму женой, которую любил и ненавидел одновременно, он думал о Москве, осенних лесах Мелихово, о провалившейся «Чайке» и длинно-назидательной «Дуэли», о том, что так ни черта и не успел в этой жизни, оставшиеся годы которой теперь мог безошибочно предсказать как врач…
Думал о том, что он – автор нескольких посредственных рассказов и большинству непонятных пьес, средней руки доктор, в сущности, никем и никогда не любимый, – так жалок и ничтожен на фоне беспокойной и необъятной стихии, что не стань его завтра – на это никто не обратит внимания.
Так же будет безучастно море и грозовые облака над ним, скучны склонившиеся над гробом лица и гонимы ветром перемешанные с мусором земли обрывки театральных афиш…
Сидя у моря и кутаясь в воротник пальто, он не мог знать, что для многих именно с него начнется русская литература, что тысячи писателей будут безбожно красть его запахи, интонации, настроение, предопределенность судеб его героев, что режиссеры всего мира будут ломать головы над не вписывающимся в привычную схему алгоритмом его пьес.
Что и через сто лет дядя Ваня будет стрелять в Серебрякова, а Треплев задыхаться от непонимания окружающего мира…
А кованые ступени дома Толстого туда, наверх, по винтовой лестнице вели к огромному балкону, где за кипарисовыми рощами открывалось бесконечное пространство воды без запаха и звука, шума волн и крика обезумевших чаек…
И над всем этим он: создатель, небожитель, хранитель основ и законодатель холщовых рубах у подножия горы Ай-Петри. Между морем и небесами. А следовательно, пока еще земной, доступный, иногда позволяющий себе принимать за обедом Чехова…
–
Сыну было четыре года, он сидел на подоконнике и, свесив ножки вниз, напевал:
Ночью за твоим окном
Ходит сон да бродит сон.
По земле холодной
Ходит сон негодный…
– Сыночек, – тихо позвал я.
Он обернулся.
– Да, пап…
Под ним была пропасть в пять этажей.
«Пять этажей вниз… – загнанно подумал я. – Пять этажей… Почему не вверх?..»
– Жарко сегодня, правда… – Я осторожно, шаг за шагом приближался к нему. От двери к окну. Каких-то полтора метра.
Когда-то я уже шел так. По минному проходу. Невесомо ступая след в след за теми, кто шел впереди.
– Напечет тебе головку…
– Да ерунда, пап, – улыбнулся он и отвернулся к окну.
В это мгновение я успел схватить его за руку и рвануть к себе…
В соседней комнате отмечали чей-то день рождения, сын бегал по офису, баловался, хватал со стола то помидор, то огурчик – его невозможно было заставить поесть по-человечески, собственно, как и усидеть на одном месте больше десяти минут. Взрослые называли его «ртутный шарик». На какое-то время я потерял его из поля зрения…
И вот он на подоконнике моего кабинета, свесив ножки над пропастью…
– Папочка, не плачь, – просил он и плакал сам.
Меня трясло.
– Ты думал, я упаду, да? Прости меня, папочка, прости меня…
Губки его дрожали, он стискивал меня своими крохотными ручками, а я целовал его глаза, плечи, стриженую макушку… и уже не мог отпустить от себя…
Иногда по обоюдному согласию вместо садика я брал его с собой на работу. Тогда мне казалось, что на свете не существует более безопасного места, чем эти три просторные комнаты с рабочими столами, компьютерами и приветливыми к нему взрослыми…
А за первым да за сном,
За твоим да за окном
По свежей пороше
Ходит сон хороший…
И вот уже шесть лет я держу его на руках, зацеловываю его макушку, ощущаю биение его сердечка…
Из того лобастого смешного «ртутного шарика» он вырос в долговязого, порой не по-детски рассудительного мальчугана, а мне по-прежнему необходимо время от времени прижимать его к себе, ощущать, что он здесь, рядом, что так будет всегда, какие бы года и расстояния не пролегли между нами…
И чем дольше мы идем этой лунной дорожкой – я старею, он взрослеет, – тем смиреннее я принимаю свой уход: и то, что когда-нибудь померкнет свет, и что уже не будет моря и шума дождя за окном, и что я не успею проститься и простить, а кто-то не успеет простить меня…
Я могу представить себя бестелесной, расплывчатой субстанцией другого измерения. Его – взрослым, мужественным, ощущающим твердь земли под ногами…
Я не могу представить одного – что он больше не бросится ко мне от двери, не повиснет у меня на плечах, не выдохнет заветное:
– Папочка…
Как я буду без него? Без ощущения этих маленьких беззащитных ручек на своих плечах. Что я буду без него?
Я мог и не осознать этого, если бы тогда, шесть лет назад не рванул его с подоконника и не прижал к себе на всю оставшуюся жизнь.
Первый сон я прогоню.
А второй я заманю.
Чтоб плохой не снился,
А хороший сбылся…
–
«Иди. Кто тебя держит?..»
Эта фраза ударила внезапно, наотмашь, куда-то туда, где прерывается дыхание и становится нечем и не для кого жить…
И ты вдруг явственно ощущаешь свою беспомощность, ненужность, неприкрытую, почти детскую беззащитность, когда надо зарыться в мамино плечо, а мамы нигде нет.
Словно ты и не рождался вовсе, не любил, не страдал, не пытался что-то изменить в себе и вокруг себя…
И вот стал не нужен одному человеку. Всего лишь одному…
Но, постигая смысл этой беспощадной фразы, ты замечаешь, что, оказывается, не нужен и другим. Что ты слишком негибок, докучлив, что тебя терпят из жалости, а если быть честным до конца, – из снисхождения к увечности, возрасту…
И тогда ты закуриваешь, поднимаешь воротник пальто и уходишь в ночь, в день – все равно в какое время суток с одинаково бесстрастными красками вокруг. И чем дальше ты уходишь, тем отчетливее понимаешь, что никто не глядит тебе вслед…
–
Когда мчишься по центральному проспекту и солнце, хлынувшее на город, бьет тебе в глаза через боковое стекло, достаточно свернуть влево от солнца в какой-нибудь тихий, неприметный переулок, и тогда оно станет светить тебе в спину.
Не такая уж она огромная – Вселенная…
–
А боль бывает такой, что кажется, проще умереть. Правда, бывает. Такая, что не пережить…
Когда пуля пробивает сосудисто-нервный пучок и выходит навылет, ломая в щепки бортовые доски машины (словно не ты, а именно этот кусок дерева был ее целью), и возникает ощущение, что кто-то незримо-беспощадный, каменно-непроницаемый наматывает твои нервы на стальной кулак…
И тогда, как перед последним броском, ты набираешь воздух в хрипящие легкие и кричишь сопровождающим тебя до медсанбата автоматчикам:
– Пристрелите меня! Не могу больше…
Только не кричишь ты, а молишь, воешь, скребешь руками по днищу крытого простреленным брезентом «Урала»…
И уже никогда не забудешь выражения неподвластного детского испуга на обожженных, обветренных войной мальчишеских лицах: они не могли поверить, что подобное может быть правдой.
А так бывает. Со мной – было.
Наверное, так же и с жизнью. Когда до такой степени надорван, иезуитски и безжалостно намотан на оголенные жернова, что уже физически не можешь, и самое страшное – не хочешь сопротивляться ее огневому валу.
Такого со мной не было. Пока не было.
Повести
Мутный Материк
…Старший лейтенант обмакнул валик в пасте, аккуратно раскатал на резиновой пластине и принял палец. Тщательно оттиснув палец, он перенес его на чистую карточку, где было выведено: «Комаров Алексей Юрьевич» и данные преступника.
Сделав отпечаток, старлей полюбовался своей работой и сказал:
– Вот так, Удмурт, теперь ты в нашей картотеке навечно. И что ты не натвори, – старлей любовно оттискивал пальчики, – мы тебя всегда найдем. Из-под земли достанем.
– Я же не вор, начальник, – возразил Леха.
– Не вор – станешь вором, такая уж у вас, уголовного элемента, планида. Повезло тебе с отсрочкой от приговора – не я судья…
– Не мне одному, – сказал Леха, – не ты судья…
Старлей смерил Леху тяжелым взглядом, но промолчал. Погас свет. Лишь рассеянный отблеск уличного фонаря пробивался через зарешеченные окна.
– Опять подстанция! – возмутился старлей. – Чем они там занимаются, сукины дети? Так что смотри, Комаров.
– Впередсмотрящий смотрит только вперед.
– Что? – не понял старлей.
– Я свободен?
– Как птица.
Леха открыл дверь…
…Олени бежали по склону, накрывая рогами белые северные горы и задевая первые проступающие звезды. – Тормозни, – попросил Леха и, выдавив дверцу, на ходу спрыгнул в снег. «Урал»-бензовоз пронзительно заскрипел тормозами и остановился. Водила – немолодой, тощий – тоже вылез из машины.
– Жаль, оленей распугали, – расстроился он, – так и не посмотрел.
Леха примостился на бампере, закурил, спросил:
– Ты первый сезон?
– Первый.
– Еще насмотришься.
Олени пропадали в горах, только слабый перезвон консервных банок доносился в окоченелой тишине. «Блям-блям» – отстукивала баночка о спиленный олений рог. И это такое привычное легкое звучание сейчас наполняло душу смутной необъяснимой тоской.
– А чего ночью не поехали? – поинтересовался водила.
– Волки здесь, – неопределенно ответил Леха.
– Волки?
– Олени телятся… – Очень хотелось помолчать. – Когда олениха телится – она отходит от стада и рожает в одиночестве. Следом идут волки, ну и… Короче, опасно ночью, неужели непонятно?
– Откуда ты все знаешь, Удмурт?
– Живу давно. Помолчи, а…
Водила обиженно засопел, влез на подножку.
– Поехали.
Леха сплюнул окурок, затоптал в снег, залез в кабину.
Поехали.
По селектору на всю станцию неслось:
– Валь… Валя… Соловьева!
– Ну…
– Там у нас маневровый на каком пути?
– Откуда я знаю?
– А кто знает, твою-то мать! Сидишь там, веники вяжешь… Быстро посмотри и доложи.
– Ага, щас! Спешу и падаю, – огрызнулся селектор, но уже тише.
Показался поезд.
В селекторе что-то зашипело, заклокотало и, когда остановился состав, сообщило голосом диспетчера Соловьевой:
– На первый путь прибывает… пардон, прибыл пассажирский поезд № 180 Воркута – Москва. Повторяем: на первый путь прибыл пассажирский поезд № 180 Воркута – Москва. Просьба пассажирам побыстрее занять свои места. Поторапливайтесь, граждане…
Леха ступил на подножку, показал билет заспанной, прикрывающейся от ветра колючим воротником шинели проводнице, прошел в вагон.
Вагон был плацкартным, зябким и почти пустым. В одном из купе, кутаясь в платок, сидела молодая женщина и смотрела в окно отсутствующим взглядом. Здесь он и остановился.
– Позволите быть попутчиком?
– Вы уверены, что у вас именно это место? – спросила женщина.
– Абсолютно.
– Ради бога.
И отвернулась к окну.
Леха разделся, достал из сумки шоколадку:
– Вам.
– Мне? – женщина удивленно вскинула бровь.
– А что вас в этом удивляет?
– Скорее настораживает. Приставать будете?
– Непременно.
Он достал еще одну плитку, прошел к проводнице:
– Я только из тайги и сразу на поезд. Как бы помыться?
Проводница достала чистое полотенце, налила в чайник горячей воды из титана.
Мылся он долго. Тер сильное тело, смывал, фыркал, и снова тер, и снова смывал.
Проводница смотрела на него и думала, что если бы не вся ее собачья жизнь с грязными вагонами, водкой, пьяными мужиками в прокуренной клетушке служебного купе, – и у нее мог быть такой же сын. Он так же бы возвращался из тайги, и она долго обмывала из чайника его худое знакомое тело.
Расчесывая влажные волосы, Леха вернулся в купе.
– Ну что, давайте знакомиться. Алексей.
– Тамара, – безучастно произнесла она.
– Коньяку выпьем, Тамара?
– Какой вы, однако, предусмотрительный, – она впервые повернулась к нему. – Свежевымытый, напичканный шоколадом и коньяком. И лимон у вас есть?
– Лимона нет, – он беспомощно развел руками.
– Что ж, давайте выпьем…
Пила она медленно, без удовольствия.
– Куда едете? – спросил он.
– Никуда, – не сразу ответила она. – Бегу от мужа… История скучная и, в общем, обыкновенная.
– С офицером?
– С дорожным чемоданом.
– А муж?
– Муж одержим одной идеей – заработать все деньги и отгрохать дом где-нибудь на теплом побережье. Бассейн, зеркальные карпы, голубая норка…
– Не такая уж плохая идея. А вы, разумеется, птица иного полета.
– Какая из меня птица…
– Ну-ну. Еще?
– Можно и еще.
Выпили.
Она сказала:
– Да не смотрите вы все время на часы. Я уже обратила внимание на ваш сногсшибательный «Ориент».
– Грешен: хвастлив. Где-то я вычитал, что у мужчины должны быть безупречными часы, галстук, обувь и зажигалка. У меня в наличии только часы. Приходится подчеркивать.
Часы и вправду были потрясающие: большие, с хрустальным стеклом, каким-то фантастическим светящимся циферблатом.
– А я где-то читала, что мужчина должен пройти войну, любовь и тюрьму. С этим у вас как?
– С этим сложнее.
Он достал сигареты.
– Курите?
– Увы.
– Почему «увы»?
– Потому что когда женщина пьет, курит, да еще разыскивается собственным мужем – к ней уже трудно относиться как к женщине…
– Вы очень этим огорчены?
– Я огорчена тем, что все надо начинать сначала. А я… Я к этому не готова.
В тамбуре было холодно и грязно. Тамара прислонилась к стене, затянулась, прикрыла глаза. У нее была неброская, обманчивая на первый взгляд внешность, но она принадлежала к тому редкому числу женщин, в лица которых можно вглядываться всю жизнь.
– Куда же ты все-таки?
– Действительно никуда. Сойду где-нибудь, устроюсь…
– У тебя что ж, никого нет?
– У-у, – она покачала головой. – В ряду вещей, о которых мечтал мой муж, я оказалась самой доступной.
– Поедем со мной в Москву, – неожиданно предложил Леха. – У меня комната с видом на набережную. Будем чай пить с малиной, на реку смотреть. Ну, еще театр, салют, зоопарк.
– Поедем, – безразлично согласилась она.
Он бросил сигарету, наклонился и поцеловал ее в губы. Можно сказать, символически. Она не оттолкнула его, только спросила:
– Зачем?
– Хотел убедиться в твоей доступности…
– Убедился?
– Пока неясно…
– Тогда разреши, это сделаю я.
Она обняла его, поцеловала долго и пронзительно, как целуют первый и последний раз.
– И что теперь? – задохнувшись, спросил он.
– Теперь мы вернемся в купе, а завтра разойдемся… Каждый на своей станции…
Утром он тронул ее за плечо.
– Тома, вставай, нам скоро выходить.
Она и не спала. Повернулась к нему.
– Ты серьезно?
Он не ответил. Стоя у зеркала, расчесывал влажные волосы.
Тома села на постели, прижав одеяло к груди. Растерянная, верящая и не верящая…
– Я нужна тебе?
Леха сел напротив нее, засмеялся и воткнул свою расческу в ее спутанные волосы.
– Если б ты знала, на кого ты сейчас похожа…
Леха зашел в здание с вывеской «Производственное объединение “Уралзолото”».
– Здорово, Удмурт!
– В отпуск?
– Да, да…
Улыбались, жали руки, были действительно рады друг другу.
– Ну, как вы там, на Крайнем Севере? Задыхаетесь от нехватки витаминов?
– Задыхаемся, но по-прежнему самоотреченно строим социализм с человеческим лицом…
– Это с твоим-то…
– А что, лицо как лицо, – серьезно ответил Леха. – Ему бы еще хоть какое-нибудь выражение придать…
Бухгалтер – молодой парень, Лехин ровесник, – сверяясь по ведомости, набирал на калькуляторе.
– Итого: сто сорок восемь, будем считать, сто пятьдесят трудодней. По червонцу на день – тысяча пятьсот рублей. – Две с половиной, – с нажимом сказал Леха.
– Паниковский, зачем вам деньги – у вас же нет вкуса.
– Это у тебя нет вкуса, если ты считаешь, что старатель может прожить на полторы штуки в месяц.
– Ладно, уговорил. Две.
– Ладно.
Хлопнули по рукам.
– Чего ты в отпуск-то? – отсчитывая деньги, спросил бухгалтер. – Вроде не сезон.
– Устал, – односложно ответил Леха.
– Устал… Сейчас самая работа – не бей лежачего.
– Устают по-разному, Эдик…
Бухгалтер внимательно посмотрел на него.
– Добавить тебе еще полштуки?
– Добавь.
Пробивались в вечернем небе габаритные огни самолета. Дремали пассажиры. По проходу, настойчиво предлагая воду и леденцы, шла длинноногая хозяйка салона.
Тома спала, положив Лехе голову на плечо, и в том, как невесомо прислонилась она к нему, во всей ее угловатой позе ощущались неуверенность и настороженность. Темно-фиолетовые облака лежали за окнами иллюминаторов.
Леха что-то записывал в блокнот, перечеркивал, записывал вновь. Мучительно тяжело давались слова.
«Душа обязана трудиться: и день и ночь, и день и ночь…»
Она и трудилась: с восьми утра до восьми вечера, промывая ненавистный золотой песок, стиралась, мылась, тайком пила водку, нарушая непреложный сухой закон, ложилась спать. И не могла растратить себя даже на письмо – потому как писать ей, в сущности, было некому.
И теперь ей было необходимо вернуть созерцание и покой с помощью таинственных неподвластных знаков, именуемых словами, и женщины, так неожиданно прибившейся к оскудевшему берегу.
Он вырвал исписанный листок, скомкал, бросил на пол. Повернулся к Томе и осторожно коснулся губами ее волос.
Она улыбнулась скованно.
Ресторан был закрыт на обед. В полумраке застилались чистые скатерти, расставлялись приборы и неизменные таблички «Стол заказан».
Леха постучал. За дверью возникло недовольное лицо швейцара.
– Не видишь: обед.
– Раю позови.
– Какую?
– Любую.
Лицо швейцара приобрело еще более кислый оттенок, но пошел – рискни, не позови официантку.
Показалась Рая. Немолодая, сдобная, жеманная.
– Здравствуй, Лешенька. Где пропадал?
– В командировке.
– Что это за командировки такие по полгода?
– Бывают и такие. Нам бы посидеть.
– Так обед.
– Ну придумай что-нибудь.
Рая на секунду задумалась, поднимая себе цену в глазах Тамары.
– Пойдемте.
Сидели в дальнем углу ресторана. За тяжелыми пыльными гардинами шумела улица Горького. Гремела кухня. Носила и носила заказы Рая.
– А почему мы не пришли вечером? – спросила Тома.
– О, вечером здесь такая свалка: пьяные актеры, мат, дым коромыслом. В общем, праздник жизни, к которому мы не имеем никакого отношения.
– А какое ты вообще имеешь отношение к Дому актера?
– Самое далекое. Когда-то закончил литературный институт. Написал три пьесы.
– Идут?
– Идут. Вот здесь, – он постучал пальцем по лбу. – Но зато как идут. Поставлены и разыграны мною до мельчайших мизансцен. Под занавес, конечно, шквал аплодисментов, особо слабонервные зрители рыдают, кричат «браво», вызывают автора.
– И ты выходишь…
– И я выхожу… Простой, доступный, в джинсах, свитере грубой вязки…
– А в твоей голове уже рождаются новые замыслы, ты весь охвачен ими, тебе претят эти аплодисменты, скорее бы домой, сесть за стол…
– Откуда ты знаешь? – удивился он.
– Я актриса. Правда, бывшая.
– Что значит бывшая?
– Бывшая, Леша, это когда все в прошлом… Закончила училище – вызвали в какой-то Заступинск, я не поехала. Показалась в один театр, в другой… Где-то не подошла внешне – я же не красотка, сама это знаю, – где-то надо было переспать – я не смогла. Со всех дел вышла замуж, уехала на Север. Вела народный театр. Один шахтер, молодой парень, как он играл Гамлета… Отыграли премьеру, собрались отметить, зашли в гримерку, а он… – Она отвернулась. – Повесился на батарее парового отопления. На столе записка: «Быть или не быть? Быть и давать стране угля».
Леха наполнил рюмку.
– Налей и мне, – попросила Тома.
Леха налил, поднял рюмку.
– Давай попробуем показаться в Москве. Все-таки есть какие-то знакомства.
– Давай, – безразлично согласилась она.
– Тебе что, все равно, что ли? – разозлился он.
– А тебе?
В раскрытое окно свежестью чистых облаков врывался первый мартовский дождь, сливался с темной рябью канала, смывал с улиц черные, изуродованные мусором снега…В комнате тяжелый застоявшийся запах табака, пыльная лепнина на потолке, колченогий заваленный бумагами стол, афиши чужих спектаклей, закрывающие выцветшие обои…
И они, не раздеваясь, на подоконнике – посередине такого противоречивого мира.
…Откуда приходит смятение души? Из мутного облака, пролившегося дождем.
Из так надоевшего и вдруг замолчавшего телефона или женщины, что была здесь только сейчас, ушла минуту назад и вот-вот должна вернуться, а ее все нет и нет.
Из так ровно и тщательно уложенного паркета, в котором все же нашлась одна щелочка, и в нее закатился нечаянно сброшенный со стола гривенник и торчит тусклым сиротливым боком. В комнате сумрачно, где-то за окном шумит бульдозер, и эта щель, и гривенник в ней, и почему-то хочется плакать, и все время гаснет сигарета.
Откуда приходит смятение души?
Из пары пустяков.
Стука поезда, за окнами которого в вечернем безмолвии видны белые северные горы, ложка дребезжит о чайный стакан и женщина через три купе от тебя в пустом, зябком плацкартном вагоне, закутавшись в одеяло, смотрит в окно уставшими глазами.
Из заправленного в машинку чистого листа, что так и останется чистым день, два, три, десять, напоминая тебе о скудности и нерастраченности души.
Из алюминиевой клетки с канарейками, которые суетно щебечут на плече однорукого солдата Отечественной войны и стоят десять рублей пара.
Откуда приходит смятение души?
Из долгих часов бессонницы, где ты, один на один с собою, совершаешь так много прекрасных дел, так бескорыстно прост и смел, так талантлив кажется завтрашний день. А завтра застает тебя врасплох и обезоруживает действительностью и обычным светом своих красок. Ты ешь яичницу, пьешь горячий кофе на салфеточке и думаешь о другом.
Откуда приходит смятение души?
Из того, что утро вечера мудренее.
Из того, что завтра будет иначе…
Слеза побежала по лицу. Она тронула его за рукав:
– Что ты?
– Не знаю… – Он достал из кармана пальто коньяк. – Допьем.
– Мы много пьем.
– Разве?
Тома подняла рюмку.
– Я не вправе вмешиваться в твою жизнь, но я прошу тебя: успокойся со мной. За это я выпью.
– Хорошо, что мы встретились, Тома…
– «Вот и встретились два одиночества…»
– Что?
– Песенка такая есть. «…Развели у дороги костер, а костру разгораться не хочется…»
– Слышал. Грустная песенка.
– Грустная. А как ты оказался на Севере?..
– Почему у вас новый паспорт? – заинтересовалась женщина в строгом костюме.
Она была еще молода, еще хороша собой, но так тщательно и добросовестно пыталась соответствовать занимаемой должности, была до такой степени околдована сводом законов и постановлений, что больше походила на механический циркуляр с непроницаемыми красивыми глазами.
– Потерял я старый по рассеянности, – Леха старался держаться непринужденно.
– По рассеянности или умышленно?
– Это что, допрос?
– Практически… Куда и кем устраиваетесь?
– В «Мосстрой-28». Сварщиком.
– Разведены? Холосты?
– Холост.
– Если разведены, укажите сразу. Узнаем – выпишем.
– Разве это имеет принципиальное значение?
– Безусловно. Если разведены, то при получении постоянной прописки можете снова зарегистрироваться, и таким образом будет на одного иногороднего больше. А на иногородних у нас лимит. Это понятно?
– Это понятно. А вы не допускаете мысли, что я просто могу предложить руку и сердце иногородней?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































