Текст книги "Прозрачные леса под Люксембургом (сборник)"
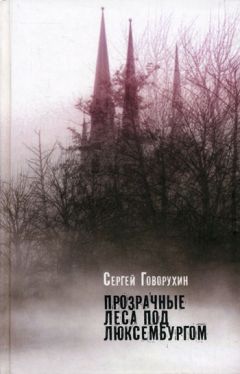
Автор книги: Сергей Говорухин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 18 страниц)
– Шкалик коньяка и шоколадку, – попросил Левашов. И передумав, добавил: – два шкалика…
На липком картоне, среди груды пивных пробок и использованных чеков, появились два шкалика коньяка с вызывающе косо наклеенными этикетками и не менее сомнительного качества импортная шоколадка.
Левашов положил деньги на прилавок, оглянулся: на город ложился туман. Он спускался с Воробьевых гор на купола Новодевичьевого монастыря, стелился по темной поверхности реки.
Как он будет в тумане? Один, у стылой мертвой реки…
– Может, выпьешь со мной? – спросил он у продавщицы. – А-то на улице как-то…
– Заходи, – вяло предложила она.
Левашов с трудом протиснулся в узкую боковую дверь палатки, сел на пластиковый ящик из-под бутылок.
Продавщица поставила стаканы, Левашов сорвал пробку с бутылки, разлил коньяк.
– Будь здорова.
Выпили. Левашов поморщился, запил стаканом воды.
– Коньяк-то «левый». Травите народ.
– Не пей.
– Не пить, старуха, не получается…
– Тогда пей – не ломайся. Коньяк «левый»… А что сейчас не «левое»?
– Только давай без глобальных обобщений…
– Давай, – засмеялась она.
Левашову стало спокойно и безмятежно. То ли от «левого» коньяка, то ли от ее неожиданной улыбки.
– Тебя как зовут?
– Люда.
– Красивая ты… С такими данными не в коммерческой палатке пропадать…
– А где? На панели? Лет мне скоро сорок… – она протянула стакан. Под вязаными перчатками с обрезанными краями угадывались красивые руки с облезшим маникюром. – Плесни-ка еще…
– Не следишь за собой…
– Для кого?
– Москвичка?
– Из Житомира… Во время войны нас эшелонами в Германию свозили, а сейчас мы сами эшелонами в Москву едем… Пить-то будем?
– Заводная ты.
– Была. Может, еще буду.
– Я закурю?
– Кури. Любую на выбор. – Она провела рукой вдоль целого ряда поштучно разложенных сигарет. – Теперь не у всех даже на пачку сигарет хватает…
– Ты кем была до продавщицы?
– Продавщицей.
Выпили еще. Левашов закурил, расстегнул куртку.
– А я скоро уезжаю, – неожиданно сказал он.
– Далеко?
– Далеко… На войну.
– Убить могут.
– Могут.
– Зачем же едешь?
– Надо.
– Партия сказала: «Надо», комсомол ответил: «Есть!» Кому надо?
– Мне.
Она встала, потянулась во весь свой модельный рост.
– А поедем ко мне. Закрою я эту богадельню…
– Ты бы хоть спросила, как меня зовут.
– Зачем? Утром ни ты меня, ни я тебя не вспомню.
– Зачем же тогда ехать?
– Можно и не ехать, – она покорно села на место. – А зовут тебя Евгений. Я читала твои репортажи из Афганистана…
– Интересовалась?
– Интересовалась… У меня муж погиб там. И брат.
Она разлила остатки коньяка, подняла стакан, приглашая выпить молча, выпила, подошла к Левашову, положила руки на плечи, опустилась перед ним, глядя в глаза, сказала:
– Их в один день убило. Под Гератом. Только в разных местах.
– А дети?
– У-у, – отчаянно помотала головой она. – Ничего не осталось.
Встала, взяла с прилавка сигарету, закурила, снова став такой же спокойно-безучастной, какой была все это время.
– Иди. Тебе пора.
Левашов поднялся, застегнул куртку.
– Тебя не убьют, – тихо сказала она.
Левашов вышел, машинально прошел несколько шагов, остановился, постоял секунду-другую и вернулся к палатке.
– Открой! – требовательно постучал он в окошко.
Люда отворила.
Левашов попробовал засунуть пакет с косметикой в узкий проем окошка – пакет не влезал. Тогда он стал доставать и бросать на прилавок содержимое пакета: помады, тени, лаки, туши…
– Мажься! Красься! – зло говорил, почти кричал он. – Делай, что хочешь, только не сиди в этом дерьме! Ничего еще не кончено! Ничего! И ты, и я – мы еще будем жить долго, счастливо! Будем!
Левашов зашел в телефонную будку, набрал номер. Трубку взял Игорь.
– Привет, Игорь! – произнес Левашов таким тоном, словно они расстались только вчера.
– Привет… Ты, что ли, Левашов?
– Я… Слушай, Игорек, мне бы переговорить с тобой по неотложному делу…
– Переговорить… Ну, подъезжай ко мне завтра на работу. Там и переговорим. Только позвони предварительно.
Левашов понял, что унижаться придется. Ну и черт с ним, унизится – не растает.
– Я вообще-то из автомата звоню, – сказал он. – Автомат в двух шагах от твоего дома. Может, ты уделишь мне десять минут – на большее я не посягну.
– Что-нибудь срочное? – спросил Игорь.
– Да.
– Квартира девятнадцать.
В дверях они даже обнялись.
– Квартиру будешь смотреть? – спросил Игорь.
– А потом ты скажешь, что я не уложился в десять минут…
– Ладно, пошли. Квартира – предмет моей особой гордости.
И они пошли.
Левашов шел за Игорем анфиладами просторных комнат, машинально фиксируя непривычные слуху названия: коммерческий бассейн, душевая кабина, натяжные потолки… Но ни масштабы, ни респектабельность, ни малахитовое обрамление дверных проемов не поразили Левашова – его удивила собственная отрешенность и безучастность к дорогому убранству квартиры и странное, не оставляющее ни на секунду, недоумение: неужели этому можно всерьез посвятить свою жизнь?
– Ну как? – ревностно поинтересовался Игорь, когда осмотр квартиры был завершен и они наконец присели за кухонный стол.
– Другое измерение, – вежливо согласился Левашов.
Игорь достал бутылку виски, плеснул по полстакана, порезал апельсин.
– Давай… Сколько мы с тобой не виделись?
– Года четыре… – неуверенно произнес Левашов.
– А как ты узнал мой новый адрес?
– Москва – небольшой город, Игорь Валентинович…
– Ну-ну…
Они сдвинули стаканы, выпили, каждый аккуратно закусил кружочком апельсина. Игорь тут же наполнил стаканы – оба чувствовали себя неловко.
– Наших кого-нибудь встречаешь? – спросил Игорь.
– Нет, никого.
– И я никого, – с сожалением сказал Игорь. – Шесть лет проучились и – как в море корабли…
Закурили. Почти одновременно.
– Ну, а ко мне-то тебя что привело? – первым не выдержал Игорь.
Левашов несколько раз затянулся и загасил сигарету. Тщательно, до последнего уголька.
– Деньги мне нужны. Десять тысяч долларов…
– Зачем?
– Отвечать обязательно?
– Обязательно.
– Через неделю я уезжаю в командировку, в Таджикистан…
– Ах, да, – припомнил Игорь. – Там, по-моему, какой-то пограничный конфликт…
– Там война, – сказал Левашов, – и уже не первый год…
– Ну, а тебе-то эта война зачем? Тебе что, Афганистана не хватило?
– Там война, – повторил Левашов, – о которой страна не знает, а скорее – не хочет знать. Война, а не какой-то пограничный конфликт…
– Где мы, а где Таджикистан, – пожал плечами Игорь.
– Гораздо ближе, чем кажется…
– Ну, хорошо, война, – Игорь так же тщательно загасил сигарету и отодвинул пепельницу. Теперь даже пепельница не разделяла их. – Я-то здесь при чем?
– А при том, что когда к тебе придет пацан на костылях и попросит денег на протез – ты не сможешь ему отказать.
– Собственно, почему?
– Потому что я постараюсь убедить тебя в этом…
– Ты уверен, что у тебя это получится?
– Нет, – не сразу ответил Левашов.
Они молча выпили. Некоторое время сидели, не глядя друг на друга.
– А почему бы эту почетную миссию не взять на себя государству? – предположил Игорь.
– Потому что, как показывает опыт, государство не желает нести ответственности за тех, кого оно посылает на смерть, а они, к его величайшему изумлению, возвращаются живыми. Такая вот особенность у нашего государства…Игорь, откинувшись на спинку стула, внимательно смотрел на Левашова.
– Удивительные метаморфозы происходят в жизни, согласись, Левашов. Когда я делал бабки на этом фуфле, именуемом кинематографом эпохи перестройки, ты меня искренне презирал и не скрывал этого, а теперь как ни в чем не бывало являешься ко мне за деньгами… Тебя в этом ничего не смущает?
– У меня здесь остаются жена и мать. Эти деньги для них…
– А это уже несущественно, – сухо сказал Игорь.
Левашов посмотрел на часы.
– Мой лимит исчерпан, – сказал он и поднялся из-за стола.
– Я ведь не сказал «нет», – продолжал сидеть Игорь.
– Сказал.
– Удивительно ты умеешь портить отношения с людьми, Левашов, – вздохнул Игорь.
Левашов надевал ботинки в коридоре. А они не одевались из-за узла, который он сам затянул пятнадцать минут назад, когда небрежно снимал их. Не одевались именно сейчас, именно в этом коридоре. И этот процесс был мучителен и унизителен одновременно. И уйти, хлопнув дверью, в одном ботинке тоже было немыслимо.
В коридор вышел Игорь.
– Возьми, – он протянул Левашову пачку стодолларовых купюр.
Левашов встал с корточек. Теперь они стояли друг против друга, и Левашову оставалось только протянуть руку…
– Возьми! – раздраженно повторил Игорь и попытался сунуть деньги в карман Левашовской куртки.
Нет, он сделал это не осознанно. Он всего лишь промахнулся. Так когда-нибудь бывает с каждым: бросаешь ключи в карман, а они оказываются на полу.
Пачка упала на пол и теперь лежала под ногами сотней мятых и новых купюр. Кто-то из двоих должен был нагнуться и собрать деньги, и каждый понимал, что не сможет сделать этого первым…
Наконец Левашов нагнулся, подобрал с пола ботинок с намертво затянувшимся узлом, открыл дверь и пошел вниз по лестнице, ступая необутой ногой по каменным ступеням.
Он опускался этаж за этажом, а с лестничной площадки кричал ему вслед Игорь:
– Уходишь, праведник! Незапятнанный, не погрешивший душой, живой укор потомкам! Правильно, пусть твоя семья побирается с голоду – принципы же дороже, Левашов! Только это не я – это ты пришел ко мне! Ты пришел за деньгами и получил их… Ты получил их, козел!..
Левашов ехал в такси по залитому рекламными огнями пустынному городу.
Огни большого города… Интересно, кому светит реклама по ночам? Для кого переливаются огнями слоганы быстрорастворимых напитков, импортного пойла и дорогих сигарет? Для того, кто не спит которую ночь подряд, успокаивая свое больное сердце и не зная, сумеет ли дотянуть до утра…
Зачем этому чужому городу далекая война с кровавыми боями на подступах к горным высотам и отчаявшимися, вызывающими огонь на себя, охрипшими лейтенантами, со вшами во фронтовых блиндажах, с обреченными на гибель рейдами десантно-штурмовых групп и разорванными в клочья телами еще мгновение назад живых людей?..
Мог ли он ответить на этот вопрос? Скорее, нет.
И в то же время он понимал, что если однажды, бреясь перед зеркалом, человек отложит кисточку для бритья и попробует вглядеться в самого себя – в этом будет и его, Левашова, заслуга.
Он посмотрел на часы: двадцать три часа пятьдесят две минуты. Через восемь минут наступит следующий день, беспощадно приближающий дату отъезда. Сколько ему осталось этих дней, часов, минут? Всего ничего. И первый свой день он уже прожил.
…Головной дозор обогнул выступающую скалу и вышел на тропу, с которой открывался вид на перевал.
– Успели, – выдохнул Истратов, – еще десять минут, и хрен вы нас оттуда сбросите, суки!
– Что вы, товарищ капитан? – спросил идущий следом Брегер.
– Перевал, Леня, перевал! – показывая рукой перед собой, говорил Истратов. – Еще немного, и все!
– Хорошо бы, – обессиленно улыбнулся Брегер.
Группа вытягивалась на тропу.
Собственно, назвать это тропой можно было весьма условно. Справа от тропы уходила вверх отвесная стена, когда-то завалившая тропу почти непроходимым камнепадом. И обойти валуны и мелкие скальные породы не представлялось возможным: слева метров на семьдесят обрывался край ущелья, по дну которого бежал горный ручей.
До противоположного, поросшего редким кустарником «берега» ущелья было метров восемьдесят, может, больше. Он существенно возвышался над тропой и тянулся до самого перевала…
– Гиблое место, – обернувшись к Вагину, просипел Левашов, – свалить бы отсюда поскореее!
– Да уж, – сплюнул вязкую слюну Вагин, – не Фрунзенская набережная…
– А ты что, бывал на Фрунзенской набережной? – усмехнулся Левашов.
– Откуда?..
Об этом гиблом месте, из последних сил карабкаясь по камням и лишь время от времени ступая на тропу, думали все в группе. Об этом думал Истратов. И только у тех, кто выбрал позицию на противоположном «берегу» ущелья, была совершенно противоположная задача…
И когда воздух распороли первые выстрелы – они уже ни для кого не были неожиданностью в этом самим дьяволом созданном тире…
Успевшие укрыться за валунами и в спасительных ложбинках открыли беспорядочный ответный огонь, давая возможность укрыться другим.
Пока никто не успел определить, откуда ведется прицельный огонь и сколько стволов пытаются сбросить группу с тропы. Все еще были живы, и на данный момент главным было только это.
Левашов бросился за косой, расколотый пополам камень, сбросил с плеча кофр. В то же мгновение над его головой высекло автоматной очередью каменную крошку. К нему повернулся укрывшийся за тем же камнем Вагин.
– «Граники»[15]15
Граник – гранатомет.
[Закрыть] молчат! – возбужденно крикнул он, – похоже, на охранение нарвались… Если из «граников» начнут валить – нам отсюда не выбраться!
– Нам отсюда и так не выбраться, – мрачно отозвался Левашов. В чем в чем, а в этом он понимал больше Вагина.
– Это посмотрим, – сплюнул Вагин и, приподнявшись из-за камня, дал несколько коротких очередей, чтобы, обнаружив себя, засечь огневые точки противника.
Это было опасно, смертельно опасно, но сейчас он почему-то не думал об этом.
Метрах в десяти от них, за ближайшим валуном, склонившись над картой, что-то кричал в гарнитуру радиостанции Истратов. Вокруг стоял такой шквальный грохот, что Истратову приходилось выкрикивать координаты по несколько раз.
– «Борты» вызывает, – предположил Вагин. – Вы бы поснимали что-нибудь, товарищ корреспондент.
– Пошел ты!.. – Левашов перекинул автомат в правую руку и переместился к краю скального обломка.
Именно в этом месте камень шел на косой срез, тем самым открывая идеальную ячейку для стрельбы лежа. Левашов сосредоточенно осматривал противоположный склон, пытаясь обнаружить огневые точки «духов», но ему мешали пыль и дым над камнями.
– Справа от скального выступа метров двадцать – там у них пулемет! – крикнул ему снова высунувшийся из-за камня Вагин.
Левашов перевел мушку по указанному ориентиру и дал несколько длинных очередей.
– Ни хрена! – крикнул Вагин. – Правее!
– Да вижу я, твою мать! – взорвался Левашов. – Укройся, на хер!
И, не выдержав, схватил Вагина за капюшон «горки» и резко потянул вниз. Вагин неожиданно обмяк, захрипел и повалился на бок.
– Вагин! – рванул его на себя Левашов. – Вагин! Геша…
Из-под берета Геши Вагина стекала ровными струйками и капала на руки Левашова кровь. И только глаза по-прежнему смотрели строго и открыто, словно пытались до конца выявить огневые точки противника…
– Вечером мы приглашены в театр, – объявила Наташа.
Левашов, балансируя на табуретке, вворачивал лампочку в кухонный светильник.
– В какой еще театр? – думая о лампочке, раздраженно спросил Левашов.
– Театр – это там, где артисты.
– Это-то меня и смущает…
Левашов слез с табуретки, щелкнул выключателем. Лампочка не горела.
– Ты что, не любишь театр, Левашов?
– Я не люблю, когда брызжут слюной и поднимают каблуками пыль из столетних половиков…
– Господи, как можно так утилитарно подходить к искусству, – вздохнула Наташа.
– И все это в ярком свете прожекторов, – продолжал Левашов, вновь залезая на табурет и в очередной раз проделывая манипуляции с проклятой никак не желающей загораться лампочкой.
– Все? – спросила Наташа.
– Все.
– В общем, решено. Мы идем в театр, – отрезала Наташа.
– Идем так идем, – покорно согласился Левашов. – В «Ленком»?
– В Московский областной…
– Нам что, придется ехать в область? – ужаснулся Левашов.
– Женька, ну нельзя же быть таким серым. Областной театр дает спектакль на сцене Дворца культуры «Прожектор»…
Левашов беспомощно пощелкал выключателем – лампочка не загоралась.
– Час от часу не легче… – сдался он.
Спектакль назывался «Мужской род, единственное число». О жене, которая оставила мужа, сделала операцию по изменению пола и в качестве американского полковника вернулась обратно.
Сюжет пьесы был виртуозно запутан и остроумен. Режиссер, приятель Наташи, поставил спектакль блестяще, актеры, занятые в спектакле, играли легко и непринужденно, импровизируя на ходу и не смакуя лишние подробности.
Левашов подумал, что пьесу можно было поставить совершенно иначе: пошло и гадко. Он был благодарен Наташе за театр, за талант и смелость ее друзей, и, хотя все первое действие часто глупо и неприлично хохотал, его ни на минуту не оставляла мысль о предстоящем отъезде.
Он уже жил войной, горами, и эти величественные гибельные горы были так далеки от происходящего в зале…
В антракте, стоя в очереди к буфетной стойке, он предложил Наташе:
– Пойдем, побродим где-нибудь…
– Тебе не понравилось? – расстроилась она.
– Что ты, Наташка, все замечательно. Я давно ничего подобного не видел… – Он не мог объяснить ей, что ему осталось всего два дня, и эти два дня он не хочет, не может ни с кем ее делить. – Просто хочется побродить. Без буфетов этих…
– А как же Андрей Палыч, ребята? – растерялась Наташа. – Они же нас ждут после спектакля…
– Ну, позвоним, поблагодарим, соврем что-нибудь… Сколько их еще будет – этих премьер.
– А, ладно, – махнула рукой Наташа, – пойдем, горе мое невежественное.
Они бродили долго. Миновали Большой Каменный мост, посидели в Александровском саду, вышли на Новый Арбат. У здания переговорного пункта Левашов остановил Наташу и, глядя ей в глаза, сказал:
– Мне надо позвонить. Я очень тебя прошу: ни о чем не думай – это касается меня одного.
– Хорошо, – согласилась Наташа и осталась на улице.
Левашов подошел к окошку диспетчерской.
– Псков, пожалуйста, – он протянул бумажку с номером телефона.
– Ожидайте, – прикрыла ладонью зевок сонная телефонистка.
За огромными, чисто вымытыми витражами переговорного пункта ждала Левашова Наташа. Левашов подошел к стеклу, прислонился, смотрел на Наташу. Почувствовав его взгляд, Наташа повернулась, подошла ближе и теперь тоже смотрела на него.
Они стояли, разгороженные стеклом, и смотрели друг на друга. Долго, очень долго – несколько минут, в которые могла уместиться вся жизнь.
На мгновение ей показалось, что он прощается с ней, что происходит необратимое…
Он заметил в ее глазах далекие тревожные слезы…
«Я люблю тебя. Только тебя. Не волнуйся, все будет хорошо. Правда, будет… Я с тобой. Я не оставлю тебя, что бы они там все ни пророчили…»
Она услышала его, хотя он ничего не сказал. Услышала и успокоилась.
И когда телефонистка объявила номер его кабины, и он, жестами объяснив Наташе, что его вызывают, поправил несуществующий галстук и пошел к телефону, в ней уже не оставалось ничего от только что пережитых тревог.
Он вошел в кабину и снял трубку.
– Мама…
– Женька…
– Как дела, мам?
– А все хорошо, – отвечала мать, – сидим с девочками, отмечаем день рождения Ниночки Ветровой… – Она взяла аппарат на длинном телефонном шнуре и перешла в соседнюю комнату, волоча шнур за собой. – Ты помнишь Ниночку?
– Помню, – соврал Левашов.
– Ниночке уже шестьдесят два, – грустно сказала мать, прикрывая за собой дверь. – Стареем мы, сыночек…
– А почему у тебя? – возмутился Левашов, старательно обходя тему приближающейся старости. – У Ниночки что, своего дома нет?
– Ты же знаешь Ниночку, – вздохнула мать, – она такая легкомысленная…
Левашов попытался представить себе шестидесятилетнюю легкомысленную Ниночку и не смог.
– Как ты, сыночек? – спросила мать.
– Я уезжаю, мам…
– Куда? – голос матери изменился.
– В Арктику, за Полярный круг…
– Там же вечная мерзлота, Женя…
– Какая мерзлота, мама. Апрель на дворе.
– Ну, положим, еще март. А зачем ты едешь?
– В экспедицию, на съемки. Я звоню сказать, чтобы ты не волновалась, – вряд ли я смогу тебе звонить в ближайшие три-четыре месяца…
– Там что, нет телефонов?
– Мам, ну откуда в Арктике телефоны?
– Женя, ты говоришь мне правду? – спросила мать. В ее голосе появились просительные, отчаянные нотки.
– Как на исповеди… – Левашов помедлил секунду-другую. – Мама… Я, кажется, женился…
– Что значит «кажется»? – изумленно спросила мать.
– В смысле, мы еще не расписались…
– А она… – Мать затруднялась подобрать слово.
– Она для меня все, – опрометчиво сказал Левашов и тут же поправился. – Ты и она.
– Конформист, – рассмеялась мать. – Как ее зовут?
– Наташа.
– Я буду ей звонить, – тоном, не допускающим возражений, сказала мать. – Она живет у тебя?
– У меня.
– Когда ты едешь?
– Через два дня… – Он прижался лицом к стеклу. – Мама, а я всех нас во сне видел. Еще в старом доме… Ты молодая совсем, кормишь меня кукурузой… Отец живой…
– Четвертая кабина, заканчивайте! – ворвался в разговор беспощадный голос телефонистки.
– Женя! Женя! – занервничала мать – они, как всегда, ничего не успели сказать друг другу.
– Мам, ты не волнуйся, – успел крикнуть матери Левашов, – это самая рядовая командировка. Ну, хочешь, я привезу тебе белого медвежонка…
Раздались короткие гудки – их разъединили.
Их разъединили давно, а мать по-прежнему сидела на диване с трубкой в руке, не понимая, почему так безнадежно обрывают сердце привычные телефонные гудки.
Что в разговоре с сыном поселило в ней тревогу? Чрезмерная будничность тона, на которую она покупалась не раз? Арктика, из которой невозможно позвонить? Ни разу за три месяца… Его сон, в котором они все были живы и счастливы: она, Женя, давно убитый, но так и оставшийся единственным муж…
В комнату вошла легкомысленная Ниночка.
– Женя звонил? – спросила она.
Мать кивнула.
– Как он?
– Женился, – отрешенно сказала мать.
– То есть как? Не поставив тебя в известность…
– В смысле, они еще не расписались… – машинально повторила мать фразу сына.
– Это ничего, – примирительно сказала Ниночка, – молодость. Пойдем, Сонечка, все тебя ждут.
Мать подняла на Ниночку полные отчаяния глаза.
– Он сказал, что уезжает…
– Куда?
– В Арктику, за Полярный круг…
– А это не опасно? – на всякий случай спросила Ниночка, совершенно не представляя себе, что такое Арктика и за каким она Полярным кругом.
– Нет никакой Арктики! Никакого Полярного круга! – исступленно, почти на крике выводила мать. – Понимаешь, нет! Он опять едет туда, на эту проклятую войну!
– На какую войну? – недоуменно спросила Ниночка.
– Которые никогда не кончаются в этой стране, – зло и неожиданно спокойно сказала мать. Она уже взяла себя в руки. Она приняла решение. – Я поеду к нему.
– Ты прости меня, Сонечка, – как можно деликатнее и от того еще больше смущаясь, сказала Ниночка, – но мне кажется, ты можешь им помешать… Ведь они, вероятно, счастливы.
Мать резко встала. Она собиралась ответить что-то гневное, оскорбительное, но вдруг поняла, что сейчас права не она, а ее легкомысленная подруга Ниночка Ветрова.
Наступает время, когда матери начинают мешать своим сыновьям. И это время неизбежно. Да, это не касается ее сына – не такие у них отношения, но сейчас (пусть ее предположения тысячу раз справедливы) имеет ли она право вмешиваться в его жизнь?..
– Что же мне делать, Ниночка? – опускаясь на стул, беспомощно спросила мать.
Они поднимались по затертым грязным ступеням. Тускло отбрасывая тени, мерцала над головой закоптившаяся лампочка.
Стены, лестничные марши, перила – одним словом, все в этом фантастическом, будто вырванном из другого измерения, подъезде было испещрено рисунками и граничащими с помешательством изречениями граждан на тему «Мастера и Маргариты».
Но основное место на стенах, окнах и потолках занимали цитаты из самого Булгакова, и создавалось ощущение, что если подняться с первого до последнего этажа, то можно прочесть роман целиком.
– Где мы? – оторопело спросила Наташа.
– В этом подъезде находилась знаменитая квартира пятьдесят из булгаковского «Мастера и Маргариты», – объяснил Левашов.
– Ты любишь Булгакова?
– Я люблю тебя. А к Булгакову я спокоен.
– Тогда зачем мы здесь? Ты не Мастер, я не Маргарита…Левашов пожал плечами.
– Мне почему-то захотелось привести тебя сюда… Скоро эти квартиры выкупят, закрасят стены, установят домофоны, и больше ни одна влюбленная, временно безработная пара не сможет распить здесь бутылку портвейна…
– Почему портвейна? – удивилась Наташа.
– Потому что здесь можно пить только портвейн. И только из горлышка, – назидательно сказал Левашов.
– Женька, – Наташа прижалась к Левашову. Она повернула голову и прочла надпись на стене: – «Не шалю, никого не трогаю, починяю примус…» Как просто, – задумчиво сказала она, – никого не трогаю, починяю примус. И самое главное: никто не трогает меня…
Они поднялись на третий этаж, уселись на подоконник.
Неприкрытая, с выбитыми стеклами оконная створка слегка раскачивалась от ветра и поскрипывала в тишине московского колодца.
Левашов достал бутылку портвейна, опалил зажигалкой полиэтиленовую пробку и сорвал ее зубами. Сделав несколько глотков, он протянул бутылку Наташе.
Наташа перевела дух, перекрестилась и отчаянно приложилась к бутылке.
– Господи, какая гадость! – болезненно морщась, выдохнула она, возвращая бутылку Левашову.
– Ты что же, в юности портвейн не пила? – искренне удивился Левашов.
– Я пила сухое белое вино и не шлялась по подъездам, – заявила Наташа.
– Пропала жизнь, – сокрушенно вздохнул Левашов и ополовинил бутылку. – Будешь еще?
– Давай, чего уж теперь…
Левашов достал сигареты.
– Знаешь, а я в среду купил тебе целый пакет косметики «Сальвадор Дали», – сказал он. – Огромный такой пакетище…
– У меня что, по-твоему, косметики нет?..
– Я отдал его продавщице из коммерческой палатки. Весь пакет…
Наташа взяла у него сигарету, закурила.
– Женька, ты меня не идеализируешь? – прищурилась она. – Зачем ты мне это рассказываешь? Я обыкновенная баба. Вздорная, капризная, порой ревнивая… И я правда не понимаю, почему моя косметика должна доставаться какой-то продавщице?..
– У нее муж погиб там, в Афганистане, – не сразу ответил Левашов. – Молодая, интересная, по сути – старуха. Ни детей, ничего… Руки с облезшим маникюром…
Наташа нервно покусывала губы.
– Женька, – неожиданно всхлипнула она, – ты всегда будешь таким?
Он обнял ее, прижал к себе – маленького растрепанного воробышка.
– Я буду разным. И плохим и хорошим. Иногда ты будешь меня ненавидеть… Но я всегда буду с тобой. Мы будем жить долго. Сколько до нас еще не жил никто. А потом мы придем в этот дом, поднимемся по этой лестнице и уйдем в небо, как когда-то ушли они…
– Кто?
– Мастер и Маргарита…
– Какая чудесная сказка, – завороженно сказала Наташа. – А как же домофоны?
– В том-то и дело, – сухо сказал он, – что все сказки, в конце концов, разбиваются о самый банальный домофон…
Наташа взяла из его рук бутылку.
– Знаешь, Левашов, когда-нибудь у нас будет большая квартира, дружная семья, спокойная работа… И это неизбежно. И я этого не боюсь. Потому что я впервые счастлива. И впереди у меня еще столько счастья! И я его никому не отдам.
Она поднесла бутылку к губам и, к изумлению Левашова, выпила ее до конца.
– Не шалю, никого не трогаю, починяю примус… Пойдем домой, Жень…
«Наташка!
У меня не хватило решимости сообщить тебе о предстоящем отъезде… Я не мог допустить, чтобы наши последние дни были омрачены твоими тревогами. Прости меня.
Помнишь, ты спросила: “Если тебя позовут вновь – ты пойдешь?”
Уже тогда я знал, что меня вот-вот позовут. Этот день наступил. Не пойти я не мог.
Я уезжаю в Таджикистан. Там война, до которой никому нет дела. И я обязан рассказать об этой войне. Я не знаю, нужно ли это кому-нибудь, кроме меня, но это нужно мне. А значит, и тебе. А это уже немало.
Я пишу это письмо и уже скучаю по тебе, нахохлившийся мой воробышек. Я так и не успел поносить тебя на ладонях…
Знаешь, меня могли убить десятки раз. Иногда мне казалось, что меня больше нет. И только теперь я понимаю, что со мной никогда ничего не случится. Потому что у меня есть ты, родная, единственная моя…
Если же я задержусь по независящим от меня причинам, знай: тебя не оставят. Знай и забудь об этом. Потому что я вернусь все равно.
Я пишу это письмо дома, на нашей кухне. Ты уже спишь, как всегда раскинувшись посреди кровати и спрятав руки под подушку, а твоя левая пятка легкомысленно торчит из-под одеяла. Сейчас я ее поцелую, ты недовольно дернешь ногой, еще глубже забьешься в подушку и… проснешься.
Так будет всегда. Всю нашу жизнь. Ты будешь ложиться раньше и ждать меня, а я всегда буду возвращаться.
Спи. Я люблю тебя».
…Плотность огня усиливалась. «Духи» несколько раз били из гранатометов. Используя перепад высот, прижимали десантников к земле огнем двух пулеметов.
«Значит, есть у них гранатометы, – машинально отметил Левашов. – Выстрелы берегут, сволочи!»
Десантники навскидку отвечали из «мух». Больше от отчаяния. Постоянный огонь с той стороны не оставлял возможности вести прицельную стрельбу – пули крошили вековые камни, жутко завывая на рикошетах.
Сколько это продолжалось? Семь-восемь, максимум десять минут. Казалось – вечность.
В группе Истратова уже было пятеро убитых и четверо раненых.
Посеченный осколками, забившись среди камней, как в детстве под одеялом, истек кровью Ким Балабанов. И уже никто ничем не смог ему помочь…
Были убиты Шарафутдинов и Осипов. И навсегда замолчал один из трех пулеметов…
Умер на руках у Левашова Вагин. Он сам закрыл ему глаза…
Левашов не надеялся, что они выберутся из этого огневого мешка. Если случится чудо, то да. Скорее всего – нет.
Но в любом случае ему предстояло взять камеру и снимать. В конце концов, он здесь именно для этого. Но как же было непросто, перекинув за спину автомат, поменять надежное укрытие на почти открытую позицию и прильнуть к визиру видеокамеры…
Сколько раз ему приходилось слышать профессиональные термины: плавная панорама, интересная точка съемки… Но это было там, на заснеженной «натуре» среднерусской полосы, в хорошо отапливаемых павильонах Останкино…
Сейчас ему было необходимо найти «интересную» точку здесь. А она была только одна, эта «интересная» точка – в грохоте и вспышках обжигающе-гибельного металла, посреди яростной, для кого-то последней схватки…
В несколько бросков Левашов преодолел расстояние до намеченного места, упал среди камней, вросся в землю, навел объектив…
Вот она, непридуманная, не смонтированная из различных эпизодов – подлинная неистовая картина боя, в котором у тебя, как и у остальных, ровно столько же шансов выжить и ровно вдвое больше шансов умереть.
Вот они, перекрестные автоматные очереди, приближенный трансфокатором разрыв, леденящий сердце цвирк пули в нескольких сантиметрах от накамерной пушки…
Левашов, конечно, не услышал своей пули. Он всего лишь хотел добежать до соседнего камня и снять убитого пулеметчика. Пуля вошла прямо под колено раскаленным, пробивающим тело гвоздем и опрокинула его на землю. На мгновение ему показалось, что он споткнулся…
Левашов почувствовал, как пульсирует и бьет толчками из раны кровь и с каждой секундой становится невыносимее боль. Он рванул из разгрузки жгут и сильно перетянул ногу выше колена. Попытался опереться на ногу – нога не подчинилась.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































