Текст книги "Прозрачные леса под Люксембургом (сборник)"
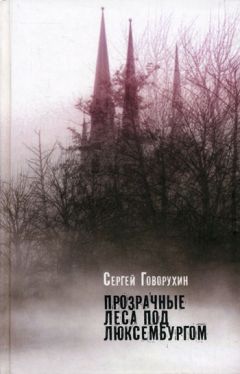
Автор книги: Сергей Говорухин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 18 страниц)
Значит, без посторонней помощи ему отсюда не выбраться. Как по-идиотски все вышло! Что же теперь – помирать здесь? Нет, он обещал вернуться и вернется! И хватит! Все остальное – разговоры в пользу бедных!
«Хрен им, а не селедки!» – всплыла в памяти фраза из какого-то фильма. Вспомнить бы, из какого…
Он подтянул к себе пулемет: цинк был пробит, лента покорежена. Левашов отшвырнул бесполезный теперь пулемет, перебросил из-за спины автомат…
У него оставалось семь магазинов и три пачки патронов в эрдэшке[16]16
Эрдэшка – ранец десантника.
[Закрыть]. Больше трехсот патронов…
Он еще не знал того, что знали остальные: за эти несколько минут к «духам» подоспело подкрепление. Человек двадцать. Может, больше.
– Хрен вам, а не селедки! – упрямо повторил он.
К нему метнулся Истратов.
– Уходим, Левашов!
– Не уйдем! Людей положим… – через боль выдавил Левашов.
– Положим, если не уйдем! Гранатометы у них – основные силы подтянулись…
– Не уйду я, Паш, – Левашов кивнул на ногу.
– Ох, е..! – Истратов увидел растекающееся по ноге Левашова багровое пятно. – Как же ты так?!
Он выхватил из нарукавного кармана коробочку с промедолом и вколол шприц-ампулу Левашову в бедро. Прямо через «горку».
– Спасибо, – Левашов протянул Истратову кофр. – Камеру забери, Паш…
– Я оставляю группу прикрытия, – не глядя на Левашова, сказал Истратов. – «Борты» уже идут, Жень…
Он положил рядом с Левашовым два автоматных рожка, оставшуюся шприц-ампулу.
– Бл… как в кино! – поморщился Левашов. – Я все понял, Паша…
– Кончилось кино, – Истратов сжал руку Левашова выше локтя, подержал секунду. – Дотяни, Женька…
Огонь со стороны «духов» стал еще интенсивнее – отстреливаясь на ходу, рывками уходила за скальный выступ группа Истратова.
Справа и слева от Левашова заработали пулеметы прикрытия. Перехватить инициативу хотя бы на несколько секунд, не дать «духам» поднять головы – только так можно было пропустить группу Истратова.
Левашов оперся на камень, подтащил раненую ногу, вскинул автомат. Прямо перед ним, стоя на одном колене, вскидывал пусковой механизм в направлении уходящей группы гранатометчик. В прорезь прицела Левашов разглядел пуштунку[17]17
Пуштунка – афганский мужской головной убор.
[Закрыть] на его голове, опустил мушку чуть ниже и нажал на спусковой крючок…
Он еще успел заметить, как, сорвавшись со склона, падал на дно ущелья гранатометчик, когда мощная взрывная волна бросила его на камни, впилась в спину десятком осколков…
«Я же убил его…»
Голова раскалывалась от боя колоколов, немела и набухала кровью посеченная осколками спина. Он инстинктивно прижал руки к голове и ощутил под пальцами сочащуюся из ушей кровь.
«Слишком много для одного дня…» – подумал он и с ужасом увидел, как с яркого полуденного неба на него стремительно падает ночь.
…Левашов лежал в Мертвом море и читал журнал. Это было совсем несложно: вода была до отвращения соленая и жирная, как подсолнечное масло. В такой воде можно было читать журнал, курить, играть в шахматы и беседовать о сотворении мира.
От палящего солнца голову Левашова прикрывал носовой платок, завязанный по концам на четыре легкомысленных узелка. И голова под стать платку была на удивление пуста и свободна от каких-либо мыслей…
Вдруг сквозь шум привычной пляжной суеты Левашов услышал звук, которым был переполнен весь сегодняшний день: звук гулко звякавших о камни автоматных гильз. Это было тем более неожиданно, потому что предшествующих этому звуку выстрелов он не услышал. Да и какие могли быть выстрелы на Мертвом море, по водам которого аки посуху бродил Христос…
Он повернул голову и увидел сидящих на берегу Вагина, Марата, Андрюху Осипова и пулеметчика Рената, фамилии которого он не помнил.
Десантники были без разгрузок и оружия, в нетронутых пулями и кровью выцветших стиранных «горках», которые надевали перед выходом, пока все еще были живы.
Они сидели у самой кромки воды на фоне странно размытых, будто снятых в мягком фокусе силуэтов отдыхающих, и Вагин, глядя себе под ноги, сыпал из ладони на камни морскую гальку. Звук падающей гальки был глухим и дробно металлическим, как эхо.
– Марат? Вагин?
Левашов почувствовал под ногами дно и, сорвав с головы платок, пошел к берегу, отгребая воду руками.
– Я же говорил, что мы выберемся, Левашов, – улыбался ему навстречу Вагин.
– Где вы?
Он шел к ним, но не приближался.
– На небесах…
– Здесь хорошо, – поправил задуваемый ветром капюшон «горки» Андрюха Осипов, – только непривычно тихо…
– А как же чистилище? – растерянно спросил Левашов.
– Какое чистилище, Левашов? – недоуменно пожал плечами Марат. – Мы же солдаты…
– А где Ким? – Левашов искал взглядом Балабанова, но не находил его. – Его же убило первым…
– Пошел ребят собирать, – буднично пояснил Вагин. – Через час выходим…
– Ты же говорил, здесь тихо, Андрюх, – прищурился Левашов, – он до сих пор не мог понять, что с ним все-таки происходит.
А они уже освоились здесь, на небесах. И сейчас собирали ребят, чтобы довершить то, что не успели сделать на земле.
– Было тихо, – очень серьезно сказал Осипов и вдруг, не выдержав, расхохотался, – пока нас не было…
И словно по цепной реакции, подхватили его смех остальные. Они смеялись искренне, обескураживающее открыто, и не было в этом смехе ни насилия над собой, ни тоски по ушедшей земной жизни…
И тогда, не выдержав, рассмеялся вместе с ними и Левашов. Он снова был среди своих, и на данный момент главным было только это.
Ренат достал из пачки «Примы» сигарету, привычно размял ее пальцами, и, прикурив, сделал несколько глубоких затяжек. Он умел вкусно курить, Ренат.
Левашов сглотнул тяжелую слюну. Когда он курил в последний раз? Уже и не вспомнить.
– Курить охота, – не отрывая глаз от Рената, сказал он. – Оставь на ползатяжки, Ренат…
Ренат затянулся, выпустил дым и протянул сигарету Левашову.
– Держи…
Левашов потянулся за сигаретой…
…И нащупал непослушной рукой автомат.
– А все-таки еще не конец, – сказал он сам себе.
Он еще мог стрелять. Не прицельно, ослабшими руками, но мог. Главное было выбрать удобную позицию.
Слева изредка, экономя патроны, огрызался пулемет. Он бил невпопад: то по склону, то поверх него – перекрестные очереди со стороны «духов» практически лишали его возможности вести ответный огонь.
А правый молчал. Мертвый пулеметчик лежал, обхватив пулемет руками и бережно укрыв его своим телом, как самого верного друга, с которым были связаны последние минуты жизни.
А пули с противоположного склона все еще били по его мертвому телу…
Значит, его убило, пока Левашов путешествовал в измерениях…
Их осталось двое.
Левашов примостился среди камней, как на турели, приспособил в узкой расщелине автомат и вдруг ощутил в разряженном очередями и пороховыми газами воздухе первые звуки тишины…
Он повернул голову: далеко в небе, отстреливаясь тепловыми ракетами, словно в рапиде, плыло к ним на помощь звено боевых вертолетов…
2003
Прозрачные леса под Люксембургом
Почему именно здесь, в землях Западной Германии, в пятизвездочном отеле с двором-колодцем и боем часов на городской ратуше, мне приснились мои товарищи, которых давно не было в живых…
Герка, Димыч Разумовский, Форест, Гарик Орехов…
Почему в моем сне мы были перенесены из реальности в сорок третий год и, сидя на железнодорожной насыпи, пытаясь свернуть самокрутку неслушающимися руками, я не замечал, как просыпающийся сквозь пальцы табак смешивался с тяжелой пылью земли и теплый южный ветер гнал его к чернеющим вдалеке разрывам.
Все это было похоже на кино: и задувание искусственного ветра, и пиротехнические дымы, и просыпающиеся из кисета на землю крошки табака – как образ внутреннего опустошения и чего-то пока неясного, но неизбежного…
Там, за пакгаузом, еще шел бой, а мы, измотанные трехдневным противостоянием, тяжело и подавленно молчали, привалившись друг к другу спинами и ожесточенно сворачивая самокрутки. Все, кто остался от четвертой роты.
Где-то за насыпью послышался скрипучий звук патефона:
Ты помнишь наши встречи и вечер голубой,
Взволнованные речи, любимый мой, родной…
А, может, это было из другого сна…
Я наконец прикурил от отсыревших спичек, и тогда Пашка сказал:
– Смешная песенка, – он с треском рванул грязный, с въевшейся сажей подворотничок. – Оставь покурить…
Значит, это было из этого проклятого сна.
– Ты же не куришь, – попробовал оттянуть время я.
– Оставь.
Я знал, что когда Пашка сделает последнюю затяжку, осколок шального снаряда войдет ему в сердце, и, часто-часто растерянно заморгав, он упадет мне на колени всей тяжестью мертвого тела, и я сам оборву рукой настойчивый свет его глаз.
Все так и было в реальном девяносто пятом: и пакгауз, и насыпь, и осколок в Пашкином сердце, и моя рука, задержавшаяся на его лице…
Пробиваясь сквозь сон, пытаясь отсрочить Пашкин конец, я совершенно явственно осознал, что даже во сне мне не дано запомнить их живыми, и в какую бы эпоху нас ни переносило, нам суждено встречаться только на войне, которая снова и снова будет убивать их и по-прежнему оставлять в живых меня. На войне, когда-то так беспощадно прибившей нас друг к другу…
Тогда же возникло в подсознании заглавие рассказа Казакова «Во сне ты горько плакал» и странная фраза: «соскрести боль со стенок желудочка». Сердечного желудочка.
Я плакал во сне. Плакал долго. Вопреки утверждениям, что сон человеческий краток.
Очнувшись, я понял, что плакал наяву, – подушка была сырой и горькой от слез.
Рядом, на краю постели, аккуратно и невесомо приютилась Фредерика – переводчица, с которой мы познакомились на банкете по случаю открытия фестиваля.
– Почему ты плакал? – спросила Фредерика, не поворачивая головы.
Ее номер, в отличие от моего, был номером для некурящих, и я подумал о спасительном свойстве сигарет: пока ты открываешь пачку, нащупываешь зажигалку, прикуриваешь и делаешь первую затяжку, у тебя остается пауза для ни к чему не обязывающего ответа. Сейчас этой спасительной паузы не было, и я сказал:
– Мне приснились мои товарищи…
– Живые? – спросила она, по-прежнему отвернувшись от меня.
– Мертвые.
– Ты потерял их на войне?
– Да.
– Когда это было?
Когда это было? И было ли? Иногда мне кажется, что нет. Слишком много суетного и второстепенного заслонило от меня ту жизнь. Тот отчаянный вдох перед будущим…
– Давно, – я сел на постели, откинул простыню. – А как ты узнала про войну?
– Я видела твой фильм. И нога… Ты оставил ее там?
– Оставил, – усмехнулся я. – Тяжело было нести, вот и оставил. Не тащить же с собой…
Никак не отреагировав на мою фразу, Фредерика повернулась на спину, упрямо глядя в тщательно выкрашенный потолок. За потолок было невозможно зацепиться взглядом – на нем не было даже люстры. Вместо люстры – вычурно-позолоченный светильник в углу. Но глядя именно в этот безликий потолок, она сказала:
– Надо… – она не находила слово. – Надо отпустить себя…
Я встал, пристегнул протез.
– Пойду, покурю, – сказал я Фредерике.
А она по-прежнему смотрела в потолок. Черт бы их всех побрал с пресловутой немецкой непроницаемостью!
– Гутен таг! – улыбнулись мне на ресепшн.
– Гутен таг! – отвечал я, машинально делая ударение на последнем слоге и неожиданно отмечая за собой странную угодливость перед служащими в отороченных галунами ливреях.
Я вышел из отеля, достал сигареты.
По причудливо высаженной платанами улице неторопливыми парами и семьями шли немцы. На утренний ланч, в костелы, на традиционный шопинг по магазинам. Проносились мимо жизнеутверждающие велосипедисты. Была суббота.
Еще четыре года назад я жил командировками. От войны до войны. Изматывающими, для многих безвозвратными…
Три года в мучительном поиске решения снимал картину. И вот она вышла, и я в Германии на фестивале, и все это кажется сном после раскатанных траками тел, подрывов, пепелищ Грозного, мучительного выражения боли на волевых мужских и вдруг ставших по-детски беспомощными лицах…
«Уносите меня. Я убит», – давясь кровавой рвотой, произнес Разумовский за несколько минут до конца.
С него сдирали бронежилет, рвали на груди камуфляж, исступленно нащупывали пальцами затихающий пульс, а он лежал и улыбался пропадающим краскам окружающего мира, теплому сентябрьскому солнцу своего последнего дня. Он успел постичь жизнь и потому безошибочно и спокойно принял смерть.
Принял за восьмилетнего мальчика в окровавленной, рваной майке, чудом вырвавшегося из занятой боевиками школы. Мальчику стреляли в спину, почти в упор, чуть ниже худеньких крылышек лопаток, беззащитно взмывающих и падающих на бегу, и Димыч успел закрыть его собой. Это было тогда, четыре года назад, в Беслане…
– Гутен таг, – поздоровался со мной вышедший на перекур немец и показал на пальцах, что ему нужна зажигалка. – Фойер.
«Фойер». Как глубоко в подсознании сидело это слово.
Немец был ненамного моложе меня, благоухал кельнской водой, привычным жестом открывал портсигар. Мне вдруг страшно захотелось дать ему по морде.
– Битте, – ответил я, протягивая зажигалку.
Когда я вернулся в номер, Фредерика была уже одета и, сидя у зеркала, обводила карандашом контур губ.
– Мне надо уезжать в Гамбург, – сказала она, не отрываясь от макияжа. – Я была приставлена к тебе на время… показа твоего фильма. Моя миссия закончена.
– Ты выполнила ее сполна, – картинно поклонился я.
В ее глазах показались далекие слезы.
– Зачем ты меня обижаешь?
Я растерялся. Подобный цинизм казался мне вполне уместным. Я давно усвоил некую снисходительно-ироничную форму отношений с женщинами, не оставляющими следа в моей жизни, не задумываясь о том, что это может значить для них.
– Извини, – сказал я, надевая и излишне долго поправляя на себе пиджак.
Она была странно красива – Фредерика. Какой-то неожиданной, потаенной красотой. Для постижения которой нужны были годы, может, жизнь. И только сейчас я начал постигать ее красоту…
Я взял ее руки, подержал на весу, поцеловал чуть влажные ребячьи ладошки и пошел к двери.
– У меня два дня выходных, – сказала она мне вслед. – Хочешь, я отвезу тебя в одно место? Там ты отдохнешь…
– А ты? – обернулся я.
– Я буду оставаться с тобой…
– Зачем тебе это?
– Когда мужчина плачет – ему нужна женщина. И еще… ты немножко мне нравишься…
Все было так механически-заученно ночью, и вдруг…
– В воскресенье вечером мы вернемся – и я уеду в Гамбург.
– До Гамбурга шесть часов езды. Что же, ты поедешь одна, ночью?
– Это уже моя проблема, – жестко ответила она.
Мы шли навстречу друг другу по лезвию обоюдоострого ножа. Я нарочно злил ее, и она постепенно теряла самообладание.
– Откуда ты так хорошо знаешь русский?
– Я специализируюсь на российском кино.
– У тебя занимательная профессия. Ты специализируешься на том, чего нет.
– Ты есть…
– Я не кино. Я – так… Мысли, перенесенные на пленку…
Это была правда. Я не вписывался в стилистику современного кино, предпочитая экстравагантности, перспективе построения кадра и динамике стремительно развивающегося сюжета свое видение жизни. Я считал, что повествую о вечном, а меня упрекали в традиционности, невыразительности и откровенной скуке.
Я пытался сделать картину о любви, полагая, что любовь – та особая, неподвластная и почти недостижимая субстанция, которая не нуждается во вспомогательной экспансивности и жестикуляции, а критика писала, что ему, то есть мне, удаются батальные сцены, вот пусть и снимает про войну, а любовь – удел избранных, что он может понимать в любви.
И как-то не сразу, но достаточно быстро я сдался, отведя себе место в ряду третьеразрядных и, как выяснилось, несовременных режиссеров.
Неужели Фредерика – одна из немногих – почувствовала во мне необходимость говорить о любви?
– Куда мы поедем?
– В Люксембург.
– Почему в Люксембург? – спросил я, с трудом представляя, где находится Люксембург и почему мы должны ехать именно туда.
– Потому что сейчас это решаю я, – сказала Фредерика и достала из сумочки ключи от машины.
Мы катили по автобану мимо разбитых на склонах холмов виноградников, ветряных электростанций, одинаково добротных и ухоженных немецких деревушек.
Фредерика вела машину сосредоточенно, не включая радио и не отвечая на звонки. И я подумал о том, как бы отреагировала Фредерика, если бы я невзначай положил ей руку на колено. Эта мысль была так соблазнительна и одновременно по-хулигански смешна, что я расхохотался.
– Что тебе смешно? – недовольно покосилась на меня Фредерика.
– Я подумал, что было бы, если бы я положил тебе руку на колено.
Фредерика поправила воротник плаща.
– У тебя порядок с медицинской страховкой? – спросила она.
– Вроде да.
– Тогда положи…
Она включила радио – спокойную и бездумную волну.
– Чтобы ты не отвлекался…
Сейчас она была отстраненной и безучастной, как ночью, и я снова подумал: со мной ли это?
Какой нечаянной волной приблизило нас друг к другу? Единственной, поднятой незначительной трещиной на дне мирового океана и хлынувшей на нас посреди штилевого, спокойного моря. Фредерика всего лишь переводила немногочисленные, адресованные мне больше из вежливости вопросы. Пыталась уложить в строгий формуляр слов мои путаные, часто невпопад, ответы.
Позже мы пили шампанское на приеме. Я – с отвращением и много. Она – не больше бокала. Когда мы вернулись в отель, я настойчиво потребовал ознакомить меня с содержанием ее мини-бара, поскольку свой уничтожил накануне. Потом она зашла в ванную. А я ушел. Вернее, остался…
Утром мы должны были проститься, чтобы больше не увидеться никогда. Неужели всему причиной мои ночные слезы?
Сейчас она была не со мной – Фредерика. То ли не решалась отвлечься от дороги, то ли раскаивалась в предпринятой поездке, в сущности, с совершенно чужим человеком. Если разобраться, что нас связывало, кроме некой кинематографической общности и странно возникшего в ней желания хотя бы на время оградить меня от зла окружающего мира.
Вероятно, это желание возникло ночью. Ведь кто-то же гладил рваный шрам на моей спине и шептал что-то по-немецки, понятное без слов…
Утром, одеваясь и приводя себя в порядок, она была готова поделиться со мной тем, что наполняло душевным равновесием ее саму, а сейчас в этой напряженной тишине, нарушаемой однообразным трением шин об асфальт, все могло разбиться вдребезги на крошечные и уже не соединяемые осколки.
Слишком обыденным и геометрически пропорциональным был пейзаж за окном. Слишком погранично были разделены наши кресла панелью коробки передач. И даже музыка радиоэфира сейчас не объединяла нас.
В низине под нами, у подножия гор, расположился миниатюрный немецкий город с возвышающимся в центре костелом и яркой вывеской «макдональдса», различимой даже с дороги. И я подумал, что мы: Герка, Форест, Димыч, Гарик, Пашка Истратов, – одним словом, все наши могли бы взорвать устоявшийся покой этого городка, закатить грандиозную, в нарушение вековых бюргерских традиций, пьянку с мордобоем, послать к чертовой матери официанта, менеджера, а вслед за ними и всех местных полицейских. Устроить, как говорил Шукшин, «этакий маленький бордельеро, небольшой забег в ширину».
И жители городка еще много лет с восхищением повторяли бы: «Да, были люди! Умели, черти, погулять с отрывом!»
Если б все были живы мы… И я. И они.
Вы очень подвели меня своей смертью, мужики. Каждый из вас забирал часть меня, а было меня, как оказалось, не так уж много…
И еще я вспомнил о явившейся во сне фразе. Фразе, спроецировавшей всю мою жизнь: соскрести боль со стенок сердечного желудочка.
Я представил себе разрезанное сердце, хирурга, соскабливающего скальпелем боль со стенок желудочка. Долго, кропотливо стесывающего окаменевшие кристаллы боли и сбрасывающего их в десятки продезинфицированных лотков. Чтобы не прижились…
Боль потерь, боль разочарований, непроходящая боль юношеских обид. Раскраивающая голову боль когда-то казавшихся такими безобидными контузий. Двух, трех, четырех – кто их считал… Эхом далеких, прошлых разрывов, словно гулом затейливой раковины, которую ты когда-то поднял со дна и с тех пор обречен слушать море до конца дней…
Мы обречены слушать море, до которого уже не добраться, и ощущать тягостную пустоту сердца, осиротевшего без когда-то живших в нем людей…
И как в конце операции, хирург намертво зашивает клапан, пропускающий в сердце все наши боли. Если бы он существовал – такой клапан…
На каком-то этапе хочется только этого. Жить без боли. Да, скучно, пошло, равнодушно, губительно для художника, – но без боли.
Бродить по зимнему саду, слушать шелест рождественских гирлянд на ветру, или в ноябре, где-нибудь в Вене, обернувшись пледом, пить кофе за уличным столиком недорогого ресторана, скармливая хлебные крошки озябшим воробьям. И чтобы был дом, и дети рядом, и покой в тебе самом незаметно сливался с вечным покоем, и ты всего лишь засыпал в гостиной на подушке-думке, когда-то расшитой мамиными руками…
– Фредерика, – позвал я.
Она машинально повернулась и, наткнувшись на мой беспомощный взгляд, резко сбросила газ и притормозила у ограждения.
– Фредерика, – сказал я и задохнулся в ее руках.
Теперь о Фредерике. Ей двадцать восемь лет. Она киновед. Год стажировалась в Петербурге. Живет в Гамбурге. Одна. Точнее, с миниатюрной собачкой породы чи-хуа-хуа, которая вполне может уместиться в креманке для шампанского. Что вполне устраивает Фредерику, поскольку креманок в ее доме две, а следовательно, она лишена страха встречать Рождество в одиночестве…
Собачку зовут Лорд. Во всяком случае, так записано в ее паспорте. Фредерика, ввиду явного собачьего несоответствия столь звучному титулу, называет ее Лордик.
– Лордик, Лордик, – зовет Фредерика, и чи-хуа-хуа послушно бежит на кухню, деликатно перебирая лапками по паркету.
Главное, все время смотреть под ноги, чтобы случайно не наступить на Лордика. Поэтому перемещение по квартире больше напоминает ежедневное преодоление минных полей. Но после того как Фредерика побывала замужем, подобными испытаниями ее не смутить…
Она обожает мандарины и фильм Томаса Жана «Достучаться до небес». Мандарины Фредерика ест со шкуркой, как яблоки, а про Жана говорит:
– Это все про меня. Я всегда стремлюсь к тому, что заведомо невозможно. А если возможно, то слишком поздно…
И слегка освобождает губы для своей непостижимой улыбки.
У нее удивительная улыбка. И губы. Странным образом раздваивающиеся сверху и образующие своеобразную впадинку, в которую можно складывать лишние слова, время от времени незаметно смахивая их платком.
И еще в ее глазах живут слезы. Когда-то Фредерика приютила их на время, забыла прикрыть дверь, и с тех пор слезы кочуют по разным людям, неизменно возвращаясь к Фредерике. Порой создается ощущение, что она вобрала в свои глаза все горе земли и никак не может выплакать…
Впрочем, ничего этого я о ней не знаю. Мне всего лишь хочется, чтобы это было так.
«Люксембург» – было написано на указателе.
Сразу за указателем простирался деловой центр: галерея офисно-торговых зданий, выполненных из стекла, бетона и мрачно-терракотового гранита. Величественно-помпезный и до такой степени безлюдный, что у меня непроизвольно мелькнула шальная мысль: а не в город ли мертвых завезла меня Фредерика? Может, здесь, по ее мнению, я и должен был отдохнуть?
«Наверное, мы все-таки слишком разно смотрим на мир», – глядя на темные провалы окон, успел подумать я, – и в это мгновение с моста открылся мне Люксембург…
Внизу под мостом лежал овраг, ложбина, не знаю – я никогда не видел подобных оврагов. Скорее, долина с примостившимися по склонам готическими домами, крытыми одинаково красной, местами почерневшей черепицей. И то там, то здесь среди этих трапециевидных крыш попадались ровные, но оттого не менее фантастические крыши-сады с оранжереями цветов, креслами-качалками и не убранными с плетеных столиков кофейными сервизами. И мне казалось, что я слышу, как дребезжит под дождем оставленная на блюдце чайная ложечка…
А на дне долины, там, где некогда, возможно, текла река, росли деревья. Они росли здесь и сто, и триста лет, постепенно накрывая кронами крыши домов и возносясь к арочным сводам мостов. И палитра этих омываемых дождем красок казалась нереальной: багряной, темно-зеленой, цвета жгучей охры…
Когда-то под сенью этих деревьев прогуливались дамы в легкомысленных, срываемых порывом ветра шляпках и поигрывающие тростью элегантные господа в цилиндрах, проносились галопом безумные амазонки, и какой-нибудь люксембургский мальчишка, догнав голенастую девчонку, произносил под сводом моста первые и самые заветные слова в своей жизни.
А сразу за мостом раскинулся город, по узким улочкам которого мы сейчас ехали, минуя рестораны, убранные новогодними гирляндами магазины и причудливо-насмешливые скульптурные композиции, вылепленные чьими-то ироничными и талантливыми руками, словно в противопоставление всякого рода статуям Свободы и прочим помпезным монументам, свидетельствующим о непоколебимости, мощи и глупости той или иной державы.
Город холмов, долин, садов без земли и парящих над городом мостов… Город, где я ощутил состояние абсолютного душевного равновесия. Сразу. С первых метров мощеных мостовых. Единственный раз за всю свою долгую, перенасыщенную событиями жизнь. И казалось, что можно отдать всё за три чердачных окна с цветами герани на подоконнике…
– Что это? – почти шепотом спросил я.
– Старый город.
Мы остановились перед стелой, у подножия которой бронзовый воин склонился над другим, умирающим воином. Всё, отличающее воинов, – мечи, шлемы, щиты, – покоилось у ног, обнаженные тела покрывала одна лишь туника, и от этой безоружности, незащищенности перед лицом окружающего мира композиция казалась особенно пронзительной и одинокой. И я кожей ощутил пронизывающий их бронзовые тела холод…
– Это памятник добровольцам Люксембурга, – объяснила Фредерика. – Здесь Первая мировая, Вторая, война в Корее… Хочешь, я сфотографирую тебя на фоне памятника?
– Не надо. Я сам по себе памятник.
Мы подошли к гранитному парапету, закрывающему город от долины. И я снова увидел ее. Теперь уже под другим ракурсом и под сводами другого моста.
– А вон там, – Фредерика показала рукой на флагшток, – судя по всему, поднимают государственный флаг. Наверное, по каким-то особым дням…
– Как в пионерлагере, – сказал я.
– Что? – переспросила она.
– Этого мне тебе не объяснить… – усмехнулся я. – Хорошо, что его сейчас нет.
– Кого?
– Флага. Только флага здесь не хватало…
Она взяла меня под руку, положила голову на мое плечо. – Ты бы хотел здесь жить?
– С тобой?
Она отпустила мою руку, отстранилась – я снова обидел ее. Произнесла машинально:
– У тебя, вероятно, жена, дети…
Я притянул ее к себе – мгновенно ставшую чужой. Откуда-то из глубин уже прибивало к берегу волну ее слез, и сейчас у меня еще была возможность остановить их.
– Я сказал тебе правду. Я хотел бы жить здесь. С тобой. И даже готов отказаться от номера для курящих. Ради тебя.
– Вот теперь я тебе верю, – улыбнулась она и все-таки заплакала.
А мне безумно захотелось поносить ее на ладонях.
Если б я мог, если б мог…
– Ты обязательно должен пробовать лягушек!
– Но я не хочу лягушек! У меня от одной мысли…
– Что за глупости! Быть в Люксембурге и не пробовать лягушек! Только потому, что у тебя, как это по-вашему… предубеждение…
– Предубеждение – это несформировавшееся убеждение. Почему бы с ним не посчитаться. Ну, в смысле, и оно достойно уважения…
За этой сценой уже минуты три с самым заинтересованным и в тоже время как бы безучастным лицом наблюдал официант. И я видел, как ему на самом примитивном уровне хотелось владеть русским, чтобы понимать причину наших бурных объяснений.
– Все, – отрезала Фредерика. – Люксембург – это почти Франция. А быть во Франции и не пробовать местную кухню… Во Франции все едят лягушек.
– Хорошо, что не гремучих змей, – сдался я.
– Месье, – Фредерика постучала по блокноту официанта и сделала заказ на безупречном французском языке.
– Ты и французский знаешь, – удивился я.
– В пределах ресторанного минимума.
– А я, как тот поц, не знаю ни черта, кроме местечкового наречия.
И хотя это было преувеличением, мне действительно стало стыдно.
Сколько сил и средств потратила мама на репетиторов по английскому. Ровно столько, сколько понадобилось мне, чтобы возненавидеть этот язык окончательно.
– Поц – это кто? – спросила Фредерика.
– Поц – это я.
Фредерика подняла стакан с виски.
– Тогда я выпью за тебя, милый мой поц. И, если не возражаешь, сегодня напьюсь. Я уже припарковала машину.
А лягушка по вкусу оказалась похожей на хорошо прожаренного цыпленка. Только и всего. Но, в отличие от цыпленка, ее было не жаль.
– Давай купим тебе ангела, – предложила Фредерика.
– По-твоему, у меня нет ангела?
– Может, и есть. Но он не внушает мне доверия…
Только что в ресторане мы выпили бутылку «Джемисона» на двоих. В равном долевом участии, как принято говорить в серьезных деловых кругах.
– Тогда и тебе. Чем твой ангел лучше моего?
– Хорошо. И мне.
Мы зашли в словно по волшебству выросший у нас на пути рождественский магазин и купили по ангелу. Мне и Фредерике.
Ангелов выбирала Фредерика.
– Ангел должен заглянуть тебе в душу, – говорила она, тщательно перебирая фигурки с распростертыми крыльями. – Представляю, что он там увидит…
Они были действительно божественными – ангелы, выбранные Фредерикой. На тонкой деревянной ножке, какого-то немыслимого голубого свечения.
– Это ангел для рождественской елки, – пояснила она. – В Москве есть елки?
– В Москве только и есть, что елки…
Мы вышли из магазина с ангелами в руках.
– Нам надо зайти в костел, – твердо сказала Фредерика.
– У нас сегодня что: божественный цикл?
– Если не считать того, что он закончится в баре. Ты помнишь, я обещала сегодня напиться…
Я остановился, развернул ее к себе и снова утонул в ее шальных, немного раскосых от виски глазах…
– По-моему, это уже произошло.
– Много ты понимаешь… Господи, ну как можно так надевать шарф. Ты не задумывался, почему мужчины до такой степени беспомощны. Даже перед шарфом. – Она терпеливо поправляла на мне шарф. – Мы зайдем в костел и поставим свечи всем, кого ты видел во сне…
– Их слишком много…
– Значит, поставим много.
Мы шли по улице, дома которой можно было задевать плечами.
Я представил, как где-нибудь на четвертом этаже курит у окна пожилая француженка. «Мадам Жюли, не угостите ли вы и меня сигаретой?» – спрашивает у нее соседка из дома напротив. «С удовольствием, мадам Софи», – отвечает мадам Жюли, открывая изящный портсигар и протягивая соседке сигарету. Просто так. Через улицу. Из окна в окно.
– Тебе не тяжело идти? – спросила Фредерика.
– Нет. Город маленький…
Я не люблю лубочное убранство православной церкви. Мне не достучаться до небес сквозь низкие давящие своды, не принять навязчивой позолоты окладов и уже не отразиться в рубиновых стеклах лампад.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































