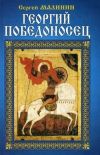Текст книги "Георгий Победоносец. Возвращение в будущее"
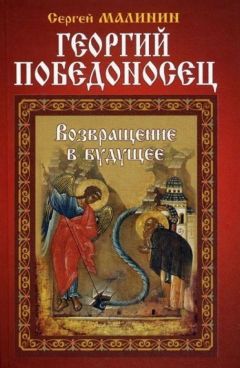
Автор книги: Сергей Малинин
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 25 страниц)
Глядя в дуло, казавшееся ему широким, как подворотня графского замка, пан Вацлав смутно осознавал, что в доме творится что-то неладное. Из коридора доносился подозрительный шум – там стучали каблуки, шаркали по поду подошвы, звенело бьющееся стекло, знакомо лязгал металл. Вот с грохотом, заставившим содрогнуться пол под ногами, обрушилось что-то тяжелое; послышался треск ломающегося дерева, бешено залязгали сабли, кто-то истошно заорал, и вдруг оглушительно грянул ружейный залп, после которого наступила тишина, нарушаемая лишь шорохом осыпающейся с исковерканных пулями стен штукатурки да чьими-то протяжными мученическими стонами. Потом в коридоре опять дружно загремели подкованные сапоги, и в распахнутые двери столовой повалили вооружённые до зубов люди в знакомых чёрных кунтушах. Один из них мимоходом воткнул саблю в скорчившегося на пороге, зажимающего простреленный живот Антона. Так и не состоявшийся лавочник судорожно дёрнулся всем телом, медленно распрямил поджатые к животу ноги, перебрал ими по полу и затих.
– Собаке собачья смерть, – прокомментировал это событие фальшивый доминиканец, опуская пистоль. – Приведите пленницу!
– Что со мной будет, Ян? – тихим голосом спросил Быковский.
Ян пожал плечами, сдирая с себя коричневую доминиканскую рясу. Кто-то подал ему сапоги; обмахнув портянкой остатки пыли с босых ступней, он уселся в кресло и принялся обуваться.
– Мне приказано доставить вас обоих в замок, и только, – сказал он, когда Быковский уже перестал ждать ответа, и притопнул ногой, проверяя, ладно ль сидит сапог. – На все остальное воля графа и, конечно, Господа Бога. Впрочем, Господь вряд ли станет вмешиваться в твою судьбу, ясновельможный. Подозреваю, что ты Ему уже порядком надоел, и Он будет рад избавиться от тебя, сбыв твою ничтожную душонку своему извечному противнику, коему ты давно уже служишь верой и правдой.
– Куда её? – спросил чей-то голос из коридора, где за несколько мгновений до этого вновь послышался треск ломаемого дерева и глухой лязг упавшего на пол, вывороченного с мясом замка.
– В экипаж, – бросив в ту сторону короткий взгляд, распорядился Ян.
– А что делать с мертвецами? – спросили из коридора.
– Ничего, – подумав, решил Ян. – Огонь всё приберёт. Проследите только, чтобы никто не сбежал. Воистину, – с циничной улыбкой добавил он, адресуясь к Быковскому, – злодеяния вора, именующего себя Струпом, неисчислимы. И благословен будет тот день, когда господин граф изловит этого негодяя и вздёрнет его на первом попавшемся суку!
Малое время спустя обитый облезлой рыжей кожей возок в сопровождении двух десятков чёрных всадников на гнедых лошадях, громыхая, выкатился из распахнутых ворот усадьбы. Позади остался жарко полыхающий дом, по двору которого были в беспорядке разбросаны тела дворовых мужиков и баб. Поднятая кавалькадой невесомая пыль ещё долго висела в неподвижном воздухе раннего утра, освещенная лучами поднявшегося над дальним лесом солнца.
…А ещё часа через два или около того, когда ласковое солнышко уже просушило холодную ночную росу, в кустах, что росли при дороге в небольшом лиственном перелеске, раздался громкий шорох. Ветви их заколыхались, раздвинулись, и на дорогу, отчаянно скребя ногтями бесчисленные комариные укусы и недоуменно озираясь по сторонам, выбрался пухлый, будто сложенный из свежевыпеченных хлебов, человек в сером от грязи исподнем. Лицо его опухло от выпитого накануне вина, и без того небольшие поросячьи глазки совершенно заплыли, а выбритая на темени тонзура, указывавшая на его принадлежность к духовному сословию, была усеяна красными точками комариных укусов и немилосердно исцарапана ногтями.
– Езус-Мария, святые угодники! – растерянно пробормотал так и не доехавший до усадьбы Закревских монах, вновь беспомощно озираясь по сторонам. – Как же это меня угораздило?
Вчерашний вечер помнился ему смутно, а ночь и вовсе терялась в тумане беспамятства. Имея богатейший опыт по этой части, смиренный служитель Господа не стал даже пытаться вспомнить, каким образом очутился в незнакомом лесу, да ещё и раздетым до исподнего. Он знал, что это бесполезно: сколько ни ломай несчастную, гудящую с похмелья голову, всё равно ничего не вспомнишь. А вспомнишь ненароком, так тебе же и хуже, ибо вспомнить можно такое, от чего после со стыда сгоришь.
Посему, не мудрствуя лукаво, святой отец развернулся в направлении, которое показалось ему наиболее предпочтительным, и, на всякий случай прикрывая ладошкой бесстыдно выпирающий из ветхих подштанников преизрядных размеров срам, шаткой трусцой побежал, куда глаза глядят. На бегу он ломал голову над двумя вопросами: во-первых, что соврать отцу-настоятелю, дабы наложенная оным епитимья не была чересчур суровой, а во-вторых, где бы поскорее и, по возможности, даром опохмелиться.
Глава 12
– Я сейчас его окликну, – решительно объявила пани Юлия Закревская и приподнялась из промоины на склоне невысокого лысого бугра, где они с братом до этого укрывались, напуганные приближающимся конским топотом и людскими голосами.
Станислав, утомленный спором, который, хоть и велся шёпотом, был весьма горяч и столь же бестолков, не говоря ни слова, резко дёрнул сестру за руку, повалил и, подмяв под себя, зажал ей ладонью рот. Пани Юлия немедля впилась в эту ладонь зубами; Станислав едва не закричал от боли, но только стиснул челюсти и ещё крепче прижал голову сестры к земле.
Юлия упрямо билась под ним, как пойманная в сети рыба, и, всем телом сильно прижимая её к земле, Станислав поневоле почувствовал и осознал, что борется уже не с ребенком, а с вполне взрослой, созревшей девицей. В детстве они часто кувыркались вдвоем на ковре в гостиной, в кучах опавшей листвы, в траве лужайки, в глубоких, искристых и рассыпчатых зимних сугробах, а то и просто на голой земле – словом, везде, где хватало места для того, чтобы, сцепившись в визжащий и хохочущий клубок, кататься и барахтаться, как Бог на душу положит.
Но те времена остались в далёком прошлом. Теперь же, почувствовав под собой сопротивление упругого, зрелого женского тела и по-новому, с точки зрения взрослого мужчины, его оценив и осмыслив, Станислав Закревский вдруг ощутил сильнейшую неловкость. Хватка его немедля ослабла, и Юлии удалось из-под него вывернуться.
К счастью, освещенные полной луной силуэты двух всадников, что минуту назад отчетливо виднелись на фоне усеянного звездами неба, уже исчезли, и об их недавнем присутствии напоминали только удаляющийся топот копыт да невесомое облачко поднятой ими пыли.
– Ты… ты… Вот тебе!
В ночной тишине звонкий треск пощечины прозвучал, как выстрел. Станислав машинально схватился за левую щеку, уверенный, что на ней чётко отпечатался красный след изящной, но, как оказалось, весьма крепкой ручки его сестры, а пани Юлия, сев на землю, залилась горькими слезами.
– За что? – вяло возмутился Станислав. Он знал, за что, или, по крайней мере, предполагал.
– Как ты мог? – сквозь слёзы и всхлипыванья проговорила Юлия. – Ведь ты же видел, кто это!
– Ничего особенного я не видел, – солгал Станислав, оправляя одежду и счищая с неё приставшие сухие травинки и прошлогодние листья росшей на бугре дикой яблони, коими было густо выстлано дно промоины. – Мало ли, кто на кого похож!
– Конечно! – с горькой насмешкой воскликнула Юлия. – Ведь в нашей округе полным-полно бородатых мужчин! И зовётся эта страна не Польшей, а Московией, и правит ею не наш добрый король, а царь и великий князь Фёдор Иоаннович… Не пытайся казаться глупее, чем ты есть, Станислав! Это был княжич Пётр, и никто иной.
– А ты и рада, – едва слышно пробормотал себе под нос Станислав.
– Что?! – с холодной царственной надменностью, которой неведомо где, когда и от кого успела набраться, переспросила пани Юлия.
– Я говорю – ну, откуда ему здесь взяться? – сказал Станислав. – Он уже, наверное, подъезжает к дому. А даже если это действительно был он, скажи мне, сделай милость, зачем он вернулся? Зачем поехал в усадьбу, от которой, как это прекрасно видно даже отсюда, остался один дым?
– Зачем, зачем… Грабить покойников! – с неожиданной грубостью выпалила Юлия. – Зачем ещё, по-твоему, благородный рыцарь может направляться к сгоревшему дому своего доброго знакомого?
– Благородный… – проворчал Станислав. – Ты видела, кто был с ним рядом? Это же самый настоящий лесной разбойник! Я понимаю, тебе, верно, очень хотелось бы думать, что этот твой княжич издалека сердцем почуял беду и поспешил на выручку… – Станислав хотел прибавить «возлюбленной», но вовремя поймал себя за язык. – Но реальная жизнь, увы, сильно отличается от девичьих грез, и тебе пора это усвоить. Как бы ни хотелось тебе видеть на челе княжича сияющий ореол благородства, мне его возвращение представляется весьма подозрительным.
– Знаешь, – неожиданно спокойным и даже рассудительным голосом сказала Юлия, – минуту назад я начала жалеть, что сгоряча влепила тебе пощечину. Теперь же я готова с удовольствием влепить ещё одну.
– На здоровье, – угрюмо проворчал Станислав, с ненужной тщательностью вычищая ладонью полы кунтуша. – От меня не убудет. Но знай, что это ничего не изменит. Перед смертью отца я поклялся ему именем нашей покойной матушки, что стану заботиться о тебе и всячески тебя оберегать. И можешь не сомневаться: я сдержу слово даже против твоей воли!
– Ах, как это благородно! – насмешливо воскликнула Юлия. – Как мужественно! Что ж, ты и далее намерен, чуть что, валить меня наземь и возлежать на мне, как на перине? И сколько ты собираешься так пролежать – день, неделю, год?
– Сколько понадобится, столько и пролежу, – огрызнулся Станислав.
– Какой дивный, действенный, а главное, необременительный способ оберегать жизнь и честь сестры! – восхитилась Юлия. – Вот он, образец истинного рыцарства! Так и представляю себе турнир, где рыцари, вместо того чтобы ломать копья и увечить друг друга во славу прекрасных дам, одновременно кидаются на оных дам, валят их наземь и сами прыгают сверху – как есть, в железных доспехах, а иные и верхом…
Станислава, как обычно, подвело излишне богатое воображение: он так живо представил себе нарисованную сестрой немыслимую картину – множество рыцарей, кои, громыхая латами и вздымая облака пыли, возятся по всей турнирной арене, пытаясь удержать на земле визжащих и брыкающихся дам, – что лишь с огромным трудом сумел сдержать совершенно неуместный при сложившихся обстоятельствах смешок.
Несмотря на раздражение, вызванное внезапно проявившимся упрямством сестры, Станислав был доволен: Юлия, пусть горько и зло, но всё-таки шутила, а это означало, что к ней понемногу возвращается жизнь. За те сутки, что миновали с момента вторжения в дом банды Быковского и гибели отца, Юлия не проронила ни словечка. Она была молчаливой, вялой и безучастной, и лишь появление на верхушке бугра невесть откуда взявшегося княжича Басманова, казалось, вдохнуло в неё силы и волю к жизни. Да, она и впрямь ожила, увидев вчерашнего пленника отца, а это означало, что всё начинается сызнова, что ничего не кончилось и что бородатый русский медведь по-прежнему остаётся для Юлии единственным светом в окошке.
При таких условиях возложенная на Станислава покойным отцом роль защитника девичьей чести представлялась уже не пустой хотя и почётной формальностью, но делом достаточно сложным и щекотливым даже для более опытного и зрелого мужа, чем Станислав Закревский. Столкнувшись с этой сложной проблемой, Станислав ощутил весьма неприятную неуверенность в собственной способности разрешить её разумно и, главное, деликатно, без ущерба для чести рода и чувств сестры.
– Что б ты обо мне ни думала, я – единственный мужчина в семье, на коем лежит ответственность за твоё благополучие, – стараясь говорить с твёрдой значительностью умудренного жизненным опытом мужа, молвил Станислав.
Голодное урчание в животе, сопровождавшее его речь, немало вредило производимому впечатлению, но с этим Станислав ничего не мог поделать, а посему решил просто не обращать на досадную помеху внимания.
– Ты – просто глупый, упрямый мальчишка, напяливший отцовские сапоги и оттого вообразивший себя взрослым, – с прямотой, больно уязвившей самолюбие Станислава, возразила Юлия.
– Может быть, – обиженно поджимая губы после каждого слова и в душе радуясь тому, что в темноте Юлия не видит выражения его лица, сказал он. – Но твой княжич…
– Он НЕ МОЙ княжич! – с нежданно прорвавшейся горячностью выкрикнула Юлия. – И очень жалко, что не мой! Теперь ты доволен? Да, я только о нём и думаю и с радостью пошла, нет, побежала бы с ним под венец, если б он только догадался меня позвать! И что ты ныне станешь с этим делать, доблестный защитник моей девичьей чести?
– М-да, – только и сумел промямлить огорошенный откровенностью сестры Станислав.
Слова Юлии, конечно, не содержали в себе ничего нового для её брата. Однако он был до глубины души потрясён её прямотой, которую, происходи дело не между братом и сестрой, а в более широком кругу, можно было бы смело назвать неприличной. По всему выходило, что сестру свою, в коей души не чаял, он знал из рук вон плохо. Красивая, скромная, добрая, мягкая, ласковая и приветливая – все это были грани только одной, постоянно находящейся на виду, стороны её натуры. Все эти эпитеты подошли бы любой благонравной девице благородного происхождения, с кроткой улыбкой взирающей на мир из окна своей надёжно ограждённой от греховных мирских соблазнов светёлки. От такой девицы невольно ждёшь полной покорности судьбе и полной же неспособности оной управлять; она представляется неким предметом, самою природой созданным для украшения жизни и, в перспективе, продления рода. И никто не удивлён, когда в острой ситуации оная девица ведёт себя вот именно как неодушевленный предмет, равный ей по объему и весу, то бишь висит на шее мужчины мёртвым грузом, стесняя свободу действий и передвижений, да ещё, в отличие от мёртвой вещи, требует крова, пищи и заботы, а ежели что не по ней, заливается горючими слезами и голосит на всю округу.
Станислав, разумеется, догадывался, что его сестра не такова. Но он даже и не подозревал, до какой степени она не такова. Внезапно прорвавшиеся наружу прямота, смелость, а также твёрдость и независимость суждений, пожалуй, сделали бы честь любому мужчине. Когда бы столь прямо и откровенно со Станиславом заговорил сверстник одного с ним пола, он бы, верно, восхитился его смелыми речами и сердечной, дружеской прямотой. Так неужто всё дело в том, что Юлия рождена женщиной? Только и всего-то? Что же, выходит, женщина – не человек? Юлия, его любимая сестра – не человек? Ловко!
Станиславу всегда претило свойственное мужчинам наподобие Вацлава Быковского отношение к женщине, как к предмету, созданному исключительно для удовлетворения плотских желаний. Применительно к Юлии с её ясным умом и чистой душой оно и вовсе представлялось оскорбительным. Тем постыднее оказалось обнаружить ростки этого скотского отношения в себе. А разве нет? Признание сестры, кое являлось знаком полного к нему доверия, вместо того чтобы обрадовать, едва ли не оскорбило его. Хотя, если хорошенько подумать, радоваться тут было нечему, ибо брак между пленным московитом и польской шляхтянкой представлялся невозможным. Ну, и загрустил бы тогда, а оскорбляться-то с чего?
– Прости, – с покаянным вздохом начал он, но Юлия, начав говорить, явно не собиралась останавливаться.
– Просить прощения будешь после, – перебила она брата, – и не у меня. Я тебя прощаю, как прощала всегда, потому что я – твоя сестра. А вот простит ли княжич Пётр? Знаешь, отчего ты так противишься нашей встрече? Оттого, что тебе стыдно! Княжич виноват пред тобою лишь тем, что ты его незаслуженно обидел, поверив злому навету. Хорош рыцарь! Усомниться в родной сестре, напасть с саблей на друга, но зато безоговорочно поверить грязной болтовне клеветника и убийцы!
Станислав лишь крякнул в ответ. Похоже, Юлия была тверда в своем намерении стереть его в порошок, и намерение сие было близко к осуществлению. Сестра, хоть и с излишней горячностью, но почти слово в слово повторяла то, что говорил ему по поводу ссоры с княжичем Басмановым отец. Подслушать их разговор она не могла, ибо тот происходил во время конной прогулки в чистом поле, где, опричь них, не было ни единой живой души, а стало быть, она не только говорила, но и думала, как отец, правоту которого в этом вопросе Станислав признал давно и безоговорочно. Спорить сейчас с Юлией означало бы спорить с покойным паном Анджеем, а заодно и со своей совестью, посему Станислав лишь виновато развёл руками.
– Отец как-то сказал мне, – заговорил он, глядя поверх плеча Юлии на полную луну, – что упорствовать в своих заблуждениях может только законченный глупец. Человек, стоящий у края пропасти и упрямо твердящий, что перед ним лежит ровная, гладкая дорога, рано или поздно оказывается в весьма неприятном положении, говорил он мне. Окружающие, устав спорить с глупцом, который упрямо отрицает очевидное, однажды скажут ему: «Коли видишь дорогу, ступай по ней и оставь нас в покое». И тогда ему придётся либо выставить себя на всеобщее посмешище, из страха смерти отказавшись от произнесённых минуту назад слов, либо упасть в пропасть и разбиться. И хуже всего, что и тогда его упорством никто не восхитится, а все в один голос назовут его глупцом. Я не хочу оказаться в таком положении, Юлия, но как мне быть? Что сказать княжичу, как посмотреть ему в глаза?
– Ах ты, глупенький! – Подсев к Станиславу, Юлия обняла его за плечи и ласково взъерошила ладонью волосы на голове. – Послушай меня, братец. Прошлой ночью ты вел себя как настоящий мужчина, коим мог бы гордиться отец и горжусь я, твоя сестра. Так будь же мужчиной и теперь!
– Легко сказать, – поневоле поддаваясь исходившему от прикосновений сестры ощущению материнской ласки, коей он почти не знал и совсем не помнил, голосом растерянного дитяти пробормотал Станислав. – Это ж не на саблях рубиться…
– Рубиться на саблях, конечно, проще, – согласилась Юлия. – Но и в том, что тебе предстоит, поверь, нет ничего сложного и, тем паче, страшного. Хочешь, я угадаю, что первое сделает княжич, увидев тебя?
– Плюнет мне в глаз, – угрюмо предположил Станислав.
– Вовсе нет, – возразила Юлия. – Едва увидев, княжич подбежит к тебе и обнимет, как брата. Да ещё и расцелует, как это принято у русских.
– Ну-ну, – усомнился Станислав.
– Спорим? – резко отодвигаясь от него, с азартом предложила Юлия. – На три щелчка по лбу!
– Что я, дитя? – заартачился Станислав.
– Ага, испугался?!
Крыть было нечем, и молодой пан Закревский опять подивился тому, как его сестра, выросшая в сугубо мужском обществе и почти не видевшаяся с дамами своего сословия, успела обучиться всем тем уловкам, при помощи которых женщины легко загоняют мужчин в тщательно замаскированные ловушки. Видя себя на дне волчьей ямы, из которой никак не мог самостоятельно выбраться, Станислав Закревский капитулировал.
– Ничего не испугался, – проворчал он безо всякого энтузиазма. – Ну, спорим…
– Готовь лоб, братец, – весело сказала Юлия и живо вскочила. – Бр-р-р, а ночь-то прохладная!
Станислав снял кунтуш и набросил ей на плечи. Юлия пыталась воспротивиться этому, говоря, что он сам замёрзнет в одной рубашке, но он с мягкой настойчивостью повторил попытку, и она перестала сопротивляться. Тогда Станислав Закревский обнял сестру за плечи левой рукой и, держа в правой обнажённую саблю, повел её через росистую траву туда, где под луной неясно белела дорога, ведущая в разоренное, спаленное дотла поместье.
* * *
– Ах, пропади оно все пропадом! – хватив шапкой оземь, вскричал княжич Пётр и от полноты чувств крепко ударил себя кулаком по лбу. – Что ж это деется на белом свете?! Жили – не тужили, зла никому не чинили, а не успел я отвернуться, как – на тебе! – был дом, а стало пепелище!
Они стояли перед огромной грудой головешек, в которую превратился дом Закревских. Жара почти не осталось, лишь поднимавшийся от пепелища белый дым разъедал глаза и мешал дышать, студенистым облаком расплываясь в недвижимом ночном воздухе. На посыпанной белым речным песком подъездной дорожке кое-где виднелись тела полураздетых мужчин и женщин, числом чуть менее десятка. Все они были безоружны, и всех их, как с горечью убедился княжич, он знал в лицо и по именам. То были дворовые пана Анджея, и знатная кухарка, по поводу которой они так весело шутили с Лешим ещё днем, тоже была тут. Они шутили, не ведая, что предмет их шуток лежит бездыханный посреди двора с рассеченным чьей-то саблей лицом и вспоротым животом, и что кухня, на коей готовились знаменитые на всю округу яства и разносолы, уже сгорела дотла, обратившись в груду смрадных головешек.
– Сие нам знакомо, – мрачно промолвил Леший, обведя долгим взглядом картину бедствия. – Огонь лиходею первейший помощник. Сунул факел под стреху, и следы заметать не надобно…
– Кто ж сие сотворил? – озираясь, будто чаял узреть злодея под ближайшим кустом, и тиская рукоять сабли, вопросил княжич.
– Ежели случится сыск, так непременно сие злодейство навесят на Струпа, – сказал Леший. – Куда как удобно! Заведи у себя под боком разбойничью ватагу, а после твори, чего душенька пожелает, – всё едино на них, воров лесных, подумают.
– А то не они? – с сомнением переспросил княжич.
– Сколь раз тебе говорить: думай головой! – прикрикнул Леший. – Где сия усадьба, а где Струп с ватагой? Покойники эти здесь не меньше суток лежат, уж ты мне поверь, да и пепелище, считай, остыло… Мы когда Струпа видели? А? То-то! Нешто он, аки птица, на крыльях сюда поперёд нас долетел?
Княжич задумчиво покивал. Ему вспомнилась неприятная оказия, предшествовавшая освобождению из плена и ставшая отчасти его причиной. Кто-то распускал о Юлии Закревской гнусные слухи, и пан Анджей, помнится, имел твёрдое намерение поквитаться с клеветником, коего, кажется, прекрасно знал. Так что враги у Закревских были. Но кто мог подумать, что всё так обернётся? Сплетни – это одно, ими от скуки тешатся и на Руси, и в Речи Посполитой, и в просвещённой Европе, и вообще везде, где живут люди числом более двух. А вот убийство и поджог – совсем иное дело. Это тебе не сплетня, пускай даже самая грязная и лживая…
– Да, – молвил он, неожиданно для себя самого перескочив мыслями на иное, более насущное. – Не менее суток прошло. Не видать чего-то, чтоб пожар кто-то тушил, да и покойники, вишь, где пали, там и лежат…
– А ведь верно, – с некоторым удивлением в голосе согласился Леший. – Молятся они тут, конечно, не по-нашему и вообще не разбери-поймёшь как – одно слово, скверна латинская. Но то попы воду мутят, никак Божью благодать меж собой поделить не могут, кровососы. Народ же, что у нас, что у них, чинный, богобоязненный. А мертвецов, гляди, за целый день не прибрали, хоть до деревни рукой подать. Дивно сие. Как мыслишь, княжич?
– Мыслю, страшатся чего-то, – сказал княжич. – Или кого-то. То ли заказал им кто к сему месту приближаться, то ли самим отчего-то боязно, однако правда твоя: не по-христиански сие.
– То-то и оно, что не по-христиански, – кивнул косматой головой Леший. – Ну что, княжич, потрудимся во славу Господа?
– Это чего? – прикинулся непонимающим княжич. – Хоронить, что ли? Ночью?
– Днём опасно, – сказал Леший. – Да и смердеть к тому времени начнёт так, что хоть святых выноси. А сейчас прохладно, до утра далеко… Днем отоспимся. А, княжич? Ты ж православный!
– А ты – вылитый божедом, – не удержавшись, буркнул Пётр Андреевич, коему вовсе не улыбалось посередь тёмной ночи вожжаться с мертвецами. – Где покойника встретишь, там и зароешь… Или как кот. Тот, стало быть, ку-чу-то навалит и ну лапой скрести – закапывать…
– Ты людей-то, пущай себе и мёртвых, с кошачьим дерьмом не равняй, – строго одёрнул его Леший. – Глянь-ка лучше на себя. Мотаешься ты по белу свету, как перекатиполе, и не ведаешь, где тебя костлявая сыщет, где головушку буйную сложишь. И охота ль тебе, княжич, падалью при дороге валяться?
– Ну, будет, – проворчал Басманов, споривший с Лешим из одного только желания хоть немного оттянуть неизбежное. – Слышали мы уже сии песнопения. Доколе будешь меня смертью стращать? Когда убьют да как похоронят – сие всё едино не от меня и, уж тем паче, не от тебя, борода, а от одного токмо Господа зависит. Ты мне лучше скажи, чем копать-то станем? Нешто саблями? Иль этими горшками?
Он постучал костяшками пальцев по притороченному к седлу немецкому шлему, и тот отозвался глухим похоронным звоном. Шлем был глубокий, с далеко выступающими полями, будто нарочно созданный для того, чтобы копать им рыхлую землю.
– Горшки справные, – согласился Леший. – Да, мнится, тут и поспособней что-либо сыщется. Какое ж хозяйство без лопаты?
С этими словами он беззвучно растворился в темноте. Спустя малое время в той стороне, где некогда был задний двор поместья, что-то негромко стукнуло, раздался протяжный скрип открываемой двери, металлический лязг, и вскоре Леший все так же беззвучно возник перед княжичем, держа под мышкой два железных заступа и потирая свободной рукой лоб.
– На грабли наступил, – сообщил он. – Темнотища, хоть глаз коли! У них там, понимаешь, сарай уцелел. На отшибе стоял, да ещё и ветер, видать, в другую сторону дул, вот его и не достало…
Княжич кивнул, живо представив себе сарай, о котором говорил его спутник. Подле того сарая была ровная земляная площадка, где он целый год наущал юного Станислава Закревского искусству сабельного боя, которое тот во время их последней встречи пытался употребить против своего учителя. «А плох тот учитель, коего ученик превзойти не сумел!» – подумал княжич, принимая из рук Лешего заступ. Ещё ему подумалось, что, кабы он учил Станислава лучше, тот, верно, зарубил бы его насмерть, зато сам ныне был бы жив и здоров. Отбился бы от воров, спас отца и сестру, а заодно, может статься, и дворню…
Понимая, что в одиночку от тех воров, верней всего, не отбился б и самый знаменитый мастер клинка, княжич, тем не менее, продолжал искать в том, что стряслось с Закревскими, свою вину. И, увы, вина сия нашлась без особого труда.
Кабы он был чуточку умнее и держался подальше от дочери пана Анджея (видит Бог, он и так старался как можно реже попадаться ей на глаза, да, видать, плохо старался), их отношения не послужили бы поводом для сплетни. Кабы не та сплетня, Станислав не налетел бы на него с саблей; а кабы не та ссора, пан Анджей, верно, повременил бы отпускать пленника без выкупа, и тогда к приходу лиходеев в доме было б одной доброй саблей больше… И-эх!..
Княжич ожесточённо, наперегонки с Лешим, рыл землю, отбрасывая её на край ямы, что становилась шире и глубже с каждым взмахом лопаты. Могилу решили рыть посреди круглой клумбы, что некогда размещалась перед украшенным пузатыми колоннами крыльцом, ибо там земля была помягче. Скребя лопатой по дну ямы, Леший бубнил что-то насчёт пепелища, в коем неминуемо придётся порыться, дабы отыскать кости тех, кому не посчастливилось выбраться из горящего дома. Княжич в ответ только скрипел зубами, ибо речь шла о тех, кого он знал и любил – пане Анджее и его детях, Станиславе и Юлии.
Мысль о том, что злодеи не пощадили даже Юлию Закревскую, которая ни перед кем и ни в чем не была виновата, и что её обгорелые косточки, верней всего, покоятся под грудой остывающих углей всего в нескольких шагах отсюда, привела княжича в неистовство. Он яростно вонзал лопату в твёрдую, неподатливую землю, радуясь её тупому сопротивлению, которое надо было преодолевать, давая выход нерастраченной ярости, что так и рвалась наружу, грозя разорвать его на куски. От этого яростного натиска, от этой безнадёжной схватки с земной твердью, которую никому не дано прорыть насквозь, дабы выйти наружу с другой стороны, ему стало легче – ненамного, но всё-таки легче, а не тяжелее. Лежавший на душе тяжкий камень начал потихонечку растворяться в горячем трудовом поте, и, почувствовав это, княжич удвоил усилия, так что земля веером полетела с его лопаты, казалось, до самого неба. Он так увлёкся, что, когда Леший вдруг положил ему на плечо широкую и твёрдую ладонь, княжич лишь досадливо отмахнулся, продолжив работу.
Однако Леший, как выяснилось, был не из тех, от кого легко отмахнуться, просто дёрнув плечом. За легким, осторожным прикосновением последовал внезапный и довольно мощный толчок, от коего княжич, не устояв на ногах, кубарем отлетел в дальний угол квадратной ямы, глубина которой уже без малого достигла его роста.
– Ошалел?! – возмутился он оттуда.
– Да тихо ты! – свирепо шикнул на него Леший. – Идёт кто-то. А ну…
Не успел княжич разобраться, что к чему, как Леший безо всякого почтения поставил ногу в грязном кожаном лапте ему на плечо и, коротко, сильно толкнувшись, мигом очутился наверху. Пётр Андреевич только собирался потереть плечо, а спутник уже протягивал ему сверху почти невидимую в темноте руку.
– Давай, хватайся. Да пошевеливайся, что ты, как сонная муха!
Княжич крепко ухватился за протянутую ладонь. Ладонь сжалась, сдавив его руку, как железные тиски; за сим последовал рывок, такой мощный, что даже княжич, коего и самого Господь не обделил молодецкой силой, был удивлён и, признаться, слегка напуган. Он вылетел из могилы, как пробка из бутылки, и, изумлённо моргая, приземлился на кучу рыхлой земли.
Лешего уже и след простыл – он, по своему обыкновению, беззвучно растворился в темноте, и оставалось только гадать, где он затаился и что намерен предпринять. Сидя на краю могилы, княжич прислушался к ночным звукам, но ничего не услышал, опричь отдалённых криков козодоя, а также потрескивания и шороха осыпающихся углей, доносившихся со стороны медленно остывающего пепелища.
Опыт, однако, научил его доверять Лешему, острота слуха, а заодно и зрения которого порою наводили на мысли о колдовстве самого мрачного толка. Э, да что там говорить, Леший – он и есть Леший…
Рассудив так, княжич Пётр на всякий случай осторожно вытянул из ножен саблю, а после прилёг за рыхлым земляным бугорком, удобно утвердив на мягкой земле расставленные локти и выставив наружу голову, благо свежевырытую могилу скрывала косая тень парковых деревьев.
Какое-то время он лежал так, ничего особенного не видя и не слыша. Мысли его по-прежнему вились вокруг пепелища и тех, кто был под ним погребён, и мечтал он сейчас только об одном – чтобы сию минуту из темноты явился злодей, который всё это сотворил, дабы клокотавшая в широкой груди княжича Басманова ярость нашла, наконец, применение более достойное, нежели кромсанье и швырянье в стороны ни в чём не повинной земли. И неважно, кто он таков, этот вор, и сколько при нём приспешников – княжич Пётр ныне не побоялся бы вступить в бой с целой ордою, и притом был так зол, что орде, верно, не поздоровилось бы.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.