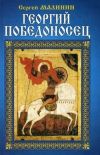Текст книги "Георгий Победоносец. Возвращение в будущее"
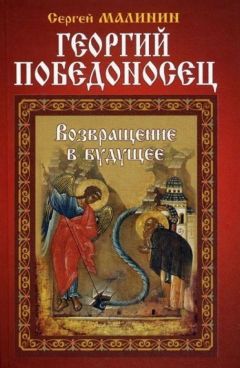
Автор книги: Сергей Малинин
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 25 (всего у книги 25 страниц)
Эпилог
Тысяцкий ертоульного полка порубежной стражи боярский сын Василий Нагой сидел, широко расставив ноги, растопырив локти и упираясь ладонями в колени, на лавке в свежесрубленной, поставленной специально для него просторной избе, коей недоставало совсем чуть-чуть, дабы получить право именоваться теремом. На недавно сколоченном, покрытом расшитой петухами скатертью тёсовом столе перед ним стояла початая сулея зелена вина, к коей Нагому не терпелось вернуться. Чуть подалее сулеи, а именно у порога, торчал столбом не так давно воротившийся из польского плена сотник поименованного полка Пётр Андреев сын Басманов, по неизвестной Нагому причине обыкновенно именуемый товарищами по оружию княжичем. Сотник, как и полагается мелкой сошке пред начальным человеком, мял в руках шапку, переступал с ноги на ногу и всеми иными приличествующими случаю способами проявлял должное почтение.
– Нешто звал? – в третий раз смущённо кашлянув в кулак, спросил сотник Басманов.
– А не то, – медленно, с ленцой, ответствовал Нагой.
Вид у него был полусонный, но в голове притом с бешеной скоростью мелькало всё, что он знал о сотнике Басманове. Вообще-то, тысяцкий Нагой имел сообщить сотнику весьма приятную новость, вот только сообщать её у боярского сына не было ни малейшей охоты.
Причиною тому служил не столько излишне, на взгляд Нагого, прямой и независимый нрав «княжича», сколько эта не до конца проясненная история с его пленом. Нет, ну, судите сами: человек, единственный из всего подчистую вырезанного поляками ертоульного разъезда, остаётся в живых, более года болтается неведомо где, а после возвращается и рассказывает сказки, будто бы пленивший его поляк, оказавшись человеком зело благонравным, вошёл в его положение и отпустил из плена безо всякого выкупа. Притом, заметьте, обрит сей доблестный воин на богомерзкий закордонный манер – усы, слышь-ка, на месте, а бороды словно и не бывало. Тьфу, срамотища!
Да ещё к тому в придачу – жена. Мало того, что чужеземка; мало того, что иной, нечестивой католической веры, так ещё, к тому, и полячка, вражья кровь! А он в ней души не чает, носится, ровно с писаной торбой. Нет, конечно, баба справная, ладная да пригожая – словом, такая, что Василий Иванов сын Нагой, случись подходящая оказия, с охотою прогулялся б с нею до сеновала. Так ведь то-то, что до сеновала, и никак не далее! А этот – под венец. То ещё разобраться надобно, кто там из них чью веру-то принял…
И вот, при всех тех условиях, сотнику Басманову вдруг, ни с того, ни с сего, вместо сыска, дыбы и бессрочной каторги вдруг выходит великая государева милость. За большие, стало быть, заслуги. И кому ж это там, в плену, он ухитрился этак здорово услужить? Когда ж успел-то, как извернулся, червь прескользкий?
Однако ж податься было некуда. Нагой развернул перед собою час назад полученную из самой Москвы грамоту, придавил её, чтоб не свернулась обратно, сулеёй и снисходительно буркнул:
– Да ты взойди, взойди, не робей. Нешто я должон тебе через весь покой орать?
Последним вопросом тысяцкий лишний раз ненавязчиво дал понять, что ему, начальному человеку, боярскому сыну, и покои полагаются соответствующие, приличествующие положению – такие, что из конца в конец не враз и докричишься.
Сотник послушно продвинулся аршина на три вперёд и опять стал, тиская большими кулаками шапку и смущённо переступая с ноги на ногу. Все эти ужимки, верно, доставили б тысяцкому удовольствие, коего он так жаждал, когда б не легкая насмешка, чудившаяся в то и дело бросаемых сотником исподлобья коротких взглядах. Да, сотник был непрост, ох, как непрост!
– Радуйся, раб Божий, – с неохотою молвил Нагой, опять беря в руку доставленную прискакавшим из Москвы гонцом грамоту. – Получил я ныне весточку от самого, слышь-ка, боярина Годунова. Пишет он, что государь наш Фёдор Иоаннович будто бы вознамерился пожаловать тебя, Петра Андреева сына Басманова, столбовым дворянином. За великие, слышь-ка, и неоценимые заслуги перед отечеством и престолом… Ты чего утворил-то, грешная душа?
Сотник в ответ лишь недоуменно развёл руками, давая понять, что сам пребывает в полном неведении.
– Может, ошибка какая? – молвил он.
Нагой грозно подался вперёд и строго пристукнул кулаком по столу, в душе радуясь такому простому и естественному объяснению, кое по досадной случайности не пришло в голову ему самому.
– Думай, что болтаешь! – с угрозой рыкнул он. – Это кто ошибся-то – царь, что ли?!
– Почто царь? – опять пожал широкими плечами сотник. – Поди-ка, дьяк приказной, грамоту составляя, напутал, как то у них, дьяков, испокон веку заведено.
– Ну, ошибка иль нет, про то не нам с тобой судить, – проворчал Нагой, в душе отдавая должное благоразумию, а главное, скромности сотника. Иной на его месте немедля б так раздулся, что, того и гляди, лопнет, а этому – как с гуся вода. Ошибка, говорит… Ну, дай-то Бог, чтоб ошибка! – Может, и ошибка, а только грамота – вот она, и подписана сия грамота самим боярином Годуновым, собственной его боярскою рукою. А с ним не токмо тебе, сотник, но даже и мне спорить невмочно… Ну, так что скажешь? Желаешь быть столбовым дворянином иль, может, не желаешь?
Вопрос свой тысяцкий задал единственно для проформы, ибо ответ на него был известен заранее – разумеется, в том случае, если стоявший перед ним человек пребывал в своем уме. Он был так уверен в этом ответе, что, когда сотник заговорил, едва не пал с лавки от превеликого изумления.
– Я и не ведаю, – пребывая в явном сомнении, неуверенно протянул сотник. – Ну, на что мне то дворянство? Мне и без него как будто не худо…
– Чего?! – опешил Нагой. – Ты что, сотник, белены объелся? Ты что несёшь? Ты от чего, еловая твоя башка, отказываешься? Царская милость тебе, псу, не по нутру?!
– А ну-ка, молодцы, об чём у вас тут речь? – молвил, нежданно входя в горницу, какой-то незнакомый сотнику, но зато, похоже, хорошо известный тысяцкому, немолодой уже, когда-то, видимо, отличавшийся богатырской статью, а ныне заметно погрузневший человек в богатой парчовой шубе.
Нагой мухой вылетел из-за стола и подобострастно засуетился вкруг гостя. Княжич Пётр, покосившись на лебезящее начальство, отступил на шаг и неуверенно поклонился пришельцу, который, судя по его шубе, бобровой шапке и тяжелому посоху, и впрямь являл собою важную персону.
– Так об чём речь? – повторил свой вопрос важный гость.
– Да пустяк, княже, – скача вкруг него мелким бесом, отвечал Нагой. – Сей дурень, – рука его указала на сотника, – от царской милости отказываться вздумал!
– Ай-яй-яй, – укоризненно покачал головой приезжий князь. – Да он, верно, и впрямь дурень! А какова государева милость?
– Думает государь пожаловать сего увальня неразумного столбовым дворянином, – сообщил Нагой, который, хоть и был куда выше саном, чем столбовой дворянин, не мог спокойно снести нежданно свалившейся на соседа удачи. – А он, дурак, упирается: на что, молвит, мне то дворянство?
– И верно, дурак, – опять согласился с тысяцким князь, коего сотник Басманов видел впервые в жизни. – И как же сего дурака величают?
– Сотник ертоульного полку Пётр Андреев сын Ба… – Тысяцкий отчего-то запнулся, бросив удивлённый и как будто даже испуганный взгляд на князя, а после, видимо, что-то сообразив (мало ль на свете холопов, что пишутся под именем своего господина?), оправился и твёрдо, с надлежащей бойкостью закончил: – Басманов.
– А! – воскликнул приезжий вельможа с видом человека, получившего, наконец, все необходимые разъяснения. – Так я тебе, тысяцкий, вот что скажу: молодец сей суть не глупец, а, напротив, муж, в надлежащей мере здравым смыслом наделённый. Ибо негоже урождённому князю, что род свой от самых Рюриковичей числит, в столбовые дворяне рядиться! Дай-ка, добрый молодец, я на тебя гляну!
– Гляди, коль охота, – молвил слегка огорошенный сотник, к коему были обращены последние слова заезжего вельможи. – Только что-то я ни бельмеса не пойму. Прости ты мне моё неразумие, княже, а только молви: ты кто таков будешь?
Тысяцкий Нагой испуганно пискнул, но не рискнул вмешаться в разговор, который, как он уже начал понимать, его никоим образом не касался и в котором он явно был третьим лишним.
То, что с каждым мгновением делалось все яснее для боярского сына Василия Нагого, не нравилось ему даже больше, чем известие о том, что государь вознамерился одарить своею милостью явного польского лазутчика. Но поделать он, увы, уже ничего не мог, и ему оставалось лишь горько сожалеть о том, что он не отважился вовремя казнить своею властью вернувшегося из плена сотника.
– Ай да молодец! – с непонятной сотнику радостью вскричал князь. – Ни чёрта, ни дьявола, ни самого князя Басманова не страшится! Как же это я, старый дурень, до сей поры мимо-то глядел? А дай-ка я тебя расцелую!
Засим, крепко облапив совершенно утратившего связь с реальностью сотника, князь троекратно, по исконному русскому обычаю, его облобызал. Потом отступил на два шага и, сдёрнув с густо посеребренной головы шапку, низко, до земли, ему поклонился.
– Спаси тебя Бог, молодец, за всё, что тобою сделано! – не разгибая спины, молвил князь Андрей Иванович Басманов. – Прости ты мне, Христа ради, всё зло, кое я по недомыслию своему тебе учинил, и, коли будет на то твоя охота и воля, зовись отныне по праву моим единокровным сыном! Я же, – добавил он, по-прежнему стоя лицом к полу, – иного наследника и продолжателя рода для себя не чаю.
Тысяцкий Нагой ещё успел увидеть, как княжич Басманов с увлажнившимися глазами – тьфу ты, сопли треклятые, бабья утеха! – бросился к отцу и пал перед ним на колени. Далее тысяцкий уж не видал ничего, ибо, обуреваемый чувствами самого неприятного толка, бомбой вылетел во двор, где, поймав за шиворот пробегавшего мимо по своим делам конюха, повалил его в грязь и принялся раз за разом тыкать кулаком в твёрдую волосатую макушку, шипя в бессильной злобе: «Молодец! Наследник! Спаси Бог! От самих Рюриковичей, пёсья твоя морда!»
Мимо, разбрасывая копытами жидкую октябрьскую грязь, проскакал вернувшийся из ертоула разъезд. Один из ертоульных, с обвязанной кровавым лоскутом головой, безжизненно, яко куль с мукою, возлежал на лошадиной шее, и ехавший рядом товарищ бережно поддерживал его под руку, не давая вывалиться из седла.
Шмыгнув носом, тысяцкий Нагой отпустил тихо скулящего конюха и, сильно пнув его напоследок пониже спины, отправился выяснять, что стряслось.
* * *
Чинно, обеими руками придерживая перед собою аккуратно подобранные юбки, донна Франческа поднималась по узкой, крутой и скрипучей деревянной лестнице, что вела в мансарду принадлежавшего ей дома.
Донна Франческа была дородной и пышнотелой вдовою тридцати восьми лет, ещё не утратившей остатков некогда присущей ей миловидности. Испытывая постоянную нужду в презренном металле, донна Франческа сдавала комнаты внаём. Постояльцами её чаще всего являлись матросы с парусных кораблей, бросавших якорь в гавани шумного портового города Лиссабона. Корабли бросали якоря в шумной гавани; матросы в свой черёд бросали якоря в тихой заводи донны Франчески, и это устраивало всех, ибо моряки платили, не скупясь, а донна Франческа старательно соблюдала себя в чистоте (если не моральной, то хотя бы телесной). Посему капитаны отправляющихся в дальнее плаванье галеонов могли не беспокоиться о здоровье своего экипажа – по крайности, если здоровью упомянутого экипажа и причинялся какой-то вред, повинен в том был кто угодно, только не донна Франческа.
Ныне, впрочем, уютную комнатку в мансарде принадлежавшего благонравной вдовице дома снимал не пропахший пенькою и солью морской волк, а весьма приличный и, по виду, состоятельный дон, волею злой судьбы (как он сам, путаясь в малознакомом португальском наречии, объяснил донне Франческе) вынужденный покинуть милую его сердцу Польшу (благочестивая донна весьма смутно представляла себе, что это такое, но поверила на слово пришедшемуся ей по сердцу постояльцу, который утверждал, что на свете не сыщешь страны прекраснее и богаче) и переселиться из Старого Света в Новый.
При всех своих многочисленных, так и бьющих в глаза достоинствах, благородный дон Вацлав отчего-то не торопился платить за постой. Меж тем донне Франческе от знакомого шкипера стало доподлинно известно, что четырехмачтовая «Магдалина» готова отправиться в плаванье через океан не позднее чем через два дня. Судьба двух золотых дублонов, кои задолжал ей постоялец, таким образом, оказывалась под большим вопросом, и обеспокоенная этим неприятным обстоятельством донна Франческа решила подняться в мансарду, дабы выяснить всё на месте.
Донна Франческа допускала, что преследуемый злым роком дон Вацлав мог оказаться неплатёжеспособным. Донна Франческа, чье большое и доброе сердце величиной и мягкостью вполне соответствовало её пышной фигуре, была готова с охотой войти в положение постояльца. В конце концов, донна Франческа была готова получить с него натурой, хотя это и противоречило её правилам: обыкновенно постояльцы платили ей не только за кров и стол, но и за все остальное, чему свидетелями были лишь плотно закрытые ставни да задутые свечи. Но благородный дон Вацлав настолько приглянулся благочестивой донне Франческе, что она была готова ради него поступиться даже собственными правилами, кои с годами приобрели законченные, незыблемые очертания закона Божьего. Единственное, чего не могла допустить донна Франческа, так это чтобы постоялец покинул её дом тайком, никак не расплатившись за комнату и даже не попрощавшись.
На лестнице ей встретился монах, чьи босые ноги и обтрёпанная понизу коричневая ряса выдавали в нём члена ордена святого Доминика. На груди у монаха, жидко побрякивая немногочисленными медяками, висела кружка для сбора подаяния. В глаза донне Франческе отчего-то бросился длинный, уродливый шрам, что, подобно бледной змее выползая из-под низко надвинутого капюшона, тянулся через левую щеку доминиканца до скверно выбритого подбородка. Впрочем, невзирая на приметную наружность святого отца, занятая своими мыслями и переживаниями благочестивая донна тут же о нём забыла. Отрадно и вместе с тем дивно было уже то, что доминиканец не привязался к ней с назойливыми просьбами пожертвовать медяк-другой на нужды святой католической церкви. Возможно, он пренебрёг донной Франческой потому, что получил щедрую мзду от расквартированного наверху благородного дона Вацлава; возможно, напротив, благородный дон Вацлав спровадил побирушку столь недвусмысленно и энергично, что тот решил сперва немного отдышаться и хотя бы отчасти восстановить душевное равновесие, а уж потом возобновить свои богоугодные посягательства на кошельки добропорядочных обывателей портового города Лиссабона.
Впрочем, как уже было сказано, доминиканец немедля вылетел у донны Франчески из головы: не прилип – и хвала Всевышнему! Не пристал этот, пристанет другой; уж чего-чего, а охотников под благовидным предлогом запустить лапу в чужой кошелёк в достославном городе Лиссабоне хватало во все времена.
Это целиком справедливое рассуждение вернуло помыслы донны Франчески к её постояльцу, и, памятуя о скором отплытии четырёхмачтовой, на совесть сработанной корабельными плотниками, прочной и, главное, быстроходной «Магдалины», благочестивая вдова, поелику то было возможно, ускорила шаг, заставляя ступеньки пронзительно и жалобно скрипеть под её обутыми в изящные козловые башмачки крепкими, полными ногами.
Очутившись перед дверью мансарды и немного отдышавшись после непривычно скорого подъёма, вдова деликатно постучала в дверную филёнку кончиком пухлого указательного пальца. Не дождавшись ответа, она постучала в дверь уже костяшкой того же пальца; стук получился громкий и отчётливый, но ответа на него, как и прежде, не последовало. Закусив нижнюю губку, мучимая дурными предчувствиями вдова выбила частую барабанную дробь на филёнке костяшками целых четырёх, сжатых в кулачок, пальцев, а после, отчаявшись получить хоть какой-либо ответ, со всего маху ударила в дверь кулаком.
Дверь, будто только того и ждала, распахнулась настежь, и благочестивая вдова с некоторым изумлением убедилась, что её постоялец вовсе не задал стрекача, забыв расплатиться за постой. Вовсе нет! Благородный дон Вацлав был у себя.
Правда, поведение его показалось вдове немного странным: симпатичный иноземец стоял у стены прямо напротив входа, низко опустив голову, и, казалось, сосредоточенно размышлял о чем-то не слишком веселом и отрадном.
– Прошу меня простить, благородный дон, – бархатным голосом проворковала донна Франческа. – Я не хотела нарушать уединение благородного дона, но не уделит ли мне благородный дон минутку своего драгоценного времени?
Благородный дон ничего не ответил и вообще никак не показал, что слышал обращённые к нему слова. Он всё так же стоял у стены, одетый в облегающие кожаные штаны и батистовую рубашку, которая, при вполне обычном для того времени покрое, отличалась удивительно смелой расцветкой: она была не сплошь белая, как все иные рубашки, а ярко-красная с белыми рукавами.
Благочестивая донна Франческа уж лет пять, как начала слабеть глазами. Никому в том не признаваясь, она с подобающим доброй католичке смирением влачила свой крест, который из года в год делался все тяжелее. Последним, кому она хотела бы поведать о своей постыдной, с её точки зрения, слабости, был молодой и привлекательный дон Вацлав. Теперь, однако ж, обстоятельства складывались таким образом, что приходилось выбирать: или показать, что глаза у неё уж давно не те, что в молодости (и, следовательно, что молодость её давным-давно прошла), или подойти ближе и, не полагаясь на глаза, коснуться подозрительно ярко и непривычно смело окрашенной рубашки дона Вацлава рукой.
Последнее отчего-то представлялось донне Франческе решительно неприемлемым. Осознав сие странное обстоятельство, благочестивая вдова изо всех сил прищурилась и, прижав кончиками пальцев наружные уголки глаз, оттянула их как можно дальше в стороны.
Смутно маячившее перед нею расплывчатое изображение отчасти прояснилось, обретя резкость очертаний, о чём донна Франческа немедля горько пожалела. Ах, лучше б ей этого не видеть!
Благородный дон Вацлав стоял только потому, что не мог упасть: этому препятствовал огромный, самого устрашающего вида нож с роговой рукоятью, что торчал из-под его опущенного на грудь подбородка. Это жуткое орудие убийства пригвоздило благородного дона к стене, удерживая его бездыханное тело в вертикальном положении; непривычная красно-белая окраска его рубашки, столь удивившая благочестивую вдову, объяснялась кровью, в изобилии вытекшей из страшной колотой раны и скопившейся темной, почти чёрной лужей у его обтянутых шёлковыми чулками ног.
Донна Франческа ещё стояла на пороге, раздумывая, завизжать ей на весь квартал или просто упасть в обморок, когда в комнату, довольно бесцеремонно отодвинув её с дороги, вошли двое ничем не примечательных мужчин в одинаковых серых плащах.
– Готов, – почему-то по-немецки сказал один, окинув дона Вацлава долгим, профессионально-внимательным взором.
– Нашей заслуги в том нет, – также по-немецки откликнулся второй, – но ландграф всё равно будет нами доволен.
– Думаю, это сделал тот молодой русский кёниг, – глубокомысленно морща лоб, изрёк первый. – Эти дикари ни перед чем не остановятся, коль скоро речь заходит о кровной мести.
Голоса их, свободно проникая через открытое настежь окно, разносились над узкой, вымощенной чёрным вулканическим камнем, обстроенной сложенными из серо-желтого песчаника домами улочкой. Отиравшийся поблизости монах-доминиканец (единожды обзаведясь какой-либо привычкой, люди потом долго не могут от неё избавиться), задрав кверху обезображенное длинным шрамом лицо и мучительно сморщившись от напряжения, кое требовалось ему, дабы понять звуки чужого, едва-едва, с пятого на десятое заученного языка, прислушивался к их разговору. Уразумев, о чём толкуют двое в одинаковых серых плащах, доминиканец пренебрежительно фыркнул.
– Ишь, чего удумали – кёниг, – на неизвестном никому из коренных жителей достославного портового города Лиссабона варварском наречии пробормотал он. – Князю, поди-ка, негоже в этаком навозе руками ковыряться!
Сказавши так, доминиканец подобрал обтрёпанный подол своей коричневой рясы и скорым шагом направился по кривой извилистой улочке прочь от порта, держа путь примерно в том направлении, где за горами и долами лежала, широко и привольно раскинувшись от моря до моря, ещё не пробудившаяся от многовекового сна, порою жестокая к своим сыновьям, но всё же горячо и преданно любимая ими святая Русь.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.