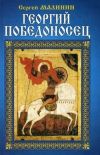Текст книги "Георгий Победоносец. Возвращение в будущее"
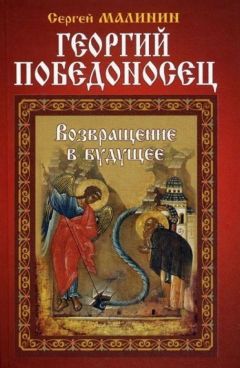
Автор книги: Сергей Малинин
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 25 страниц)
Быковский перешагнул через тело, наклонился и заглянул в темную глубину возка, ожидая увидеть ещё один труп. Солнце тонкими лучиками проникало вовнутрь через многочисленные дыры от пуль, кожаные стенки изнутри ощетинились прошедшими насквозь коваными наконечниками стрел, сбившийся ковер на полу пропитался кровью. Внутри этого разбитого вдребезги, сто раз простреленного навылет ящика на колесах не мог уцелеть никто. Пан Вацлав был в этом совершенно уверен, и потому не столько испугался, сколько изумился, когда из царившего в возке пыльного полумрака навстречу ему, блеснув, метнулось острое тонкое лезвие.
Он отпрянул, споткнувшись и едва не растянувшись в пыли, и машинально схватился за шпагу. После, сообразив, что бояться нечего, стал напротив двери и, стараясь говорить как можно медленнее и разборчивей, чтобы его поняла даже русская дикарка, сказал по-польски:
– Выходите, княжна. Сопротивляться бесполезно. Отныне вы целиком в моей власти.
Над дорогой медленно оседала пыль. Ветер сносил её к реке, и она садилась на воду, которая, равнодушно журча, неторопливо уносила вдаль людские и лошадиные трупы. Посреди реки всё ещё стояли разграбленные, распотрошённые возы. Запряжённая в один из них лошадь была убита; другая, склонив голову, пила журчащую меж её передних ног воду, вовсе не торопясь выбираться на берег. В дорожной пыли и на зелёной мураве лежали тела, и многие, чересчур многие из них были одеты в синие плащи с вышитым золотом гербом Карла Вюрцбургского.
Глава 6
Княжич Пётр какое-то время слышал чей-то хриплый, невнятно бормочущий голос. Голос звучал в темноте, был её неотъемлемой частью, и почему-то казалось, что именно от этого голоса более всего и разламывается голова. Хотелось крикнуть или швырнуть чем-нибудь, чтобы это бормотание, наконец, прекратилось, но ни собственного голоса, ни рук, ни всего остального тела у княжича, казалось, не было – были только бормотание да боль, что бродила взад-вперёд по наполненной мраком пустоте, которую являл собою княжич Пётр Басманов.
Представление о том, что он суть не что иное, как наполненный мраком бесформенный пузырь, было признаком близящегося пробуждения. И верно: вскорости княжич осознал, что тело его осталось при нём, и что болит у него не токмо голова, но и многое иное – пожалуй, что и всё, что было с той головой сопряжено и некогда ею управлялось. Ныне же тело его не управлялось ничем; так, по крайности, решил княжич, попробовав шевельнуть рукой и нимало в том не преуспев.
Он осознал, что лежит на спине с закрытыми глазами, на чём-то мягком, косматом и шелковистом, пахнущем зверем и лесными травами. Память понемногу возвращалась – не целиком, а постепенно, кусками, будто больная его голова боялась разорваться от прихлынувших разом воспоминаний и оттого выпускала их на волю понемногу, одно за другим.
Он вспомнил омрачённое ссорой со Станиславом прощание с паном Анджеем, вспомнил дорогу, бойню на лесном ручье и то, как крался по пятам за переодетыми в немецкие доспехи конными поляками. После вспомнился на мгновение показавшийся в окне остановившегося возка девичий лик, который, как ныне был твёрдо убеждён княжич, красотой мог сравниться разве что с ангелом Божьим. Вспомнилось, как вихрем взлетел в седло, как врубился в гущу ничего не подозревающих врагов, первым же ударом смахнув чью-то голову, будто гнилой кочан капусты. Эх, и славная была рубка! Кабы русские стражники оказались хоть чуточку попроворней, да кабы командовал ими истинный муж, а не баба в штанах, коей не с саблей да пищалью управляться, а с пяльцами да иглой, так, верно, могли б и отбиться…
После припомнился отчаянный прыжок со спины гнедого на козлы скачущего по ухабам возка и то, как налетели со всех сторон верховые в синих плащах, с широкими шпагами наголо. Была короткая стычка с предрешённым исходом, и был подобный вспышке молнии удар по голове, после которого наступила темнота. Темнота не рассеялась до сих пор – верно, оттого, что глаза были плотно закрыты, – но открывать их, дабы поглядеть, что деется вокруг, княжич, положа руку на сердце, опасался. В том бою он, без сомнения, был убит. И, верно, числились за ним какие-то тяжкие грехи, о коих он и сам не ведал, раз после смерти его занесло не на небеса, а прямиком к чёрту в пекло.
Придя к сему неутешительному выводу, княжич собрался с духом, чтобы открыть глаза и посмотреть, каково живётся грешным душам в чистилище. Но допрежь того вслушался в доносившееся откуда-то справа бормотание: а вдруг важное что бормочут или хотя бы любопытное?
К его немалому удивлению, оказалось, что хриплый голос бормочет слова заздравной молитвы. Сие и впрямь казалось дивным: княжичу как-то не доводилось слышать, чтоб черти в аду молились Господу и просили о даровании исцеления не токмо душам, но и бренным телам угодивших в их когтистые лапы грешников. Иль то возносил бесполезные мольбы к небесам, коих ему уже не суждено увидеть, один из теперешних товарищей княжича – такая же, как он, осужденная на вечные муки грешная душа?
В княжиче проснулось жгучее любопытство, которое, кабы у него не так болела голова, подсказало б ему, что он живёхонек, а вовсе не отдал Богу душу. Осторожно приоткрыв один глаз – второй почему-то не открылся, будто его и вовсе не было, – он первым делом увидел показавшийся нестерпимо ярким после долгой тьмы, а на деле слабенький, мерцающий огонёк лампадки, что горела перед иконами. Приглядевшись, княжич нашёл, что иконы те дивны и непривычны глазу доброго православного христианина. В позеленевших от старости, но весьма искусно вычеканенных медных окладах, писаны они были с таким мастерством, что глядели на княжича из сумрака, будто живые. Правда, Господь Бог на тех иконах смахивал на бородатого и зело сердитого старца, а сын Божий, Иисус, глядел таким добрым молодцем, что, будь он таков на самом деле, так, верно, разогнал бы нечестивых римлян на все четыре стороны тем самым крестом, на коем его хотели распять. Но краше всех показалась княжичу Богородица, хоть на закопчённой лампадной гарью иконе глядела она баба бабой – ну, ни дать, ни взять, пригожая да мягкая сердцем деревенская молодуха, уже начавшая прозревать всю тяжесть женской доли, но ещё не познавшая до конца её неизбывной горечи.
Словом, иконы были хоть куда – истинно, как живые. Но даже княжич Пётр, мало что смысливший в иконописи, враз смекнул, что писаны те иконы были с нарушением всех мыслимых и немыслимых канонов, что в монастыре за такое письмо богомазу мигом отбили бы руки, намяли холку и выкинули его, паршивца этакого, за ворота, и что, стало быть, сие и не иконы вовсе, а просто размалёванные доски. А посему молиться на них – только время попусту тратить…
Однако ж иконам тем молились, и молились истово. Взглянув на того, кто стоял на коленях в углу и клал земные поклоны, княжич поначалу даже испугался: думал, что медведь. Уж очень громоздок, сутул и космат был молившийся; приглядевшись, княжич немного успокоился, сообразив, что сие человек и что покрыт он не шерстью, а безрукавкой из звериной шкуры. Безрукавка эта показалась ему смутно знакомой, но он никак не мог припомнить, где видел такую же. А ведь видел, и совсем недавно!
Человек закончил молитву и, поднявшись на ноги, повернулся к ложу, на котором неподвижно возлежал княжич. Пётр Андреевич ужаснулся вдругорядь, узрев страшный шрам, что, начинаясь где-то в густых, обильно забрызганных сединою волосах, пересекал левый глаз и скрывался в длинной косматой бороде. В тот же самый миг он узнал своего спасителя, а может, и пленителя: то был мужик, коего княжич видел у брода и счёл состоящим при обозе проводником. Стало быть, ему тоже посчастливилось уцелеть; впрочем, могло случиться и так, что этот косматый дикарь, прельстившись златом, нарочно завёл вверившихся ему людей в засаду.
По зрелом размышлении княжич отбросил последнюю мысль как заведомо вздорную: перебитые на лесном ручье аломанцы, по всему видать, направлялись как раз навстречу обозу, дабы с неизвестной целью конвоировать его – куда, было ведомо только им, да ещё тем бедолагам, что ехали в обозе. Встреча, по всему видать, была назначена как раз у переправы через реку, а стало быть, проводник ни в чем не был виноват – куда ему было сказано, туда и привёл. Да хотя бы и не так; всё едино, княжич был не в силах пошевелиться, даже если бы к его ложу подходил сейчас сам чёрт с рогами и вилами.
– Нешто очухался? – склонившись над ложем и внимательно вглядываясь в лицо раненого, с толикой удивления молвил бородач. – А и крепкая ж у тебя, молодец, голова! Такому воину и сабли не надобно – головой можно стены крушить и ворогов наповал разить. Не пробовал?
Княжич хотел обругать насмешника и сказать, что, чем зубоскалить, лучше б дал раненому человеку глоток воды, но из пересохшей глотки вырвалось только тихое жалобное сипение, в коем нельзя было разобрать ни единого слова.
Хозяин, впрочем, понял, чего он хочет, и, отойдя куда-то в угол, где неспособный повернуть голову княжич не мог его видеть, вскоре вернулся с ковшиком. Округлые деревянные бока ковшика блестели от влаги, с донышка одна за другой срывались и беззвучно падали на мех, которым было устлано ложе, тяжелые темные капли. Хозяин просунул под затылок раненого широкую твердую ладонь и приподнял ему голову. Влажный край ковша коснулся пересохших губ; княжич с наслаждением втянул в себя восхитительно прохладную влагу и сейчас же мучительно закашлялся, весь скривившись от нестерпимой горечи.
– Отравил, ирод! – прокашлял он с трудом, от злости даже не заметив, что вновь обрёл дар речи.
– Действует, – с довольством заметил хозяин. – Не забылся, стало быть, бабкин секрет!
– Убивец, – едва ворочая языком от наполняющей весь рот вяжущей горечи, просипел княжич. – Тебя за сие зарубить мало!
– А ты рубани, касатик, – спокойно предложил хозяин. – Сабля твоя при тебе, так что валяй, руби, коли пришла охота.
С этими словами он взял бессильно обмякшую ладонь Петра Андреевича и положил её на что-то твёрдое, холодное, обнаружившееся прямо под боком. Пальцы ощутили знакомый изгиб рукояти, неловко скользнули по гладкому железу клинка, ища и находя знакомые приметы: зазубринки на металле, завитки узора, едва ощутимый рельеф гравировки…
Пальцы обхватили рукоять, но рука не смогла не то что поднять саблю, но даже и пошевелиться.
– Ослаб я чего-то, – пожаловался княжич.
– То не ты слаб, то травки мои сильны, – возразил хозяин.
– Опоил! – ахнул княжич.
Хозяин вздохнул.
– И что же это у нас на Руси за порядок такой? – огорчённо качая косматой головой, сказал он. – Ведь так оно испокон веку ведётся: коль сила есть – ума не надобно. Думай головой, человече! Она у тебя хоть и ушибленная, а только иным-то местом думать, поди, неудобно. Вот и думай, коли не разучился. Я тебя с того света вытащил, а ты – опоил, убил, отравил… Да на что отраву переводить, ежели тебя, как сонную муху, одним пальцем порешить можно? Ты напраслину-то не городи, сказывай лучше: как, полегчало? А ну, ещё глоточек! Да не артачься, пей!
Пристыженный княжич сделал добрый глоток из вновь очутившегося у губ ковша. На сей раз горечь отвара показалась не такой едкой, зато сил прибыло прямо на глазах. Рука крепче обхватила рукоять сабли; известно, рубить княжич никого не собирался, но почувствовать прилив сил после полного бессилия было невыразимо приятно. Даже головная боль, казалось, пошла на убыль. Оценив чудесное воздействие отвара на своё израненное тело, княжич опять потянулся губами к ковшу, но хозяин быстро отдёрнул руку.
– Но! – как на лошадь, прикрикнул он на княжича. – Сказано – глоток! Выпьешь до дна, тебя на постели пятеро не удержат. А я один, да и силы уж не те, что в молодости…
– А на что меня держать? – спросил приободрившийся княжич. – Некогда мне тут у тебя на мехах возлежать, надобно дело делать!
– Это какое ж, позволь узнать, у тебя в нашем лесу дело? – не без ехидства осведомился хозяин. – Дело ему делать надобно… Ты одно уразумей: отвар сей, конечно, любого на ноги подымет, да только ненадолго. Силы-то в тебе ныне и впрямь кот наплакал – в два счёта всю её, до последней капельки, израсходуешь, сгоришь, как свечка, и на том тебе и конец. Тогда уж тебя никакой отвар не спасёт, поелику мёртвый – он и есть мёртвый. Человека пользовать можно, покуда дышит, покуда сердце в нем бьется. А когда перестанет, только одно и остается – закопать его, чтоб не смердел, и Господу за упокой души его помолиться. Посему делай, как я велю, и не гоношись. Не то такого настоя дам отведать, что ещё неделю, как убитый, проспишь.
– Неделю?! – ужаснулся княжич. – Я что же, полных семь дней здесь провалялся?!
– Три, – уточнил хозяин. – А что? Нешто торопишься куда?
– Встану когда? – оставив без внимания вопрос хозяина, в свой черёд спросил княжич. – Завтра смогу?
– Денька через три садиться начнёшь, – невозмутимо ответствовал лесной житель. – А через недельку, глядишь, и впрямь на ноги подымешься. И – по стеночке, по стеночке, с опаской…
– По стеночке твоей, да ещё с опаской, пущай тараканы ходят, – сердито объявил княжич, чувствуя такой прилив сил, что впору было и впрямь вскочить с ложа и пуститься на поиски той, что лишь на краткий миг мелькнула в окошке возка, раз и навсегда – так, по крайности, представлялось княжичу, – полонив его сердце. – А ну, подай сюда ковш! Подай, кому говорю! Некогда мне тут с тобой…
– Торопишься, – заключил хозяин. – А почто торопишься? Почём ты знаешь – может, торопиться-то уже и некуда?
Княжич Пётр застыл, как громом поражённый. Эта простая мысль – что подобной Божьему ангелу девы может уже три дня не быть в живых – как-то не приходила ему в голову, хотя, ежели подумать да хорошенько припомнить, что творилось на речном берегу подле брода, ничего иного нельзя было даже предположить. К тому времени, когда княжич, уповая на одного только Господа Бога, перескочил на козлы, возок уже был похож на решето. После он со всего маху ударился об дерево, и та, что находилась внутри, могла выжить разве что чудом. И ещё одним чудом стало бы то, что польские головорезы в немецких доспехах её пощадили.
Уповать на чудо княжич Пётр Андреев сын Басманов не привык – так уж сложилась его жизнь, что чудесами в ней и не пахло. Посему хозяин, видимо, опять говорил правду: спешить княжичу и впрямь было некуда. Спасти никого он уже не мог, а месть могла и подождать, тем паче что кратковременный прилив сил уже прошёл, и мститель чувствовал себя слабым, как новорождённый мышонок.
– Ты рот-то прикрой, – с легкой насмешкой посоветовал хозяин. – Не ровён час, муха залетит, а то и мышь вскочит… Нешто чаял девицу выручить, что в расписном боярском возке ехала? А почем ты знаешь – может, она того и не стоила?
– Много ты понимаешь, – буркнул княжич. Он хотел добавить «смерд», но сдержался, и не потому, что здоровенный, как матерый медведь, хозяин мог убить его одним щелчком по лбу. Просто обидное это слово совсем не подходило к облику и повадке лесного жителя; в нём было достоинство человека, давно и прочно усвоившего, что дорожить на этом свете надобно одной лишь свободой, и готового за неё умереть, а ежели придется, то и убить.
– Может, и мало, – пожал могучими плечами хозяин, – а может, и поболее твоего. Девица сия, да будет тебе ведомо, сюда не на прогулку пожаловала. В далёкой ал оманской земле её жених дожидается – ландграф… как бишь его… Да ну его в болото! Выговорить невозможно, как он зовется, тот ландграф. А имя ему – Карла. Дивно мне сие: и как это такая красная девица за карлу замуж пойти согласилась? Ей-ей, не по доброй воле, а по отцовскому принуждению!
– Дурак ты, – откидываясь на меховое изголовье, с трудом выговорил вконец ослабевший княжич. – Карл – то имя такое, вроде как у нас Иван или, там, Антип. А что девица та сему Карлу обещана, до того мне дела нет. Нешто замужнюю бабу от разбойника али зверя лесного боронить не надобно? Нешто в каждом моем шаге корысть должна быть?
– Гляди, каков, – не то насмешливо, не то, напротив, одобрительно протянул хозяин. – Пра-а-авильнай! И откуда ж ты, такой правильный, на польском берегу-то взялся?
– Из плена шёл, – неохотно буркнул княжич.
Понукаемый, понуждаемый и подталкиваемый хозяином, что вдруг воспылал любопытством, он вкратце пересказал историю своего плена и освобождения. Сил у него не осталось никаких, да и история сия была такова, что княжич, сколь ни искал, не мог найти в ней ни единого повода гордиться собою. Хозяина же она, казалось, порадовала; дослушав, он некоторое время задумчиво копался в бороде, а после сказал:
– Сук тот, из-за коего в плен угодил, не кляни. Господу виднее, кого, когда и обо что головою приложить. То-то же я дивился: отчего это ты чувств лишился и, как мёртвый лежал, ежели удар плашмя пришёлся и только клок кожи с черепа содрал? Ясно теперь: старая рана о себе напомнила. А кабы ты, сокол ясный, после того удара на ногах остался, они б тебя точно на куски изрубили.
Княжич слабо фыркнул в ответ.
– Эка, разложил всё по полочкам! Да кабы не тот сук да не плен, разве я бы здесь очутился?
– Господу виднее, – повторил хозяин. – Может, он нарочно так устроил, чтоб ты тут очутился, и аккурат в это самое время.
– Ты кто таков, чтоб намерения самого Господа Бога ведать? – нашёл в себе силы усмехнуться княжич.
– Сие никому не по силам, – смиренно согласился хозяин. – Пути Господни неисповедимы. Нам же, сирым и убогим, остаётся только держать глаза и уши открытыми, дабы не прослушать глас Господень и не проглядеть перст его, указующий нам, в чем состоит наше предназначение.
– Проповедуешь, яко поп с амвона, – заметил княжич, обводя усталым взглядом бревенчатые стены и низкий потолок убогого жилища, кое, судя по отсутствию окон, было, верней всего, землянкою.
– Было дело, – признался хозяин, – состоял я при монастыре сперва учеником богомаза, а после резчиком, да ещё чеканщиком. Наслушался отца-настоятеля, так теперь, не поверишь, премудрость сия то и дело противу моей воли из меня наружу так и лезет. Видно, не будет мне покоя, покуда вся не вылезет.
– Ишь ты! Ясно, однако ж, за что тебя из богомазов-то попёрли, – молвил княжич, глазами указав на иконы в красном углу, в коих земного и узнаваемого было куда больше, нежели божественного. – А лепо! Ей-богу, глаз не оторвать. Только, мнится, канонами византийскими в иконах сих даже и не пахнет.
– А на что мне каноны, коли отец-настоятель над душой с нравоучениями не стоит? Каноны те людьми придуманы, а Господь – он в каждом человеке, в каждой живой твари, во всякой травинке. И славит его всяк на свой лад – птица щебечет, жук жужжит, рыба бессловесная хвостом по воде плещет…
– …А человек вместо икон образины малюет, коим на покосе с граблями самое б место, – в тон ему подхватил княжич. Теперь, когда он лежал, откинувшись на застеленное мягким звериным мехом изголовье, силы, казалось, начали понемногу возвращаться, да и говорить с бородачом оказалось на диво занятно: хотя явной крамолы хозяин не произносил, слышать подобные речи допрежь того княжичу не доводилось. – Так ты, стало быть, вроде здешнего святого отшельника?
– Да какой из меня святой, – безнадежно отмахнулся широкой тёмной ладонью хозяин. – Нешто святого Лешим назовут? Скорей уж, колдун…
– Неужто вправду колдун? Заправский?
– Заправских колдунов не встречал. Бабка-покойница, что давным-давно меня травы ведать учила, тоже ведьмой слыла, а почто? Чем она перед миром провинилась? Тем ли, что людей да скотину выхаживала, лечила да пользовала? Так и я, раб Божий. А что колдуном обзывают, так, сам знаешь, на каждый роток не накинешь платок. Ведомо, как оно промеж людей бывает. Один скажет, ничего иного не придумав: колдун, дескать, – и пошло, и поехало. Раз сто кряду этак-то повторят: колдун, колдун, – глядишь, уж и сами поверили, что колдун, и подойти боятся, ежели что не так…
– Так ты, стало быть, травник… В монастыре, что ль, сему ремеслу обучился?
Леший отрицательно качнул косматой головой, протягивая княжичу ковшик с каким-то настоем.
– Испей-ка, пора… Нет, травам меня бабка, царствие ей небесное, раньше обучила, когда я ещё в разбойниках числился.
Княжич поперхнулся пахучим настоем.
– Ну, ты силен, старинушка! И монах, и чеканщик, и резчик, и богомаз, и травник, а ныне ещё и разбойник! Сказывай, что ещё у тебя в запасе имеется?
– На Москве бывал ли? Царь-пушку видал?
– Как не видеть! Сей дробовик российский по всему свету славен.
– Не дробовик сие, дырявая твоя голова, а бомбарда, для пальбы каменными ядрами предназначенная. Не дробом, сиречь картечью, а ядрами! Запомни сие, аника-воин!
– Ну, ядрами, ну и что?
– Вот тебе и «ну». Формы я резал, по коим пушечный литец Ондрейка Чохов после ту пушку отливал.
– Знатно! – подивился княжич. – А дале что было?
Хозяин заметно помрачнел.
– А дале лихо безносое меня сыскало, нож вострый в меня воткнуло и мёртвого в речку с моста бросило, – сказал он.
– Это как же? – недоверчиво ужаснулся княжич.
– Обыкновенно, – ответил Леший. – После, ежели захочешь, расскажу. Отчего не рассказать? Я уж и не помню, сколь лет по душам ни с кем не говорил. А тебе, вишь, и деваться некуда – хочешь не хочешь, а слушать придётся. Но то после. А ныне спи, детинушка, набирайся силёнок.
Княжич уже и сам чувствовал, что его неодолимо клонит в сон. Низкий потолок с пучками сухих трав по углам раскачивался, то наплывая почти вплотную, то вдруг уходя в недосягаемую высь; обезображенное страшным шрамом лицо Лешего расплывалось перед глазами, голова сладко кружилась, а по всему телу, изгоняя ноющую боль, разливалась ватная истома.
– Постой, – собравшись с силами, едва пробормотал он. – Что это ты там про перст Господень говорил? В чём, мыслишь, суть моё предназначение?
– Так ведь это проще простого, – будто издалека, донёсся до него голос Лешего. – Чего чаешь, к тому и предназначен. Хотел красну девицу выручить – выручай, и Бог тебе в помощь. Жива она. Одна из всех, тебя не считая, уцелела. Невредимой её те ироды на воз посадили и в лес увезли.
– Так что же я тут лежу? – едва ворочая языком, с трудом пролепетал княжич. – Три дня провалялся, а ты говоришь, ещё неделю… Где ж я её через неделю искать-то стану?
– Небось, сыщем, – уверил его Леший. – Чай, не иголка – княжна. Ты спи, спи, молодец, для тебя нынче сон – наипервейшее лекарство.
Княжич хотел ещё что-то возразить, но сил сопротивляться сладкой истоме уже не осталось, и он, мысленно махнув на всё рукою, сдался на милость сна.
* * *
– Убита и похоронена, – глядя прямо в глаза графу, произнес пан Вацлав Быковский. – Не взыщите, что я не стал, по обычаю нечестивых племен Востока, отсекать ей голову, чтобы предоставить её вашей милости в качестве доказательства.
– А не мешало бы, – ворчливо молвил граф Вислоцкий.
Он сидел в своем любимом кресле подле горящего, несмотря на дневную жару, камина. В парадной зале старого родового замка было сыро и промозгло, по ногам откуда-то тянуло ледяным сквозняком, и всякий, помимо, разве что, самого графа, раз попав сюда, немедля начинал мечтать о том, чтобы поскорее выбраться из этого каменного склепа на свежий воздух, под тёплые солнечные лучи. Графа же, казалось, вполне устраивали попахивающая плесенью промозглая сырость и обветшалая роскошь этого знававшего лучшие времена громадного помещения. Замок был построен почти за два века до рождения нынешнего хозяина, однако они выглядели ровесниками – вернее, граф казался некой важной частью своего замка, столь неотъемлемой, что после его смерти, мнилось, неприступные каменные стены потрескаются, падут и рассыплются прахом.
– Простите?.. – делая вид, что ослышался, переспросил Быковский.
– Я пошутил, – проскрипел граф, протягивая поближе к огню иссушенные старостью ноги в сделавшихся чересчур просторными сапогах, голенища которых свободно болтались на икрах, как на двух сухих палках. – Так, говоришь, убита?
– Да, – коротко ответил Быковский.
Граф задумчиво пощипал костлявыми пальцами длинную верхнюю губу, подкрутил сперва левый, а затем правый ус. Он пребывал в некотором затруднении, о природе которого сам имел весьма смутное представление. Будучи посланным наперехват невесте Карла Вюрцбургского, Быковский вернулся только что, и вернулся, если верить его словам, с победой, которая, увы, досталась ценой большой крови. Подтверждений этим словам хватало с избытком. Из трёх десятков замковой стражи, отправленных графом к русской границе под началом Быковского, назад вернулось всего тринадцать человек – чёртова дюжина. Все они были одеты в немецкие доспехи и плащи с гербами Вюрцбургского ландграфа, из чего следовало, что встреча с немцами была, и что закончилась та встреча поголовным истреблением баварского отряда.
Далее, изрядно поредевший в стычках с гвардией ландграфа и стражей князя Басманова отряд Быковского привёл с собой две нагруженные приданым княжны обозные телеги. Здесь были дорогие ткани, меха, украшения, драгоценные каменья и золото – словом, всё, чего в последние несколько лет так не хватало графу Вислоцкому, чья казна опустела и более не содержала в себе почти ничего, кроме пыли, плесени и паутины. Сие доказывало, что Быковский встречался не только с баварским конвоем, но и с обозом княжны Басмановой. А поскольку обоз был захвачен, не было никаких оснований сомневаться в том, что все, кто его сопровождал, перебиты. Уж чем-чем, а излишним милосердием пан Вацлав Быковский никогда не отличался.
И всё-таки что-то было не так.
Сам будучи искусным обманщиком и обладая громадным опытом, который могут дать только долгие десятилетия дворцовых и политических интриг, граф давным-давно научился видеть людей насквозь, читая в их глазах, как в открытой книге. Сколь бы твёрд ни был голос Вацлава Быковского, сколь бы прямым и открытым ни казался его взгляд, старый граф видел: он лжёт. А если не лжёт, то недоговаривает чего-то важного, и делает это сознательно и преднамеренно, тщась утаить от своего покровителя какой-то проступок – судя по наглости, с которой лжёт графу прямо в лицо, проступок достаточно тяжкий. На самом дне устремленных на графа, обманчиво честных глаз что-то дрожало и мигало, как огонёк свечи на сильном сквозняке – может быть, отражение пламени в камине, а может быть, обыкновенный страх быть уличённым во лжи. Возможно, молодой пройдоха просто прикарманил часть находившихся в обозе ценностей; возможно, дело было в чём-то ином. Наверняка граф Вислоцкий знал одно: он не успокоится, пока не выяснит, в чём тут дело. Тяжесть кары, которая постигнет пана Вацлава, будет более или менее соразмерна его вине, но кара сия должна быть и будет неотвратимой, ибо обманывать графа Вислоцкого не дозволено никому. Мальчишка слишком много о себе возомнил, вообразив, будто может водить за нос своего господина и повелителя. Если провинность невелика, его следует просто поставить на место, потыкав, как шкодливого кота, носом в дерьмо. Если же речь идёт о чём-то более серьёзном, чем кража нескольких золотых монет или собольей шубы, ясновельможному пану Вацлаву не поздоровится…
– Ты славно потрудился, мой мальчик, – молвил граф после долгой паузы, которая потребовалась ему, чтобы подавить нарастающий гнев, а заодно дать Быковскому время поразмыслить о причинах затянувшегося молчания и почувствовать себя не в своей тарелке. – Клянусь честью, ты будешь вознаграждён… По заслугам, – добавил он после ещё одной паузы, коротенькой, но весьма многозначительной. – И награда не заставит себя долго ждать.
Быковский низко поклонился, и, глядя на его макушку, граф позволил себе недобро улыбнуться, ибо от его внимания не ускользнул промелькнувший страх в глубине карих глаз пана Вацлава.
– А я, представь себе, старею, – пожаловался он, одним глазом глядя на то, как пляшут в камине языки огня, а другим продолжая внимательно наблюдать за Быковским. – Меня всё чаще одолевает беспричинная тревога.
– Что же тревожит вашу милость? – почтительно осведомился Быковский, весьма довольный переменой темы.
– Ты не поверишь, мой друг, какие глупые фантазии приходят порой в эту старую голову. – Граф коснулся кончиком пальца выбритого, серебрящегося седою щетиной виска, будто боялся, что собеседник без этого не поймёт, о какой именно голове идёт речь. – Вот прямо сейчас мне почему-то кажется, будто княжна Басманова жива и здорова…
По тому, как внезапно переменился в лице Быковский, граф понял, что выстрел попал в цель. В то, что пан Вацлав посмел ослушаться его в самом главном, он не верил – не верил просто потому, что даже не допускал мысли о таком неслыханном ослушании со стороны своего ближайшего подручного. Но вина за Быковским всё-таки имелась, теперь граф в этом почти не сомневался, и вина эта наверняка была как-то связана с нападением на обоз княжны. На мгновение ему пришло в голову, что Быковский виновен всего лишь в греховном, насильственном непотребстве, кое предшествовало смерти княжны. Если так, граф не собирался его осуждать, ибо в молодости и сам был грешен. Если всё дело в этом – пусть его. Вина Быковского перед княжной – дело его, самой княжны и Господа Всемогущего; вина же перед графом Вислоцким, буде таковая всё же обнаружится, заслуживает самой суровой кары – не в загробной жизни, а здесь и сейчас, в пыточном застенке графского замка.
– Право же, граф, вы меня напугали, – переведя дыхание, признался Быковский, и графу подумалось, что это первая за весь разговор фраза, не содержащая в себе ничего, кроме голой правды: он таки хотел напугать пана Вацлава, и это ему вполне удалось. – Что вы такое говорите! Мёртвые мертвы, и им не дано воскреснуть до нового пришествия Спасителя!
– Ты прав, – усталым тоном согласился Вислоцкий. – Я же сказал тебе: это просто старость. Я сопротивляюсь ей, как могу, но она мало-помалу берёт своё… Что ж, ступай. Ты заслужил хороший отдых. Повеселись от души! – С этими словами граф бросил на стол тяжко звякнувший продолговатый, стянутый тесёмкою кожаный кошель, в коем лежала малая толика захваченных в обозе княжны Басмановой денег. – От всей души сожалею, что возраст не позволяет мне присоединиться к твоему веселью.
– Это было бы просто великолепно, – с поклоном приняв кошель, солгал Быковский.
– Увы, увы! – умело изображая старческую немощь, вздохнул граф. – Ступай же, ясновельможный. Я же в скором времени решу, какой именно награды ты заслуживаешь.
Придерживая на боку раззолоченную саблю, которую успел навесить на себя взамен немецкой шпаги, и громко стуча каблуками, Быковский вышел из залы.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.