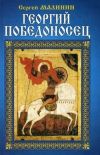Текст книги "Георгий Победоносец. Возвращение в будущее"
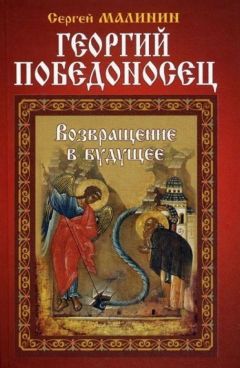
Автор книги: Сергей Малинин
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 25 страниц)
Глава 15
Отодвинув засов и откинув кованый крюк, пан Тадеуш Малиновский поднял повыше свечу и с немым изумлением воззрился на человека, что стоял на крыльце, смиренно сложив перед собою руки, коими только что едва не вышиб дубовую дверь. Меж этими ладонями была зажата объёмистая медная кружка, накрытая медною же крышкой с прорезью для бросания монет; взглянув на эту кружку, местами заметно помятую, пан Тадеуш понял, каким образом ночной гость ухитрился, стучась в дом, наделать столько шума.
Гость был невысок ростом, но зато вельми широк как в поясе, так и пониже спины. Фигура его наводила на мысль о множестве пышных свежевыпеченных хлебов, аккуратно сложенных друг на друга. Макушка круглой темноволосой головы была аккуратно выбрита, намекая на принадлежность гостя к духовному сословию; на то же указывала и коричневая ряса монаха-доминиканца, из-под обтрёпанного и запыленного подола которой выглядывали грязные босые ступни.
– Мир дому сему, – елейным голосом нараспев проговорил монах. – Не пустит ли благочестивый и добрый хозяин на ночлег смиренного, но, увы, недостойного слугу Господа нашего Иисуса Христа?
Благочестивый и добрый хозяин, сиречь пан Тадеуш Малиновский, в душе радуясь тому, что не поленился оттащить подальше в крапиву тела убитых стражников, открыл рот с недвусмысленным намерением послать смиренного слугу Господа идти своею дорогой. Но его вдруг осенила внезапная мысль, столь удачная и своевременная, что тут, верно, не обошлось без вмешательства свыше.
– Заходи, святой отец, – молвил пан Тадеуш и, отступив от двери, незаметно поставил в угол саблю. – Какой же добрый католик откажет в крове одинокому путнику, да ещё коль путник тот принадлежит к духовному сословию!
– Да благословит тебя Господь, – молвил монах и, пригнув голову, быстро, пока хозяин не передумал, юркнул в открытую дверь.
Увидев накрытый стол, смиренный слуга Господа затрясся так, что в кружке для сбора подаяния, которую он все ещё прижимал к объёмистому чреву, забренчали медяки.
– Не соблаговолит ли святой отец разделить со мною мой скудный ужин? – спросил пан Тадеуш. – Не взыщи, отче, живу я скромно, но, как говорится, чем богаты, тем и рады.
– Да благословит Господь этот дом, – торопливо ковыляя к столу на своих кривоватых, но толстых и крепких ножках, скороговоркой откликнулся монах, – и да благословит Господь эту пищу. Особенно её, – добавил он, осеняя стол кривым, ввиду большой спешки, крестным знамением.
Засим святой отец пал обширным задом на дубовую скамью и первым делом придвинул к себе блюдо с холодной телятиной. Рука его, действуя будто бы сама по себе, нашарила слева кувшин, подвинула поближе к нему самую большую, какая нашлась на столе, чарку и мастерски, не пролив ни капли, наполнила её до краев. Пан Тадеуш открыл рот, но было поздно: не переставая быстро, как кролик, жевать, монах залпом осушил чарку. Круглое лицо его скривилось в гримасе отвращения: он и подумать не мог, что в кувшине окажется такая низменная и негодная субстанция, как хлебный квас.
– Прости, святой отец, – молвил Малиновский. – Я не привык бражничать в одиночку.
– Но ты уже не одинок, сын мой, – мягко напомнил доминиканец.
– А ты разве пьёшь хмельное? – изумился пан Тадеуш.
– Если Господь в безграничной милости своей даровал нам, грешным, вино для услаждения чрева и увеселения ума, – с достоинством ответствовал доминиканец, – то кто я таков, чтоб отвергать дары Его?
– Какая мудрая мысль, – искренне восхитился пан Тадеуш. – И как это мне самому в голову не пришло?
– Господь да умудрит тебя, сын мой, – сказал монах. – Поспеши же, ибо солнце уже закатилось, а я умираю от жажды. Да и ты, мнится, тоже.
– Не без того, – ни на йоту не покривив душою, признался Малиновский и поспешил в кладовую.
Проходя мимо печки, он увидел втиснутого в угол между беленым боком и стеной княжича, коему в столь опрометчиво избранном укрытии места хватало только на то, чтобы стоять, распластавшись по стенке, втянув живот и выпрямившись, будто аршин проглотил. Княжич сделал Малиновскому большие глаза: ты что, дескать, ума лишился, старый дьявол? Пан Тадеуш в ответ только подмигнул и, не останавливаясь, прошёл мимо.
В углу кладовой стоял Леший. Он ничего не сказал пану Тадеушу и даже не пошевелился, когда тот вошёл, – просто стоял, в полумраке жутковато напоминая медвежье чучело, кое некогда украшало собою столовую в доме Закревских. Так же молча сняв с полки увесистый гляк, пан Тадеуш вышел из кладовой и плотно закрыл за собою дверь.
– Скажи, сын мой, а умеешь ли ты строго соблюдать надлежащую меру? – вопросил доминиканец, с вожделением поглядывая на принесённый паном Тадеушем и торжественно водружённый в середину стола пузатый гляк.
– Я учусь, святой отец, – смиренно ответил Малиновский.
Пахучая коричневатая жидкость аппетитно забулькала, выливаясь из узкого горла глиняной посудины. Монах облизнулся.
– Это правильно. Век живи – век учись, – назидательно молвил он. – Давай же выпьем за наше столь удачное знакомство! Можешь звать меня братом Августином.
– Кшиштоф Булка, – решительно ничем не рискуя, назвал пан Тадеуш первое пришедшее на ум имя. Ныне следовало заботиться лишь о том, чтобы это имя не забыть и не назваться ненароком как-нибудь иначе. Впрочем, хорошо изучив чудодейственные свойства настойки, именуемой «трижды девять», Малиновский не особо о том пёкся: пожалуй, после третьей или четвертой чарки монах не обратит внимания, даже если собутыльник назовет себя Люцифером.
Чокнувшись, они выпили за знакомство.
– А хороша! – крякнув и шумно потянув носом воздух, с некоторым удивлением похвалил настойку брат Августин.
– Старинный рецепт, – скромно пояснил Малиновский.
– Да, предки знали толк во всём – и в войне, и в зодчестве, и в вине… и в женщинах. – Брат Августин выбрал на тарелке самый крупный солёный огурец, впился в него, с шумом высасывая рассол, и обвёл тесноватый покой разом подобревшими, слегка заслезившимися поросячьими глазками. – Эге! А это у тебя что, пан Кшиштоф? – внезапно воскликнул он, указывая огрызком огурца на выглядывающий из-под края оконной шторы подол женского платья.
– Где? – невинно округлил глаза Малиновский.
– Да вон же! А ты ходок, сын мой! – радостно вскричал доминиканец, который, судя по этой радости, и сам был не дурак по части противоположного пола. – Это я люблю! Святая католическая церковь любит грешников, – доверительно объяснил он, – особенно тех, у которых достаточно денег на покупку индульгенций. Но за неимением денег сойдет и… гм, да. Что же пани стоит там, в углу, одна, и скучает? Из окна, наверное, дует, пани простынет…
– Какая пани? – поспешно наполняя чарки, снова изумился Малиновский. – Там нет никакой пани! Лучше давай выпьем…
– За прекрасных дам! – возгласил доминиканец. – Если Господь в безмерной милости своей… Впрочем, это я уже, кажется, говорил. Словом, за дары Господни, да будут они благословенны, и за самый прекрасный из них – за милых и сговорчивых дам, да будут они благословенны трижды и четырежды!
Он выплеснул настойку в широко разинутый рот; Малиновский тихо вылил свою под стол, горько о том сожалея.
Лежавший под столом Станислав Закревский тихо скрипнул зубами: он и без того старался дышать через раз, ибо в непосредственной близости от его лица располагались грязные босые ноги брата Августина. Соседство сие было труднопереносимо и делалось решительно невыносимым, когда доминиканец принимался от переполнявших его жизненных сил и радости бытия шевелить пальцами. А тут ещё и горелка! Впрочем, ему очень быстро стало понятно, что выливаемая паном Тадеушем под стол настойка суть не зло, а великое благо, ибо источаемый ею резкий запах спирта и лесных трав хотя бы отчасти забивал непередаваемый аромат, что исходил от натруженных ступней брата Августина.
Выпив и схватив взамен недоеденного огурца новый, брат Августин вновь обратился лицом к окну, давая понять, что его не так-то просто сбить с единожды избранного пути.
– Ну… – начал он и осёкся, ибо из-под края занавески более ничего не выглядывало. – Что за наваждение?
Резво вскочив из-за стола, он почти бегом приблизился к окну и отдёрнул занавеску. Малиновский ему не препятствовал. Как и следовало ожидать, за занавеской не обнаружилось никого и ничего, опричь закрытого снаружи крепким глухим ставнем окна.
– Наваждение, – убеждённо повторил монах, возвращаясь за стол. – Наливай, брат мой, ибо я глубоко огорчён.
– Отчего же, святой отец? – участливо осведомился Малиновский, наливая ему полную чарку «трижды девять».
– В последнее время, – многозначительно подняв кверху коротенький пухлый палец, сказал брат Августин, – меня денно и нощно искушают бесы. Вообрази себе, брат мой, что эти отродья сатаны выкинули третьего дня!
Засим, не забывая время от времени протягивать пану Тадеушу регулярно пустеющую чарку, брат Августин подробно и красочно поведал ему леденящую душу историю о том, как, возвращаясь на закате в обитель после неких богоугодных дел (каких именно, брат Августин не уточнил, ибо по причинам, изложенным немного ниже, сам того не помнил), так вот, стало быть, возвращаясь в монастырь, он был внезапно и вероломно атакован из-за угла целым сонмом демонов и чертей, кои, околдовав и заморочив, силой бесовских чар увлекли его с городской улицы в дикие кущи, где, вдоволь с ним натешившись, бросили одного, раздетого до исподнего, едва не до костей объеденного комарами и с разламывающейся от боли головой. Помимо рясы и чёток, демоны отняли у него память, а заодно с нею и дар убедительности, коим он славился до этого происшествия. Посему, когда брат Августин уже далеко за полдень явился в монастырь в решительно недопустимом виде, а именно почти нагой, отец-настоятель не поверил ни одному слову из его путаных, сбивчивых объяснений и решил, к великому огорчению поименованного брата Августина, что рясу и чётки свои он оставил в ближайшем шинке, под прилавком у безбожного шинкаря-иудея, по имени Шайя.
Придя к такому несправедливому выводу, игумен наложил на брата Августина непомерно, по его мнению, строгую епитимью: двести раз прочесть с поклонами «Отче наш» и сто – «Богородицу». Вдобавок он ещё велел высечь брата Августина плетьми в монастырской экзекуторской, но, вняв мольбам последнего, заменил порку более мягким наказанием и отправил его собирать пожертвования в этот бедный деревенский приход – бить ноги по пыльным каменистым дорогам и униженно выпрашивать жалкие медяки у нищих холопов и прижимистых, тоже нищих, мелкопоместных шляхтичей. Благословляя брата Августина на сие тяжкое послушание, игумен не преминул напомнить, что ежели недавнее происшествие повторится в грядущем, экзекуторской ему не миновать – получит разом и за первый случай, и за второй.
Пан Тадеуш едва не свалился со скамьи, а затаившийся под столом Станислав, коему падать было некуда, ибо он и так уже лежал на полу, зажал себе обеими руками рот, чтобы не рассмеяться вслух. И кто бы мог помыслить, что судьба приведёт на хутор того самого монаха, история которого (настоящая, а не выдуманная спьяну) была известна им со слов захваченного в плен стражника!
– Ай-яй-яй, – старательно разглаживая всей пятерней усы, дабы спрятать улыбку, сочувственно качал головой Малиновский.
Из-за приоткрытой двери в соседний покой, куда незамеченной проскользнула до того таившаяся за занавеской Юлия, послышался сдавленный, но явственный смешок – смешливая, как все девицы, молодая пани Закревская, в отличие от мужчин, не сумела себя сдержать.
Впрочем, значения это уже не имело.
– Что это там? – насторожился монах.
– Где? – опять изумился пан Тадеуш. – Как будто ничего…
– Наваждение, – с уверенностью мотнул отяжелевшей головою брат Августин. В голосе его звучала спокойная горечь человека, чьи наихудшие опасения опять начинают оправдываться. – Н-наливай, брат мой!
Малиновский с готовностью выполнил эту просьбу, звучавшую как приказ. Себе он наливать не стал: с болью в сердце выплеснув под стол пару чарок, он скоро заметил, что монаху уже всё равно, пьёт его собутыльник или нет. А раз так, к чему попусту лить на землю драгоценную «трижды девять»?
Скоро, повинуясь лёгкому тычку под ребра носком сапога, из-под стола вылез и спокойно утвердился за оным Станислав. Последовал уже ставший привычным обмен репликами: «А это кто?» – «Где? Никого нет, мы одни». – «Наваждение. Именем Господа всемогущего заклинаю: сгинь, нечистый дух! Не желаешь? Ну, и черт с тобой… Кшиштоф, возлюбленный брат мой, наливай, чтоб ты был здоров!»
Видя такой поворот событий, из-за печки выбрался с головы до ног перепачканный белой известкой, весь затёкший и одеревеневший от продолжительного стояния в неудобной позе княжич. «Тебя как звать, бесовское отродье?» – узрев новое лицо, вполне дружелюбно осведомился брат Августин. Язык у него уже основательно заплетался, глаза смотрели в разные стороны, но он оказался стойким бойцом и пока что каким-то чудом ухитрялся сохранять более или менее вертикальное положение.
– Вельзевул, – не придумав ничего лучшего, буркнул княжич.
– Эге! – неизвестно чему обрадовался монах. – Так ты там, у себя, большая шишка! За это надобно выпить. Кшиштоф, наливай!
Выпив в очередной раз, он пустился в путаный экскурс по вопросам демонологии, но вскоре заплутался, увязнув в сложной бесовской родословной, забыл, с чего начал, и, махнув рукою, потребовал налить ещё.
Спустя малое время за столом, как и до появления брата Августина, сидела уже вся компания. Невзирая на то, что монах пил в одиночку, «Кшиштоф», сиречь пан Тадеуш, только успевал наливать. Появление все новых и новых участников застолья брата Августина ничуть не пугало и не удивляло: он их едва замечал, приветствуя каждое новое лицо лишь подъятием чарки и однообразным возгласом: «Наливай!»
На него скоро перестали обращать внимания. Лишь пан Тадеуш, как автор и главный исполнитель замысла, да, к тому ж, единственное, по мнению доминиканца, реально существующее лицо из всей сидевшей за столом шайки демонов и привидений, отдуваясь, без отдыха, как холоп на жатве, орудовал тяжёлым гляком. Всяк иной был занят своим делом: Леший дремал, привалившись к стене и свесив на грудь голову, коей недолго оставалось быть косматой, Станислав ел, утоляя молодой аппетит, и время от времени бросал косые настороженные взгляды на сестру, которая, сидя чуть в стороне от окончательно разухарившегося и пытающегося затянуть какие-то непристойные куплеты брата Августина, тихо беседовала с княжичем. Станислава беспокоило выражение её лица, в коем тихая, отдохновенная радость всем на свете довольного человека (а то как же, ведь любимый княжич – вот он, рядышком, только руку протяни, и коснёшься!) соседствовала с мягкой покорностью, так непохожей на решительную, холодную твёрдость, с которой Станислав столкнулся минувшей ночью.
Впрочем, разговор меж ними происходил вполне невинный и даже обыденный: Юлия жалела монаха, коему не миновать было плетей, а княжич, хоть и соглашался с нею, говорил, что человек зато им попался самый что ни на есть подходящий: наутро и не вспомнит, где был и что делал, а ежели и вспомнит, так непременно припишет всё бесовскому наваждению. А плети – ну, что плети? Жив будет, и ладно. И потом, нешто сей пьяный боров, коего существование на белом свете уже равносильно богохульству, не заслужил пяток плетей по мягкому? То-то, что заслужил. Да ему сие токмо на пользу пойдёт!
Предмет их беседы меж тем затеял считать, сколько бесов сидит с ним за одним столом, дабы, как он сам во всеуслышание заявил, после представить отцу-настоятелю на рассмотренье подробный, толковый отчёт о том, как он, благочестивый брат Августин, в одиночку противостоял полчищам адских созданий. Начав считать, он трижды сбивался, а когда кончил, оказалось, что насчитал восемнадцать – число, ни с чем не сообразное, ибо, ежели в глазах у него двоилось, троилось иль даже четверилось, из пятерых собравшихся за столом людей восемнадцать получиться всё равно никак не могло.
Пан Тадеуш не без задней мысли указал на это брату Августину, ибо вёдерный гляк полегчал уже настолько, что его можно было без труда оторвать от стола одной рукой, а монах всё сидел, хотя уже и нетвёрдо, за столом, время от времени заплетающимся языком требуя налить. Хитрость старого воина, коей тот сегодня отчего-то преисполнился, возымела ожидаемый эффект: взявшись сызнова пересчитывать бесов, брат Августин сбился уже в середине второго десятка (бесы, понятно, тоже не теряли времени зря и множились с каждой выпитой доминиканцем чаркой), осерчал и, уставившись на пана Тадеуша покрасневшими свинячьими глазёнками, грозно вопросил: «А ты-то кто таков будешь?!» Уже основательно утомлённый сим непотребным действом Малиновский насупился и, приняв величавую позу, объявил, что он – сам Люцифер. «А я думал, Кшиштоф», – искренне огорчился монах. «Какой такой Кшиштоф? – сердито удивился, добивая его, Малиновский. – Отродясь тут никаких Кшиштофов не водилось! Собирайся, грешник, я за тобой! Пойдёшь ко мне?» – «А выпить у тебя есть? – демонстрируя похвальную предусмотрительность, подозрительно осведомился монах. – Тогда наливай!»
Но налить «Люцифер» не успел, ибо слуга Господа, вконец обессиленный противоборством с самим Князем Тьмы, геройски пал, с глухим деревянным стуком ударившись головою о крышку стола.
– Уф! – утирая со лба воображаемый пот, с огромным облегчением выдохнул Люцифер, он же пан Кшиштоф Булка, он же – Тадеуш Малиновский. – Совсем уморил, окаянный! Вот же, прости Господи, бездонная бочка!
Засим пан Тадеуш налил до краёв и медленно, с наслаждением осушил вполне заслуженную им нынче чарку.
– Я уж думал, ничего у тебя не выйдет, – усмехаясь, молвил княжич. – Сейчас, думаю, допьёт сей сосуд и пойдёт себе ровненько восвояси.
– Невозможно, – решительно заявил Малиновский, шаря взглядом по столу в поисках закуски. Закуски на столе не осталось: то немногое, что успел съесть Станислав и все остальные, не шло ни в какое сравнение с результатами опустошительного набега на стол смиренного слуги Господа, брата Августина. – Моей настойкой быка с копыт свалить можно. Но монах силён! Ей-богу, силён! Ему б не милостыню просить, а по кабакам деньги зарабатывать – на спор, кто кого перепьёт. У, прорва ненасытная, сколь вылакал! Жалко – сил моих нет!
С этими словами он довольно сильно ткнул монаха кулаком в спину, заодно проверяя, крепко ли тот уснул. Брат Августин спал крепко, зато от толчка, сотрясшего весь стол, проснулся Леший.
– Что, всё? – мигом разобравшись в обстановке, спросил он.
– Всё, всё, – с подозрительной ласковостью в голосе почти пропел пан Тадеуш. – Ныне твой черед.
– А чего – я? – деланно изумился Леший. Он знал чего, и все знали, что он знает, а потому смотрели на него так же, как он совсем недавно смотрел на княжича – сочувственно и в то же самое время насмешливо.
– Не робей, Степан Иванов сын, сие только по первому разу страшно, – подбодрил его княжич, уже имевший кое-какой опыт по этой части и оттого чувствовавший себя бывалым ветераном ножниц и бритвы.
Пан Тадеуш приблизился к стоявшему в углу громоздкому и неуклюжему, явно сработанному каким-то местным умельцем при помощи топора да, быть может, ещё и рубанка, комоду, с протяжным скрипом выдвинул верхний ящик и, порывшись в оном, извлёк оттуда какой-то странный предмет – нож не нож, но что-то вроде того, – тускло отразивший огоньки свечей своим опасно отточенным краем.
– Пожалуйте бриться! – с дьявольским весельем в голосе и в очах провозгласил он.
* * *
Менее чем через час с хутора пана Тадеуша выехали пятеро всадников. Один из них был женщиной, другой являл собою гордый и неприступный вид, какой бывает только у мелкопоместных и притом весьма небогатых польских шляхтичей, когда те пытаются надменным выражением лица прикрыть прорехи в одежде; третий, босоногий и свежевыбритый, щеголял в потрепанной коричневой рясе монаха-доминиканца с низко надвинутым клобуком; ещё двое, один здоровый и крепкий, как молодой дуб, другой годами помладше, а плечами чуточку поуже, были одеты в одинаковые чёрные кунтуши и все прочее, что обитатели здешней округи привыкли видеть на стражниках графа Вислоцкого. Все, кроме женщины, были вооружены, даже монах таил в просторном рукаве рясы громадный, самого устрашающего вида охотничий нож.
Сия доблестная пятерка, не привлекая ничьего внимания (ибо в этот час все, опричь цепных псов, давно уже спали мертвым сном), выехала с ведущего к хутору Малиновского просёлка на большак, проскакала сначала мимо спящей деревни, где была облаяна упомянутыми выше псами, потом мимо тёмного облака казавшейся чёрной зелени, обозначавшей парк сгоревшей усадьбы Закревских, и затерялась в тёмных ночных полях.
На рассвете, когда солнце ещё не поднялось над горизонтом, но ночная тьма уже основательно поредела, уступив место жемчужно-серым предутренним сумеркам, они остановили лошадей на берегу небольшой равнинной речки. Воду скрывал плотный, толстый, как пуховая перина, и такой же белый туман. Лошади по самое брюхо утопали в тумане, который, выползая из приречной низины, ровным молочным озером разливался окрест. Из тумана кое-где выглядывали чёрные купы кустов и причудливо искривлённые призраки одиноких деревьев.
А прямо перед ними, как бы плавая над землёй верхом на туманном облаке, тёмным, исполненным угрозы силуэтом проступали на фоне светлеющего неба отвесные каменные стены и восьми-, а то и шестнадцатиугольные неприступные сторожевые башни с шатровыми крышами. Бойницы верхнего и нижнего боя щурили на незваных гостей недобрые вертикальные зрачки; в одной из бойниц юго-западной башни, на самом верху, горел одинокий, бессонный оранжевый огонёк. Замок стоял на искусственном острове, образованном рекой и соединявшимся с нею прорытым руками холопов обводным каналом, тяжко придавив собою землю. Но теперь, в этот предутренний час, легко было вообразить и поверить, что он и впрямь медленно плывёт над равниной, угрожающе надвигаясь вместе с лениво шевелящимся туманом.
– Экая дурища! – разбив вдребезги ощущение чего-то колдовского, волшебного и весьма недоброго, своим грубым голосом нарушил тишину Леший.
– Я ж говорил – твердыня, – вопреки обыкновению негромко произнёс Тадеуш Малиновский и глубоко вздохнул. – Сатанинская твердыня…
– А вот мы поглядим, так ли сия твердыня тверда, – окончательно разрушив мрачное очарование выступающих из серого тумана чёрных каменных монолитов, громким и ясным голосом молвил княжич Басманов. – Видывали мы и покрепче твердыни. Твоя правда, ясновельможный: рядом с ливонскими цитаделями твердыня сия – не более чем бобровая хатка.
Пан Тадеуш, который, хоть и поминал бобровую хатку в связи с замком графа Вислоцкого, но совсем в ином смысле, отчего-то не стал поправлять княжича, предпочтя промолчать.
…Брат же Августин, без помех проспав до двух часов пополудни, как и следовало ожидать, пробудился ото сна с больною головой и в скверном расположении духа. Состояние его отнюдь не улучшилось, когда, проморгавшись, он опять обнаружил себя одного, в чистом поле и в грязном исподнем. Поверх исподнего висели чётки, серебряный образок Пресвятой Девы Марии, ладанка с мощами святого Христофора и – самое главное! – укреплённая на прочной стальной цепочке помятая кружка для сбора подаяния, в коей по-прежнему глухо побрякивали немногочисленные медяки. Ничего толком не помня из вчерашнего, но видя, что все четыре отмеченных Божьей благодатью предмета остались при нём, брат Августин вполне разумно заключил, что воры, верно, скорей отобрали б у него кружку с медяками, чем худое монашеское одеяние, а стало быть, то были вовсе не воры, а состоящие на службе у самого Сатаны демоны и бесы, коим святые образы и мощи, а уж тем паче монастырские деньги оказались не по зубам.
Было не понятно, как в таком случае бесы сумели овладеть рясой брата Августина. Вариантов ответа было два: либо ряса каким-то неизвестным брату Августину образом была запятнана неизгладимой печатью греха (ряса была чужая, выданная отцом-настоятелем взамен утраченной, а посему могла-таки на своем веку повидать разные виды, начиная с безудержного пьянства и простого, бесхитростного разврата с тайком проведенными в монастырь непотребными девками и кончая содомским грехом и даже, прости Господи, скотоложством), и потому стала лёгкой добычей для бесов, либо, с грехом пополам преодолев святость монашеского одеяния и зачем-то оным овладев, демоны вконец обессилели и уж не сумели умыкнуть не только кружку с подаянием, но даже и ладанку с мощами, кои, как было доподлинно известно брату Августину, являлись поддельными.
Что б там ни было, какими б соображениями ни руководствовалась нечистая сила, мороча благочестивого и смиренного раба Божьего Августина и над оным же непристойно куражась, доминиканцу от того легче не становилось. Голова у него трещала, обгоревшее на солнце чело саднило и чесалось, и предстоящая встреча с отцом-настоятелем не сулила ему ничего доброго.
Шевельнувшись (ибо нельзя же весь век просидеть неподвижно в сухом бурьяне и лебеде!), брат Августин ненароком задел локтем что-то твёрдое и округлое, издавшее при сём прикосновении звук, подозрительно напоминавший бульканье. Обратив в ту сторону свой затуманенный бесовским наваждением, сиречь жестоким похмельем, взор, брат Августин узрел то, что было принято им за истинное чудо Господне, а именно преизрядных размеров глиняный гляк, узкое горло которого было плотно заткнуто капустной кочерыжкой.
Протянув дрожащую руку, брат Августин ухватил сей благословенный сосуд за короткое узкое горло и, приподняв, взвесил на руке. Сосуд, увы, был далеко не полон, но и не сказать, чтобы пуст – словом, в самый раз, чтобы поправить больную, одурманенную бесами голову. Оставалось лишь выяснить, что там плещется внутри – ну, а вдруг сие лишь новая сатанинская проказа, и в гляке не вино, а что-либо иное? «Если вода или какой-нибудь квас, найду пруд и утоплюсь», – подумал брат Августин и с решимостью человека, которому уже нечего терять в этой жизни, выдернул зубами пробку.
В ноздри ему ударил хмельной, дурманящий, отчего-то показавшийся смутно знакомым запах. Сделав глоток, брат Августин почувствовал, что в голове у него понемногу проясняется, и поспешно приложился к гляку ещё раз. Теперь ему смутно, как сквозь туман, припомнилось, что минувшей ночью он, кажется, сидел за одним столом и, как с равным, говорил с самим Люцифером. Только теперь осознав смертельную опасность, коей подвергался во время того разговора, брат Августин для восстановления пошатнувшегося душевного равновесия торопливо и жадно присосался к гляку, который, поначалу будучи довольно увесистым, становился все легче и легче с каждым сделанным глотком.
…В тёплых вечерних сумерках за воротами доминиканского монастыря вдруг раздались богопротивные звуки, весьма отдаленно напоминавшие пение. Затем, оттолкнув привратника, в ворота сложным зигзагом проникла плотная, будто бы сложенная из свежевыпеченных хлебов, фигура в сером от грязи исподнем. Приплясывая заплетающимися ногами и распевая заплетающимся языком куплеты самого непристойного содержания, брат Августин миновал высокое каменное крыльцо, с которого ему улыбался весьма многообещающей улыбкой отец-настоятель, и, нигде не задерживаясь, прошествовал прямиком в экзекуторскую.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.