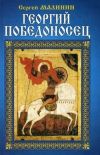Текст книги "Георгий Победоносец. Возвращение в будущее"
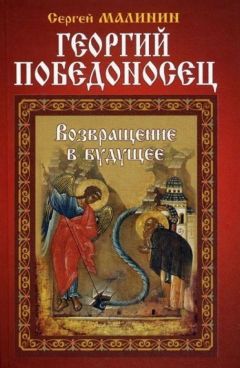
Автор книги: Сергей Малинин
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 25 страниц)
Глава 16
Каждый из пятерых отчаянных храбрецов, бросивших вызов могущественному графу Вислоцкому (который пока даже не подозревал, что ему кто-то бросил вызов), имел на то свои собственные, отличные от других, причины.
Княжич Пётр Андреев сын Басманов, к примеру, по молодости лет ещё не научился отводить взгляд, когда на его глазах творились бесчинства, и по мере сил, коих ему было не занимать, всегда старался оным воспрепятствовать, бросаясь в драку раньше, чем успевал хорошенько подумать, надобно ль ему сие. К тому же он был влюблён в синеокую княжну, имени коей до сих пор не ведал, ибо Леший из каких-то своих, ему одному понятных, соображений имя сие от него утаил. Возможно, княжич только думал, что влюблён, но в его годы думать, что влюблён, и быть влюблённым – практически одно и то же. И, наконец, княжич Пётр был служилый государев человек, волею судеб оказавшийся один, без полка и воеводы над собою, а посему вольный исполнять свой долг перед государем и отчизной так, как он его в данный момент понимал. Понимал же он его просто: надобно было крепко дать по рукам потерявшему страх Божий польскому магнату, что без спросу влез в дело, кое княжич, наслушавшись от Лешего речей о каком-то немецком ландграфе, не без оснований полагал государственным.
Что думал и чем руководствовался, пускаясь в казавшуюся безнадежной авантюру, умудрённый богатым и горьким жизненным опытом крестьянский сын Степан Лаптев, по прозвищу Леший, знал только он один. Возможно, он и впрямь, как думал княжич, пытался искупить какие-то давние грехи; возможно, к сердцу своему он прислушивался много чаще, чем старался показать; как бы то ни было, он, единственный из всех, кто не имел в этом деле личного интереса, кажется, твёрдо намеревался идти до конца, каким бы тот конец ни оказался.
Станислав Закревский, в отличие от него, был в сём деле кровно заинтересован, ибо чаял отомстить за смерть отца и за спалённую дотла усадьбу. Опричь того, юный шляхтич, как и княжич Басманов, целиком находился во власти синих очей прекрасной незнакомки и, как истинный рыцарь, стремился любою ценой вызволить её из заточения. А сверх всего прочего, как ни крути, ему просто некуда было податься; бездомный и гонимый, он был вынужден нападать уже хотя бы для того, чтоб защитить сестру и себя.
Сестра его, Юлия, одна из всей компании не имела воинственных, кровожадных намерений, ибо по природе своей была к таковым неспособна. За те немногие часы, что она провела в непосредственной близости от княжича, её детская влюбленность в рослого молодца переросла в любовь спокойную и глубокую, как полноводная река, которая, будто бы никуда особенно и не торопясь, течёт себе к далёкому морю. Торопиться ей некуда: река знает, что рано или поздно достигнет своей цели, какие б преграды ни воздвиглись на её пути. Помимо того, пани Юлия полагала себя обязанной присматривать за братом, юношеская горячность коего делала такой присмотр нелишним, а пожалуй что и жизненно необходимым.
Что же до пана Тадеуша Малиновского, то он смотрел на вещи просто, полагая это дело делом чести. Этим все сказано, и прибавить к этому нечего; отомстить за смерть друга, защитить его осиротевших, оставшихся без крова детей, покарать воров и душегубов, укрывшихся за стенами графского замка, – всё это, и ещё многое иное, определялось для простодушного пана Тадеуша одним коротким и ёмким словом – честь.
При всех перечисленных несходствах пятеро храбрецов (коих иной здравомыслящий и не зело отважный домосед, верно, назвал бы безумцами) имели общее, одно на всех, заблуждение: все пятеро наивно полагали, будто всему остальному миру, опричь уже упомянутого злодея-графа с его присными, нет до них решительно никакого дела.
То есть, в чем-то они, конечно, были правы. Если об их существовании кто-то и вспоминал, так разве что вскользь, мимоходом и без особенного интереса. Никого на всем белом свете и впрямь не заботило, где они и чем заняты, но равнодушие сие происходило единственно от неведения. Стань ненароком известно, чем в действительности занята отчаянная пятерка, их судьбою немедля озаботились бы многие и многие, среди коих было б немало сильных мира сего. Ибо история, в которую они впутались (или их, как Закревских, впутала злая судьбина), как раз таки служила причиною множества волнений в кругу лиц, коих далеко не всякому простому смертному дано хотя узреть бы издали.
Между прочим, княжич Пётр, государев человек, любивший при удобном случае ввернуть в умный мужской разговор не так давно подслушанное где-то иноземное слово «политика», мог бы догадаться, что они не одиноки в своём стремлении хорошенько намять холку графу Вислоцкому. Он стоял на пороге этой догадки, когда объяснял пану Тадеушу, почему ему не надобно ввязываться в это «политическое» дело. Княжич весьма верно подметил, что дело сие затрагивает интересы сразу трёх держав, но отчего-то не сообразил, что державы сии не станут сидеть сиднем и, сложа руки, ждать, какое ещё коленце выкинет засевший в своем замке престарелый граф.
Впрочем, недогадливость княжича простительна и объяснима, ибо он не ведал, что на глухом безымянном лесном ручье полегла не вся стража, посланная ландграфом Вюрцбургским навстречу невесте. Капитан дворцовой гвардии Ульрих фон Валленберг счастливо избежал смерти и ныне, отоспавшийся, отдохнувший, сытый и снова исполненный сил и служебного рвения, расхаживал, мрачно блистая воронёными латами, по курящемуся дымом бивачных костров лагерю.
Лагерь был разбит на берегу реки, отделявшей владения короля польского от земель императора Священной Римской империи, сирень аломанского королевства. За ту неделю, на протяжении которой велись переговоры с целью получить дозволение на следование личной гвардии Вюрцбургского ландграфа через пределы Речи Посполитой, выехавшая из ворот замка в Вюрцбурге сотня неким таинственным образом разрослась, превратившись в три тысячи конных рыцарей и кнехтов. По стечению обстоятельств, кое только неосведомленному зеваке показалось бы плодом случайного недоразумения, лагерь раскинулся не на немецком, а как раз таки на польском берегу реки и ныне взирал на окрестности невинно, будто бы в недоумении – дескать, и как это нас сюда занесло? – округленными зрачками пушечных жерл. Пока поторапливаемый императором немецкий посланник в Варшаве едва ли не рыл носом землю, ведя сложные переговоры, предприимчивые ландскнехты шарили по округе в поисках пропитания, грозя совершенно её разорить.
Меж тем на восточном рубеже Речи Посполитой начали медленно, но верно накапливаться полки государя всея Руси Фёдора Иоанновича; бородатые пушкари, оседлав медные спины бомбард, кричали через реку растерянно взиравшим на них полякам поносные слова, а порою потехи ради вместо слов пускали ядро. Оттуда доносили, что в стане московитов был не единожды замечен князь Андрей Иванович Басманов, который упорно отказывался вступать с польской стороной в переговоры и, кажется, ждал только государева слова, чтобы, перейдя реку, с огнём и мечом вторгнуться в польские пределы. Поговаривали также, что, не дождавшись повеления миролюбивого и не зело решительного государя, измученный тревогой за судьбу пропавшей на просторах Польши дочери князь может потерять терпение и начать действовать на свой страх и риск. Местная шляхта с берегов обеих пограничных рек вопияла к королю, а его величество вопиял к Господу, ибо более вопиять ему было не к кому.
В связи со всеми этими событиями в замок графа Вислоцкого зачастили гонцы из Варшавы, с раздражающим постоянством являвшиеся едва ли не каждый день. Грамоты, привозимые ими, день ото дня становились все более грозными и неприятными. Граф же в ответ лишь разводил руками: какая княжна? На что ему, в его-то годах, русская полонянка?
Однако, невзирая на свои и впрямь весьма преклонные лета, граф ещё не окончательно выжил из ума и хорошо понимал, что до скончания века разводить руками и делать круглые глаза не получится: король – не дитя, его одними глупыми ужимками не проведёшь. Со дня на день можно было ждать прибытия в замок королевской комиссии, которая обшарит оный от подвалов до верхушек сторожевых башен хотя бы и под угрозой пушечного обстрела. Десятью годами раньше такая перспектива оставила бы графа вполне равнодушным, но теперь, увы, он уже не чувствовал себя достаточно сильным для того, чтоб воевать с королём, а если уж быть точным и называть вещи своими именами, так сразу с тремя королями.
Вечерами граф, как и прежде, подолгу просиживал у пылающего камина, обдумывая внезапно возникшую проблему. Ясно было, что игра проиграна; увы, игра эта была не из тех, кои можно прервать, просто признав своё поражение и принеся извинения партнёрам – дескать, прошу прощения, господа, но я уже проиграл больше, чем намеревался, и далее играть не могу.
Как и прежде, граф проклинал Вацлава Быковского, но уже не за то, что тот сделал, а, скорее, за то, чего не сделал. Прежняя вина Быковского, состоявшая в том, что он не убил, как ему было приказано, русскую княжну, в свете последних событий представлялась уже не виной, а заслугой. Быковский провинился много раньше, чем повстречался с княжной, упустив на лесном ручье швейцарца Валленберга и тем придав дело ненужной огласке. Чёрные кунтуши напавших на его отряд из засады головорезов были Валленбергом замечены и накрепко запомнены; будучи человеком военным, он мигом признал в этих единообразных одеяниях мундиры и, добравшись до дома, описал те мундиры своему господину. Ландграфу не составило труда навести справки, и ныне причастность Вислоцкого к исчезновению княжны Басмановой более не являлась секретом.
При таких обстоятельствах то, что княжна до сих пор жива и здорова, можно было считать великим благом. Сие был мощный, почти непобиваемый козырь, и ныне следовало решить, как именно данный козырь разыграть. Неопытный игрок рискует остаться дурнем с полными руками козырей; мастер же может выиграть казавшуюся безнадёжной партию, имея на руках всего одну сильную карту.
У графа такая карта имелась, и он был настоящий мастер. Посему однажды вечером, после продолжительных раздумий наедине с пылающим камином, он кликнул слугу, велел ему разыскать Яна и, когда Ян явился на зов, коротко распорядился:
– Приведи его ко мне.
Вацлав Быковский, скорчившись и обхватив руками подтянутые к подбородку колени, сидел на сыром и холодном каменном полу. Места в его темнице хватало лишь на то, чтобы стоять во весь рост или сидеть, скрючившись подобно младенцу в материнской утробе, среди собственных нечистот. Вокруг царили мрак и тишина, столь полные, словно мир вокруг пана Вацлава в одночасье прекратил своё существование.
Казнь, придуманная графом для ослушника, была не нова. Увы, за долгие века она не утратила даже малой толики присущей ей изуверской действенности. Быковский был замурован в каменном мешке. Раз в сутки у него над головой, в недосягаемой выси, открывалось узкое отверстие, и в него на веревке спускали кувшин с водой и чёрствую ржаную краюху. При желании на таком скудном рационе можно было протянуть довольно долго – до тех пор, пока тебя не доконают ревматизм, цинга и притаившееся в темноте, изготовившееся для прыжка безумие. Быковскому доводилось слышать о людях, державшихся месяцами; ходили слухи, что около ста лет назад какой-то узник прожил в каменном мешке больше года. Но всё равно рано или поздно кувшин с водой поднимался наверх полным, а ржаная краюха нетронутой. После этого отверстие в потолке замуровывали наглухо и открывали его только через год, когда то, что лежало на дне каменного колодца, уже наверняка переставало смердеть.
Если б граф Вислоцкий нарочно старался измыслить для Быковского казнь пострашнее, ему не удалось бы придумать лучшего способа свести его с ума. Для деятельной натуры пана Вацлава мрак, безмолвие и почти полная неподвижность были самой мучительной из пыток, и пытке этой не предвиделось конца. Воображение населяло чернильную темноту жуткими призраками, тишина шелестящими замогильными голосами нашёптывала в уши страшные, непристойные тайны, мышцы ныли и зудели от нерастраченной энергии, коей, впрочем, с каждым днем становилось все меньше. Быковский даже приблизительно не представлял себе, сколько времени провёл в заточении. Еду и питьё, как было ему доподлинно известно, узникам замковых подземелий подавали нерегулярно. Делалось это нарочно, чтобы лишить их чувства времени и тем разрушить последнюю связь с реальным миром, где вставало и садилось солнце, дули ветра, шумели деревья и происходило много иных событий и явлений.
Вацлав Быковский приходил в отчаянье, чувствуя, как истончается, готовясь окончательно порваться, эта связь, некогда представлявшаяся ему нерушимой, прочной и толстой, как корабельный канат. Ныне она превратилась в тончайшую нить паутины, которую ничего не стоит оборвать одним неосторожным движением. Временами ему начинало казаться, что продлевать мучения незачем, и что куда лучше было б сделать это последнее движение, разбив голову о каменную стену.
Как-то раз он даже попробовал это движение сделать и обнаружил, что это не так-то просто: оказалось, что, не имея места для разбега, достаточно сильно удариться лбом о сырую, осклизлую стену не получается. Кроме того, это оказалось дьявольски больно; боль пробудила почти совсем уснувший инстинкт самосохранения, и, потирая сочащуюся липкой кровью преизрядную гулю, что моментально выросла у него посреди лба, Быковский вдруг осознал, что хочет жить, невзирая ни на что – пусть в каменном мешке, без проблеска света и в полной тишине, но жить, дышать и надеяться: а вдруг Господь сжалится над ним и метнёт с небес молнию, которая расколет обитель нечестивого графа от крыши до подземелий и откроет узнику путь на волю?
Он ни в чем не раскаялся, ибо следовать своим прихотям для него было так же естественно, как дышать. Кто же может искренне и всерьёз раскаиваться в том, что сердце его бьется, а на челе порой выступает пот? В несчастьях своих Вацлав Быковский винил княжну Басманову, сбежавшего с поля боя Валленберга, графа Вислоцкого – словом, кого угодно, но только не себя. Себя он полагал безвинной жертвой несчастливого стечения обстоятельств и происков врагов.
Обхватив руками колени и положив на них голову, Вацлав Быковский сидел в темноте подземелья и мысленно перебирал свои обиды – как истинные, нанесённые ему различными людьми, так и мнимые. Он со многими не успел поквитаться, и многие не успели поквитаться с ним. В последней мысли чудилась тень утешения – увы, слишком слабого, чтобы рассеять мрак надвигающегося безумия.
В могильной тишине темницы послышался показавшийся оглушительно громким скрежет отодвигаемого камня, и в открывшуюся отдушину проник луч света – слабый, но в сравнении с царившей в подземелье темнотой представлявшийся нестерпимо ярким. Быковский прикрыл ладонью глаза, в то же самое время жадно ловя играющие на сырых каменных стенах красноватые отблески горящего высоко вверху факела. Наступило время кормления, и это было хорошо: решив, что хочет жить, Быковский ныне существовал от одного кувшина с водой и краюхи ржаного хлеба до другого кувшина и другой краюхи, с жадностью съедая всё до последней крошки и выпивая всё до капли.
Обострившийся за время сидения в полной тишине слух чутко ловил шарканье подошв и пыхтение, доносившиеся сверху. Быковский слышал даже шорох, производимый трущейся о край каменной горловины верёвкой, а когда глаза немного привыкли к свету, начал различать и самую верёвку, которая, извиваясь подобно небывало длинному и тонкому червю, спускалась, казалось, с самого неба.
Эти извивы сразу показались Быковскому подозрительными: обычно веревка казалась натянутой, как струна, ибо на конце её висел увесистый кувшин с водой. Напрягая глаза, он всмотрелся в конец веревки и едва не взвыл от жестокого разочарования, ибо увиденная им вместо вожделенного кувшина и узелка с хлебной коркой верёвочная петля показалась ему очередной изуверской шуткой его сиятельства: дескать, выбирай, умереть от голода и жажды или сунуть голову в петлю…
И лишь когда широкая петля, легонько раскачиваясь, повисла перед самым его лицом, Быковского вдруг осенило: петлю ведь не обязательно надевать на шею! Ведь, ежели подумать, иного способа извлечь живого человека из каменного мешка просто не существует! Мертвых же отсюда не извлекали никогда, а стало быть, и думать о том ни к чему.
Сие, по идее, означало, что граф решил сменить гнев на милость и зачем-то приказал освободить Вацлава Быковского из темницы, которая должна была стать его могилой. Сердце узника радостно забилось, но он немедля одёрнул себя: граф Вислоцкий, конечно, знал слово «милосердие», как знал и иные слова, но оно не вызывало у него ничего, кроме едкого издевательского смеха. Граф не ведал милосердия сам и не ждал его от других, и, стало быть, слово сие являлось для него не более чем пустым звуком. Посему «милость», явившаяся Вацлаву Быковскому в виде пустой верёвочной петли, означала, верней всего, что его сиятельство счёл сведения, добытые от своего опального вассала под пыткой, недостаточно полными. Разумеется, это было ошибкой: Быковский был не из тех, кто стал бы молчать на дыбе, да и смысла его молчание не имело бы никакого, ибо вина его представлялась очевидной, и ничего нового он графу рассказать не мог. Посему рассказано было всё без утайки, и Быковский не мог даже предположить, какого дьявола графу взбрело в голову опять его тиранить. Неужто больше некого пощекотать калёными щипцами?
Впрочем, жизнь и на дыбе остается жизнью. Кто-то предпочёл бы такой жизни быструю смерть, но Быковский был не таков. Пока человек жив, остаётся надежда; любая боль проходит, вывихнутые плечи и локти можно вправить, а рубцы и ожоги со временем зарастут сами по себе. Только бы жить!
Словом, Вацлав Быковский был на удивление силён духом и ещё не подошёл к той черте, за которой страдания и невзгоды, накопившись, своей немыслимой тяжестью перевешивают волю человека к жизни. Он был из тех игроков, которые всегда играют до конца, и даже не подозревал о том, что помилованием своим обязан как раз этому качеству: зная, что Быковский одного с ним поля ягода и никогда не сдаётся, граф решил использовать его в последний раз.
Но, повторимся, Вацлав Быковский ничего этого не знал. На миг ему подумалось, что там, наверху, может оказаться не тюремщик, а присланный королём для проведения расследования комиссар, а то и какой-нибудь друг, с риском для жизни пробравшийся в замок, чтобы его спасти. Впрочем, этот краткий приступ сумасшествия прошёл так же быстро, как начался: встреча с комиссаром короля не сулила пану Вацлаву ничего хорошего, а друзей, которые стали бы рисковать жизнью ради его спасения, у него отродясь не было. Кто с охотою полез бы за ним в каменный мешок, так это его кредиторы, да и те, верно, не отважились бы связываться с графом Вислоцким даже из-за своих денег.
Взяв себя в руки и отогнав пустые надежды, Быковский надел на себя петлю и затянул её под мышками, после чего, ухватившись за колючую верёвку двумя руками, несильно – так, чтобы, не дай Бог, не вырвать из рук того, кто стоял наверху, – дёрнул. Верёвка натянулась и медленно, осторожно повлекла его наверх. Она немилосердно резала грудь и подмышки, жестоко терзая ослабшую плоть, но этот медленный, тяжёлый, болезненный и унизительный подъём из смрадного мрака к тусклому свету, сулившему, быть может, новые пытки и страдания, всё равно казался пану Вацлаву стремительным вознесением в сияющую высь – если не прямиком в рай Господень, то в местность, расположенную в непосредственной близости от оного. «А что, – раскачиваясь и медленно поворачиваясь на конце ползущей вверх верёвки, с внезапно воскресшим чувством юмора подумал он. – Ежели есть пригороды и слободы у Варшавы, Гданьска и иных городов, так отчего б им не быть и у Града Небесного?»
Особенно резкий рывок верёвки, сопровождавшийся ударом коленом о каменную стену, заставил его сдавленно застонать сквозь стиснутые зубы, вернув к реальности. Чьи-то сильные руки, даже не пытавшиеся быть деликатными, волоком, как мешок с картошкой, протащили его сквозь узкую отдушину в потолке каменного мешка и, грубо рванув за шиворот, поставили на ноги. В лицо ударил свет факела; зарычав от боли, Быковский зажал ладонями глаза и упал на колени. «Живой», – послышался у него над головой чей-то голос, доносившийся как будто издалека и при этом громыхавший, как катящаяся с высокой горы, набитая булыжниками железная бочка. «А смердит так, словно издох неделю назад», – заметил другой голос, такой же гулкий, громыхающий, но при этом ещё и скрипучий, как несмазанная телега. «Довольно болтать, – резко стегнул по ушам третий, в котором Быковский не без труда признал голос доверенного лакея графа, по имени Ян, – того самого мерзавца с физиономией скопца, который так ловко прикинулся монахом в доме Закревских и вдребезги разбил не только планы пана Вацлава, но и его жизнь. – Не то живо сядете на его место! А я, так и быть, не стану нюхать, чем от вас запахнет через три дня!»
Быковского подхватили с двух сторон под руки и куда-то повлекли сводчатыми каменными коридорами, винтовыми лестницами, где нечем было дышать от факельной копоти, потом снова коридорами и опять лестницами – тем же путём, каким, измученного пытками, тащили в темницу, из коей он не чаял выйти. «Три дня, – думал он, едва перебирая волочащимися ногами. – Всего три дня!» Известие о том, что проведенная им в каменном мешке вечность равнялась, оказывается, всего-навсего трём дням, нанесло сильный удар по остаткам присущего пану Вацлаву самомнения; теперь он начал сомневаться, что сумел бы продержаться в своей темнице не то что год, но хотя бы и две недели.
Он из последних сил тащился за своими тюремщиками, напоминая самому себе стариковскую мошонку, коя тяжко, вяло и бесполезно мотается меж ногами, ни на что более не способная и оттого никому не нужная, и гадал при этом, что ждёт его впереди. Впереди его могло поджидать всё, что угодно; в своё время пан Вацлав из любопытства ознакомился с пыточным арсеналом его сиятельства (не предполагая, естественно, что все эти страховидные штуковины могут в один далеко не прекрасный день быть применены к нему) и нашёл, что в данном арсенале есть всё, что когда-либо изобрели для уязвления плоти грешников и еретиков святые отцы-инквизиторы, а также кое-что сверх того – возможно, придуманное в часы досуга самим графом, фантазия которого обыкновенно работала как раз в этом направлении.
На смену надежде и страху начала приходить тупая покорность забитого, осознавшего тщету всякого сопротивления зверя, которая, в свой черёд, сменилась удивлением, когда Быковского, раздев догола, вместо пыточного застенка нежданно ввергли в большое деревянное корыто с горячей водой. Поверхность воды была укрыта толстым слоем пушистой, восхитительно благоухающей мыльной пены; чужие грубые руки скребли и тёрли его губками, отмывая грязь и смрад подземелья так же скоро, деловито и вместе с тем небрежно, как повар моет кусок свинины перед тем, как наделать из него отбивных.
Наслаждаясь процессом мытья, который, при всей его бесцеремонной грубости, ныне представлялся ему едва ли не лучшим из всего, что с ним когда-либо случалось, пан Вацлав в тот же час гадал, что сие должно означать. Случалось, и нередко, что узников перед публичной казнью приводили в порядок, дабы толпа зевак, узрев следы пыток, не прониклась к ним сочувствием. Однако перемена в судьбе Вацлава Быковского вряд ли была вызвана этой причиной: дело, что привело его в каменный мешок, было сугубо частным, интимным, не подлежащим огласке делом графа Вислоцкого, а тот скорее дал бы казнить самого себя, чем позволил вынести сор из своей избы. Опричь того, граф не стал бы доставлять удовольствие черни, казня у неё на глазах своего ближайшего подручного, коего люто ненавидела вся округа. Вот если б ему удалось изловить Струпа, что уже который год досаждал его сиятельству своими воровскими набегами, – о, тогда, конечно, казнь была бы публичной и обставленной по всем правилам сего тонкого искусства. Преступников же, подобных Вацлаву Быковскому, казнят тайно, без свидетелей, так что после никто не может с уверенностью сказать, куда они подевались и где искать их или хотя бы их могилу.
Помыв, Быковского чисто выбрили, аккуратно подравняли волосы и усы, надели на него свежее батистовое белье и чистое платье. Разбитый лоб увенчала наложенная не без изящества повязка, и, не успев перевести дух, пан Вацлав обнаружил себя за простым дощатым столом, наедине с глубокой чашей, полной наваристого куриного бульона. Он с жадностью выпил всё до капли, жалея, что это всего лишь бульон, а не добрый кусок баранины, но понимая, что после трехдневной голодовки упомянутый кусок мог бы убить его так же верно, как пущенная в живот пуля.
Покончив с бульоном, он ощутил себя заново родившимся и настолько окрепшим, что, когда возникший в тёмном проеме Ян поманил его пальцем, сумел самостоятельно подняться из-за стола. Сердце его тревожно забилось, ибо он понимал, что время неведения истекло – пробил час истины, и ему вот-вот предстояло узнать, какой будет его дальнейшая судьба.
Ян, сопровождаемый двумя стражниками, довольно долго вёл его какими-то путаными, имевшими заброшенный нежилой вид коридорами и переходами, в которых Быковский никогда прежде не бывал. Потом графский слуга отпер длинным медным ключом низенькую, окованную железом дубовую дверцу, сделал ещё несколько шагов и, отдёрнув тяжёлую, пыльную, попахивающую плесенью портьеру, почти втолкнул Быковского в некий обширный покой, оказавшийся, к его немалому удивлению, хорошо знакомым ему парадным залом графского замка.
* * *
Здесь по обыкновению жарко пылал камин, бросавший кровавые отсветы на покрытые обветшалыми драпировками каменные стены и пол. Перед камином, как всегда, стояло тяжелое кресло с высокой резной спинкой, в коем, созерцая огонь, восседал граф Вислоцкий. Картина была до отвращения знакомая и в то же время новая, непривычная, ибо Быковский взирал на неё не с обычной позиции у дверей, а с другой стороны, из угла, в котором, как ему ранее представлялось, не было ничего, кроме пыли, паутины да крысиного помета.
– Он здесь, – негромко доложил Ян, адресуясь к спинке кресла, из-за которой торчали только обтянутый алым бархатным рукавом острый стариковский локоть да освещённый пламенем носок сапога.
– Ступай, – проскрипел из-за спинки знакомый голос, от которого по спине у Быковского пробежала волна озноба. – Итак, ясновельможный пан Быковский, – продолжал граф, когда его верный слуга сгорбленной тенью беззвучно скользнул за портьеру, – надеюсь, вы понимаете, что ныне являете собою всего-навсего труп, который продолжает двигаться и говорить лишь по моей милости?
– Да, – с трудом разлепив внезапно пересохшие губы, хрипло ответил Быковский.
Да и что ещё он мог ответить? Даже имея желание и смелость перечить графу, он всё равно не сумел бы ничего ему возразить. Он целиком и полностью находился во власти старого дьявола, не имея возможности даже сослаться на Всевышнего.
– Ты всегда был понятлив, – всё так же, не оборачиваясь, проскрипел от камина граф. – А я всегда был милостив. Человеку свойственно ошибаться, пан Вацлав. Ты допустил большую ошибку, решив, что можешь водить меня за нос, да и я чуть было не ошибся, сунув в каменный мешок человека, для которого ещё не всё потеряно. Благодаря твоей глупости, ясновельможный пан Вацлав, мы оба очутились в весьма затруднительном и щекотливом положении. И только ты способен спасти нас обоих от больших неприятностей. Ведомо ль тебе, что швейцарец, которого ты упустил, ухитрился выжить, добрался до своего господина и обо всём ему рассказал? Ландграф немедля известил о случившемся своего несостоявшегося тестя, и сегодня дела наши таковы, что с минуты на минуту можно ожидать появления под стенами замка сразу трёх армий – польской, немецкой и даже русской. Эти псы мечтают лишь о том, чтобы разорвать кого-нибудь на куски; они не уйдут восвояси, пока не отведают свежей крови. Надеюсь, ты понимаешь, что меня вовсе не прельщает роль их добычи?
– О, да, – молвил Быковский, стараясь, чтобы об его иронической улыбке нельзя было догадаться по голосу.
Конечно, он понимал, что, дорожа своей старой морщинистой шкурой, его сиятельство постарается измыслить какую-нибудь хитрость. Теперь замысел графа стал Быковскому ясен: похоже, старый паук задумал отдать его, Вацлава Быковского, на растерзание псам, о которых только что говорил. Воистину, замысел был недурён: дескать, вот он, негодяй, похитивший невесту ландграфа. Я, мол, тут ни при чём, он действовал на свой страх и риск, а я, как видите, его изловил. Вот вам преступник, а вот ваша княжна…
Правда, Быковский понятия не имел, жива ли ещё его пленница. Но какое, в сущности, это имело значение? Графу-то всё едино, за что казнят пана Вацлава – за одно только похищение или ещё и за убийство!
– Я понимаю, – сказал он, поскольку Вислоцкий молчал и, казалось, ждал его реплики. – Я виноват перед вами и готов понести ту кару, которую вы мне назначите. Отдайте меня им, и пусть они, удовлетворившись мною, оставят вас в покое!
«Давай, старый дурень, – с растущей надеждой думал он при этом, – отдай меня им! Я им такого наплету, что не миновать тебе осады, коей ты так боишься, а заодно и штурма, который сотрёт в порошок твой чёртов замок вместе с тобою! А я тем временем погляжу, как быть дальше. Недаром ведь какой-то восточный мудрец сказал, что из каждого следующего мгновения произрастает павлиний хвост возможностей!»
– Ну, что ты, мой мальчик, – все так же глядя в камин, где трещало и извивалось вечно голодное пламя, с усмешкой молвил граф. – Я не столь жесток, как ты думаешь. Разве я могу бросить на растерзание этим псам самого верного из моих слуг? Конечно, ты глуп, но глупость – не порок. Это не вина, а беда, из коей проистекают многие иные беды. Я же хочу не погубить тебя, а помочь тебе спастись. Я помогу тебе, ты поможешь мне, и разве не так надлежит поступать добрым католикам? Помнится, ты мечтал обвенчаться с этой московиткой. Что ж, поразмыслив, я пришёл к выводу, что был не прав, пытаясь тебе в этом воспрепятствовать. Венчание состоится завтра…
– Как? – не веря собственным ушам, пролепетал Быковский.
– Завтра, – с некоторым нетерпением в голосе повторил граф, – в замковой часовне, сразу же после церемонии приведения схизматки к святой католической вере.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.