Читать книгу "Дневники 1862–1910"
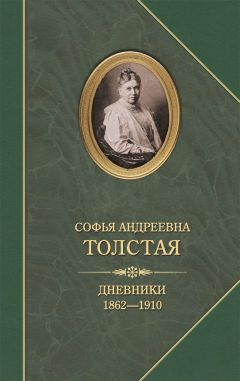
Автор книги: Софья Толстая
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Мы, женщины, не можем жить без кумиров, и ее кумир – Лев Николаевич. Мой был Ванечка, а теперь… вот и пуста жизнь. А Льва Николаевича я развенчала как кумира. У меня осталась к нему большая привязанность; мне было бы страшно тяжело, если б я лишилась этого его ежеминутного участливого отношения ко мне. Где бы он ни был, что бы ни делал, всё бежит меня искать, и мне всегда радостно его видеть. Но счастия, настоящего счастия он мне не может уж дать.
Всё то же: корректуры, купанье – утром, днем, вечером – всё одно и то же. Перед обедом кроила и слаживала блузу полотняную Льву Николаевичу, вечером сверяла и составляла оглавления последних частей. После обеда я позвала Льва Николаевича, Туркина и художника, юношу, гостившего у нас, погулять, и было хорошо с природой. Приехал Сережа на велосипеде из Никольского. Приехал Семен Иваныч на тележке для Маши. Погода чудесная: грозы, маленькие дожди, тепло, ясно, пышно, свежо, зелено.
Душевное состояние подавлено; страшными духовными силами я заглушаю всякие воспоминания. Нынче вгляделась в портрет Ванечки и расплакалась. А утешенья нет, нет и нет. Телеграмма от Левы, он тревожится о семье. Любит ли он нас? Если любит, то почему так мучает? Сколько боли он мне сделал в короткое время! Таня тоже поднялась духом. Помоги ей Бог, я очень ее люблю, чувствую и хотела бы ей помочь, да не в моей власти.
11 июня. Все бодры, веселы. Встала поздно, ночь не спала, пошла купаться с Сашей. Читала с Марьей Васильевной корректуры, с садовником занималась яблонями, прививками, цветами и посадкой елочек. Сердилась на Дуняшу за испорченную трату муки отрубной, которую я везла из Москвы для Льва Николаевича. Вечером с Таней ходила купаться, и говорили о половой любви. Ее это стало как будто тревожить, и я ужасно за нее боюсь. Она такая целомудренная по природе и, сохрани Бог, выйдет замуж за какого-нибудь нелюбимого человека или брюзглого Сухотина.
Вечером ходили по аллеям, Сережа и Семен Иваныч, который старик, тут. Все были веселы, пели, шалили, плясали. Иду домой сегодня, Сережа играет, и вдруг поднялось болезненно в сердце желание той музыки, которая приводила меня в чудесное состояние и дала столько счастья. Вечером корректуры, немного фотографии, письма и приготовления к тульской поездке. 2 часа ночи.
12 июня. Была с Сережей и няней в Туле. Получала с няней ее проценты в сберегательной кассе, с Сережей устраивали Машины денежные дела, и для Миши прошение взяли – для назначения меня его попечительницей. Потом покупки для всех. Жара, пыль и тоска ужасная! Вспоминала прошлогоднее пребывание в Туле с Таней, Сашей и Сергеем Ивановичем. Наше катанье на лодке, обед на вокзале, возвращение ночью по поезду, неожиданное появление в Туле Андрюши и беззаботное, радостное настроение.
Приехала – всех застала веселыми, села за корректуры. Потом одна пошла купаться. Когда вышла из Заказа, меня поразил закат солнца. Чисто, ясно, тихо; торжественное солнце и казавшийся особенно темным лес.
Какая красота! С грустью плавала под молочным туманом. Шла одиноко домой, было совсем темно и совсем не было жутко. Над бугорком Ванечки, где он, бывало, находил белые грибы, где мы с ним отдыхали, я всегда остановлюсь на минутку и прочту «Отче наш». Когда я теперь иду одна, то не бываю одинока – моя душа всегда с теми, кого я любила в жизни и кого уже нет со мной. И это неотъемлемо, что бы ни случилось со мной и как бы люди ни были строги ко мне.
Вечером приехала Ольга Фредерикс, и у нее с Сережей сентиментальные воспоминания о прошедшем, и оба несчастливы! Пожалуй, что Таня избрала лучшую долю.
Пересматривала с Туркиным старые фотографии, и опять сердце мое повернулось от сожаления о прошедшем.
Лев Николаевич весел и счастлив. Помоги мне Бог сохранить его спокойствие и не взять на свою совесть ничего, в чем бы я могла упрекнуть себя. Написала письмо Леве. Неприятные ошибки в оглавлении нового издания.
13 июня. Спала дурно, встала поздно, побежала купаться. Идут навстречу по дороге дети крестьянские, носили на покос обед мужикам; всё больше маленькие, и так мне они стали все милы, эти ласковые, любопытные и серьезные глазки! Вспомнила Ванечку, иду с полным слез сердцем, прихожу в купальню, Таня говорит: «А я о вас сейчас думала». Я спрашиваю: «Что именно?» – «Да о Ванечке. Если мне так тяжело его вспоминать, как он плакал, оттопырив губки, и никогда от злобы или каприза, а всегда от горя, то каково вам». Я говорю: «Ты по поводу детей его вспомнила?» – «Да». И мы обе расплакались. Как часто я в сердце Тани неожиданно слышу и чувствую отголосок моего сердца и мысли. Мы не сговорились, а пережили в один и тот же момент и по одному и тому же поводу одно и то же чувство.
Саша без меня захлебнулась около купальни в реке, и Таня ее вытащила с большим трудом в купальню. Пришла домой, зашла ко Льву Николаевичу. Он веселый и бодрый, отлично работалось ему сегодня. Потом писала часа четыре подряд, переписывая для Льва Николаевича об искусстве. Вечером опять купались, приехал Маклаков. После ужина ездили в катках на завод Бельгийской компании около Судакова и смотрели машины, смотрели, как спускали расплавленный огненный чугун. Очень интересно, но грустно смотреть на этот ад, в котором день и ночь жарятся люди. Разбитная француженка, много людей, жара, камни и железо под ногами; сорвались лошади, их ловили.
Лев Николаевич нежно заботлив обо мне, и это моя главная радость. Надолго ли? Тихая, свежая ночь, заря сходится с зарей, и воспоминания о прошлогодних поездках на катках.
Дома была большая досада: из Москвы прислали ноты не так переплетенные, а главная досада, что обложку с надписью Сергея Ивановича на его квартете сорвали и бросили. Я чуть не плакала. Льву Николаевичу моя досада была неприятна, и я старалась сдерживаться, но у меня необузданный, горячий характер, и я всё не выучусь владеть собой. Написала артельщику сердитое письмо и мало раскаиваюсь.
14 июня. С утра усердно учила Сашу; поправляла ей сочинение «О домашних животных» и перевод с английского и спрашивала урок географии «О Китае». Она учится хорошо, внимательно, и мне с ней не трудно. Я люблю преподавание, и это дело мне привычно.
Ходили купаться с Таней, Сашей и Марьей Васильевной. Потом обед, корректуры, и корректуры до самой ночи. Вечером с Сашей, мисс Вельш, m-lle Aubert и Марьей Васильевной опять бегали на Воронку купаться. Таня, Коля, Маша, Миша уехали в Пирогово верхами и в кабриолете, Маклаков и Туркин уехали в Москву. Вечером пили чай Лев Николаевич, Сережа и я.
Чувствую себя постоянно одинокой. С Львом Николаевичем общения мало. Он всё утро сидит у себя и пишет до обеда, до двух часов. После обеда уезжает на велосипеде или верхом. Потом спит; потом ходил на Козловку, провожал киевского юношу, который, кажется, хотел у нас пожить, но Лев Николаевич ему дал сильно почувствовать, что этого нельзя. Вернулся он уже после нашего ужина и ужинал один. Лег он рано, а я сижу поздно.
Живу природой и усиленным трудом; помимо этого, очень скучно и одиноко; но я стараюсь быть бодра перед другими и чувствую виноватость перед совестью и судьбой, давшей мне, относительно, все-таки так много.
15 июня. Всю ночь напролет не спала, к утру заснула, разбудили рыдания. Видела во сне, что Ванечкины игрушки разбирала с няней и плакала. Сильное горе или сильную любовь, как ни старайся, ничем не заглушишь. Бывают дни, когда жизнь не натянешь. Это как ткань, которую на что-нибудь натягиваешь: иногда жизни так много, что ее избыток, иногда точь-в-точь – сколько нужно для счастья, а иногда не хватает, не натянешь – ткань, натягиваясь, вдруг и лопнет.
Пошла, вставши, проведать Льва Николаевича. Он делает пасьянс и говорит, что ему отлично работается. Потом он посмотрел на меня с улыбочкой и говорит: «Вот ты сказала, что я сгорбился, я и стараюсь держаться прямо», – и сам вытягивается, выпрямляется.
Ночью был дождь, теперь ясно и свежий ветер. После кофе читала корректуры – скоро кончу всё. Приехали Буланже и сестра Лиза с дочерью. Я им всем рада. Несмотря на холодный северный ветер, мы два раза купались. Вечером разговоры с Буланже о Льве Николаевиче как о великом реформаторе. Мы с сестрой не соглашались с отрицанием церкви и с мыслью (в новой статье об искусстве) о том, что значение произведения искусства зависит от степени его заразительности. Вопрос заразительности кого! уже уничтожает всё. Мужика заражает гармоника и песнь, меня – соната Бетховена или «Песнь без слов» Мендельсона, Страхова – «Руслан и Людмила», т-те Хельбиг – Вагнер, башкирца – его дудка.
Холодно, ветер, облачно.
16 июня. Встала поздно, Льва Николаевича не видала до обеда. Усиленно работала над корректурами. К обеду все вернулись из Пирогова усталые. Приехала сестра Лиза, разговоры о религии. Жалею, что высказала свое мнение. Надо блюсти свято свое внутреннее отношение, самое непосредственное, к Богу: надо брать от церкви, что внесено в нее святыми отцами и самим Богом, и главное – нужны не формы, не правила нравственные или религиозные – это второстепенно, – а строгое воспитание внутреннего чувства, которое бы руководило нашими поступками, чтоб мы без компромиссов ясно и честно знали наверное, что хорошо и что дурно.
Бегала купаться на Воронку с Марьей Васильевной, моей единственной собеседницей нынешнего лета; это почти что одиночество: она вульгарна, шумна и была бы несносна, если б не ее внутренняя доброта. Вечером опять корректуры – и вот и дню конец.
Холод, пасмурно и ветер.
17 июня. Вижу сон: будто я лежу в незнакомой комнате, на незнакомой постели. Входит Сергей Иванович, меня не видит и идет прямо к столу; на столе пачка бумажек, точно оторванных от записок, счетов – небольшие клочки. Он надевает очки и поспешно пишет на этих бумажках. Я боюсь, что он меня увидит, и лежу смирно. Но исписав все клочки бумаги, он их складывает, снимает и убирает очки и уходит. Я вскакиваю с постели, беру эти бумажки и читаю. В них подробное описание состояния его души – борьба, желания, – я всё это быстро просматриваю; и вдруг кто-то застучал и я проснулась. Так я и не прочла всего. Очень было досадно проснуться, хотелось заснуть и прочесть – но, конечно, не удалось.
Опять чтение корректур, купанье в холодной воде и на холодном воздухе, одинокое возвращение домой по той дороге, на которой пережилось столько в 35 лет моей замужней жизни. После чая ходили на Козловку все: Таня, Саша, Веточка, А.А.Берс, Туркин, мисс Вельш и мисс Обер. Шли хорошо, с Туркиным говорили о философии, и он мне рассказывал о новой английской философии и ее направлении. Думала о прошлогодних прогулках на Козловку же. Какая разница! Как тогда было бодро, весело, счастливо.
Разница и в том, что вместо прошлогодней изящной, прекрасной музыки, доставляемой Сергеем Ивановичем, в настоящую минуту Лев Николаевич фальшиво и громко стучит на фортепьяно аккорды, подбирая их, чтобы аккомпанировать Мише, который на балалайке играет довольно ловко – но нелюбимые мною русские песни. И невольно просится сравнение – и неужели оно может быть в пользу последнего? Одному я рада: Миша дома и хоть этим путем у него столь редкое общение с отцом. Опять буду читать корректуру, и вот еще день из жизни вон.
С Сашей всё не ладится. Она груба, дика, упряма и измучила меня, оскорбляя всякую минуту все мои лучшие человеческие чувства. Лев Николаевич ходил к умирающему мужику, Константину, два раза сегодня. Когда мы гуляли – он успешно писал и потом ездил на велосипеде. Он весел и бодр.
18 июня. Рождение Саши, ей 13 лет. Какое тяжелое воспоминание о ее рождении! Помню, сидели мы все вечером за чаем, еще Кузминские жили у нас, и была т-те Seuron гувернанткой и сын ее Alcide (умер, бедняга, холерой); и разговорились мы о лошадях. Я сказала Льву Николаевичу, что он всё делает всегда в убыток: завел чудесных заводских лошадей в Самаре и всех переморил – ни породы, ни денег, а стоило тысячи. Это была правда, но не в том дело. Он всегда на меня нападал, на беременную, вероятно, мой вид был ему неприятен, и всё время последнее раздражался на меня. И на этот раз, слово за слово, он страшно рассердился, собрал в холстинный мешок кое-какие вещи, сказал, что уходит из дому навсегда, может быть, уедет в Америку, и, несмотря на мои просьбы, ушел.
А у меня начались родовые схватки. Я мучаюсь – его нет. Сижу в саду одна, на лавочке, схватки всё хуже и хуже – его всё нет. Пришел Лева, мой сын, и Alcide, просят меня пойти лечь. На меня нашло какое-то оцепенение от горя; пришли акушерка, сестра, девочки плачут, повели меня под руки наверх, в спальню. Схватки чаще и сильней.
Наконец в пятом часу утра возвращается. Иду к нему вниз, он злой, мрачный. Я ему говорю: «Левочка, у меня схватки, мне сейчас родить. За что ты так сердишься? Если я виновата, прости меня, может быть, я не переживу этих родов…» Он молчит. И вдруг мне блеснула мысль, не ревность ли опять какая, не подозрения ли? И я ему сказала: «Всё равно, умру я или останусь жива, я тебе должна сказать, что умру чиста и душой и телом перед тобою; я никого, кроме тебя, не любила…» Он поглядел, вдруг повернув голову, пристально на меня, но ни одного доброго слова мне не сказал. Я ушла, и через час родилась Саша.
Я отдала ее кормилице. Я не могла тогда кормить ребенка, когда Лев Николаевич вдруг сдал мне все дела, когда я сразу должна была нести и труд материнский, и труд мужской. Какое было тяжелое время! И это был поворот к христианству. За это христианство мученичество приняла, конечно, я, а не он.
Встала сегодня поздно, пошла купаться с Таней я Марьей Васильевной. Холод ужасный. Сейчас 5° только. Днем ленилась, прочла мало корректур, обдумывала и записывала материалы к повести. Вечером ездила в катках в Овсянниково, к Маше. С ней было приятно. На Козловке народ с песнями перетаскивал вагон для временного жилья – через рельсы. Были с нами Берсы, отец и дочь, и Туркин, и Саша, и две гувернантки, Марья Васильевна, и Таня с Мишей верхом. Еще позднее проявляла фотографии Саши и Веточки, которых сняла сегодня днем.
Лев Николаевич утром купался в среднем пруду, потом писал. После обеда играл в теннис с девочками и Мишей. Потом ездил один на велосипеде и верхом, выехал к нам навстречу. Пока я проявляла, он говорил с Берсом и Туркиным об искусстве: он очень этим теперь занят, и я во многом с ним совсем не согласна.
Еще Берс играл с Таней, она на мандолине, и Миша и три девочки плясали, и я с Мишей сделала тур вальса так легко, что сама удивилась. Час пробило.
19 июня. Утром, не одеваясь, начала копировать фотографии Саши с Веточкой. Потом проводила Веточку и ее отца и села за корректуры. Ходила купаться с Марьей Васильевной, вода очень холодна. Вчера вечером в 9 часов было только 50 тепла. После обеда опять корректура. Ходили на Козловку за письмами. Всё время говорила с учителем Миши Туркиным о воспитании, о типах и характерах людей.
На обратном пути встретили Льва Николаевича, провожавшего какого-то человека, сидевшего в остроге за стихотворение, написанное по поводу Ходынской катастрофы. Лев Николаевич простился тут же с ним и домой пошел с нами, чему я была очень рада. Мне нездоровится, всё бросает в жар, ноги болят – всё это, говорят все, от критического периода. Самое ужасное – это тоска, перед которой часто чувствую себя бессильной. Еще раз во мне что-то сломилось.
Неприятное: сегодня были порубки, и бедный грумонтский мужик, оборванный, просил прощения и кланялся в землю. Мне хотелось плакать, и было досадно на кого-то (сама не знала на кого), кто меня поставил в эти условия против моей воли, что я должна хозяйничать, то есть охранять леса, а чтоб их охранять, должна наказывать таких жалких мужиков. Никогда не любила, не хотела и не умела хозяйничать. Хозяйство – это борьба с народом за существование, а на это я совсем не способна.
Решили: мужиков, совершивших порубки, заставить отработать, уряднику не доносить, деревья, уже употребленные на постройку, им оставить.
Еще неприятно письмо Холевинской, ее сослали в Астрахань за запрещенные книги, которые она по записке Тани дала читать писарю в Туле. Холевинская озлоблена, измучена, просит у меня помощи. Не знаю, что еще буду делать, но очень хотелось бы ей выхлопотать прощение.
Лев Николаевич лихорадочно пишет «Об искусстве», уже близок к концу, и ничем больше не занимается. Сегодня вечером он читал нам вслух французскую комедию из «Revue Blanche».
20 июня. С утра корректуры, весь день усиленно ими занималась, и, о радость! кончила все. Шесть месяцев работала над корректурами, и сегодня конец. Хорошо ли только? Ходили купаться с Таней и Марьей Васильевной. В воде 12½ градусов, и ночи холодные. Лев Николаевич ездил вечером в Тулу послать телеграмму Черткову в Англию. Чертков что-то тревожится о чувствах Льва Николаевича к нему. Но как Лев Николаевич его любит!
Вечером играла «Песни без слов» Мендельсона и, вслушиваясь в звуки, вспоминала, как их играл Сергей Иванович. Еще позднее читала письма, полученные от Левы из Швеции и от Стасова. Потом наклеивала фотографии и написала письмо Леве.
Полное одиночество вдвоем с Львом Николаевичем было приятно, напомнило мои молодые года, с их полным, чистым душевным спокойствием, даже апатией, но зато без греха, без эмоций и страстей. Поглубже задушить всё это и потуже забить жерло, из которого всё рвется и просится наружу вулкан моей необузданной натуры.
Таня переписывала, играла на мандолине и гитаре, Саша убирала аккуратно свою комнату, варила варенье и делала букеты. Миша ездил куда-то с 22 рублями, громко пел и стучал аккорды на рояле, переодевался в Сашино платье и мало занимался.
21 июня. Не спала, встала поздно, села заниматься с Сашей. Вижу – она вся бледная, у ней тошнота, головная боль. Так жаль, но урок расстроился. Ее рвало, и она легла. У ней бывают мигрени, как у отца.
Позвала Таню и Марью Васильевну, пошли на Воронку купаться. Мерила платье, обедали. Приехали Оболенские, все играли в lawn-tennis, а я пошла одна бродить, посидела на вышке, побеседовала с Ванечкой, набрала цветов для его портрета. Иду домой, все мне навстречу, но я вернулась одна домой и села за фортепьяно расправить пальцы, хочу опять играть.
Приехал Илюша; мне очень жаль его, я знаю, что дела его очень плохи; между тем мне слепо давать деньги своим детям, не руководя их делами, невозможно. Я никогда не знаю, для чего я даю и где предел. Пробовала не отказывать – вижу, что предела их требованиям нет, а мне теперь надо уплачивать за издание и жить, и на это не хватает. Самое тяжелое в жизни – денежные дела.
Вечером ходили гулять на Грумонт, и очень было хорошо, красиво и спокойно на душе. Если нет в жизни полного, безумного счастья, если не всегда праздник жизни, то хорошо полное спокойствие, и за это надо благодарить Бога.
Мне нездоровится; с самого моего приезда сюда что-то во мне надломилось, и так я это чувствую до сих пор. Странное я в себе подстерегла чувство: точно я поджидаю предлога лишить себя жизни. Эту мысль я давно в себе воспитываю, и она делается всё зрелее и зрелее. Я ее страшно боюсь, как боюсь сумасшествия. Но я люблю ее, хотя суеверие и просто религиозное чувство мешают мне. Я верю, что это грех, и боюсь, что душа моя вследствие самоубийства лишится общения с Богом и, следовательно, с ангельскими душами, а потому и с Ванечкой. И вот иду я сегодня и думаю: напишу сотни писем и всем разошлю – самым неожиданным лицам, и расскажу в этих письмах, почему я убилась. И вот я сочиняю эту исповедь, и она так трогательна, что мне самой над собой хочется плакать… И мне теперь страшно, что я могу так сойти с ума. Теперь всякий раз, как у меня горе, или упреки, или неприятности, я радостно думаю: а вот пойду на Козловку и убьюсь, а вы там как хотите. Страдать больше не хочу и не могу, не могу, не могу, не могу, не могу. Или жить без страданий, или умереть, и даже лучшее из всего, всего – умереть. Прости, Господи!
И сейчас обед писать: суп принтаньер[101]101
Так называемый «Весенний» (от франц. prentanier).
[Закрыть]. Ах, как надоело! 35 лет, всякий день – суп принтаньер… Я не хочу больше писать «суп принтаньер» и тому подобное, а хочу слушать самую трудную фугу или симфонию, хочу всякий день слушать самую сложную, гармоничную музыку, чтоб вся душа моя напрягалась от внимания и усилия понять, что автор хотел выразить этим таинственным, сложным музыкальным языком, чем он жил в самой глубине своей души, когда сочинял эти произведения.
Миша и Илья стучали на гитаре и рояле аккорды и громко кричали русские песни… Как речью можно выражать простые потребности – хочу есть, хочу плясать, хочу целовать – или самые сложные философские соображения – какое мое отношение к вечности? существует ли связь между моей душой и вечным началом, Богом? каково это отношение?.. – так и в музыке можно. Простая мелодия, песнь – это простые слова, они понятны и Илье, и Мише, и мужику, и ребенку. Сложная музыка, симфония, соната – это философская речь, доступная только тонко развитому человеку. Как дорого бы я дала, чтоб вместо этой стукотни опять заслышать эти изящные звуки, которыми я жила прошлое лето. Да, то был праздник жизни. Спасибо судьбе и за те воспоминания.
22 июня. Прекрасный ясный летний день. С утра играла на фортепьяно гаммы, этюды и упражнения. Потом купались. Обедали Илья и Коля Лопухин. Потом опять час играла. После чая ходили мы, одни женщины, гулять.
Саша грубо ворчала за то, что я ее отозвала от тенниса, на который она только смотрела.
Таня пошла с нами, догнала нас, и я ей очень обрадовалась. Она говорит: «Меня всё больше и больше тянет к вам, и я наконец так притянусь, что войду в первобытное состояние и начну вас опять сосать». Я тоже всё больше и больше привязываюсь к ней. Илье я не дала денег, и он мне всё говорил неприятное. Что напрасно отдал мне Лев Николаевич имение по купчей, а не пожизненно; что я к старости буду деньги любить, и т. п. Боже мой! Неужели только и отношений с большими сыновьями, что деньги и деньги! От Андрюши тоже – только дай денег и денег! Ужасно!
Вечером написала шесть писем: Стасову, Холевинской, Андрюше, Кушнереву, типографу, Раевской и в магазины.
23 июня. Природа наконец всю меня охватила своей красотой и вытеснила из меня много тяжелого, чем страдала душа, и осветила мою жизнь. Я долго была к ней тупа и равнодушна нынешнюю весну, всё смотрела внутрь себя, а теперь это прошло, и так хорошо! Покос везде, запах сена, ясные дни, тоненький, ясный серпок луны (сегодня в Воронке отражался), пестрый народ, котлы на рогатках, шалаши в поле (ночлеги покосников), скотина отъевшаяся, и темная, зрелая и очень богатая в нынешнем году листва дерев.
Утром час играла упражнения, потом пошли купаться. После обеда от третьего до седьмого часа переписывала для Льва Николаевича статью «Об искусстве». Написала очень много. После чаю ходили все гулять на Горелую Поляну, потом вышли на мост, на шоссе. Под мостом пройди вдоль по речке – новая купальня; мы с Сашей купались, холодно, но хорошо. Домой вернулись в катках, Лев Николаевич нас встретил на велосипеде и потом жаловался, что устал. За обедом Миша резко разговаривал с Иваном, лакеем, отец ему заметил, Миша продолжал в том же тоне, и Лев Николаевич рассердился, взял свою тарелку и ушел к себе. Очень было неприятно. Получила от Андрюши письмо – опять требования денег, и только от него и толку. Какое всё горе от детей! Только Таня горя не делает, от нее больше всего радости, но пока.
Вернувшись, нашли Марью Александровну. Она фанатически обожает Льва Николаевича и им только и живет. В этом обожании она черпает силы, которыми живет, работает и всё переносит. А то где бы ей взять эти силы с ее истощенным, худеньким телом и ее болезнью? Какая сила во всякой любви! Это прямо стержень, на котором держится всякая жизнь.
Вечером, после ужина, Лев Николаевич прочел о последних днях Герцена, я дописала для Льва Николаевича свою главу, много говорили и вспоминали о Николае Николаевиче Ге и спорили о его «Распятии». Я ненавижу эту картину, а Лев Николаевич и Марья Александровна ее хвалили. Мы вдавались в крайности, и потому разговор этот скоро прекратился. Получила письмо от Левы из Швеции.
24 июня. С утра дождь, встала поздно, всю ночь болела правая рука. Очень хорошо учила Сашу, и она была внимательна. Ей, главное, нужно не учение, а развитие, о чем я и стараюсь. Мы учились часа два. Потом сидела с Марьей Александровной и перешивала свое платье – рукава; мы с ней говорили о семейных наших делах, она очень участлива и добра. Ездила в катках с Сашей, Марьей Васильевной, мисс Белый и Обер купаться. Лошади заминались, и было несносно. Вода холодная, чистая и прибыла от дождя. Лев Николаевич страшно сосредоточен в своей работе, и весь мир для него не существует. А я как была всю жизнь одинока с ним, так и теперь. Я нужна ему ночью, а не днем, и это грустно, и поневоле пожалеешь о прошлогоднем милом товарище и собеседнике.
Лев Николаевич ездил верхом один в Овсянниково, потом всё сидел внизу. Я вошла к нему – он пасьянс разложил. Играла, когда никого дома не было, две сонаты Бетховена и «Песнь без слов» Мендельсона; ею я всегда заканчиваю – как молитвой, я очень ее люблю. От ужина до сих пор переписывала для Льва Николаевича и очень много переписала. Теперь два часа ночи, иду спать.
От Сухотина письмо – умерла его жена. Очень тяжелы мне и Льву Николаевичу эти отношения и переписка Тани с Сухотиным.
25 июня. Ночь уж эту совсем не спала, всё бросает в жар, точно обдает всю жарким паром. Трудное я физически время переживаю. Играла часа два с лишком сонаты Моцарта и упражнения разные. Переписала много Льву Николаевичу. Не нравится мне его статья, и мне это очень жалко. Какой-то неприятный, даже злой задор в его статьях. Так я и чувствую, что нападает он на воображаемого врага (хотя бы Сергея Ивановича, к которому так ревнует меня), и вся цель его – уничтожить этого врага.
Ходила пешком купаться на Воронку, тихо радовалась природе и даже не разговаривала с Марьей Васильевной. День прошел, как и всё лето идет – вяло и скучно. Приезжали Маша с Колей, пришла Надя Иванова. И люди, и всё – тускло, тускло… Читаю французскую книжку отвратительную – просто валялась, я взяла и ужаснулась сладострастному ее содержанию. Уже заглавие одно: «Aphrodite» [Луи Пьера]… До чего развращены французы! Но зато какую верную оценку можно сделать женской и своей красоте тела, прочтя эту книгу.
Большое счастье – неведение, в котором красивая женщина находится до старости о своей красоте, особенно тела, это оставляет в ней чистоту и свежесть моральную. А такие книги – гибель.
26 июня. Жара, покос, сильно болит голова. С утра ходила купаться с Надей Ивановой и говорила ей о том, что внутри, в самой глубине души каждого человека есть двигатель его жизни. У мужчин – любовь к славе, нажива, у редких – искусство, наука в чистом виде; у женщин главное – любовь, иногда фанатизм. В Шамордине монахиня посадила два дерева косточками апельсина, который ел отец Амвросий и плевал их. Она обожает эти два дерева и живет ими; а была курсистка, дворянка. Марья Александровна Шмидт боготворит Льва Николаевича. Лев Николаевич любит больше всего славу и т. д.
После обеда играла с мисс Белый, буду учить сонату Бетховена в mi b. majeur. Очень приятно с ней заниматься. Таня и Саша ездили в Тулу. Приехал Сережа, завтра с Сашей еду к нему и к Илье. Весь вечер переписывала Льву Николаевичу. Его почти не видала, как всегда. Он ездил на велосипеде в Тулу, отдал его чинить, оттуда вернулся частью пешком, частью на обратных телегах. Здоровье мое всё хуже и хуже.
30 июня. Вчера вечером вернулась от Сережи и Илюши, куда ездила с Сашей; хотела провести с Сережей день его рожденья, 28-го, и дать ему менее почувствовать его одиночество именно в этот день. Он мне очень жалок и трогателен тем, что несчастие его так смягчило: он кроток, тих и грустен, к людям более снисходителен и ласков. А сбежавшая сумбурная жена его ждет родов его ребенка и своим ледяным сердцем ни разу не пожалела своего мужа, ничем перед ней не виноватого[102]102
Никто не мог понять, почему вскоре после свадебного путешествия Мария Константиновна Рачинская уехала от мужа. Сына Сергея она родила в июле 1897 года.
[Закрыть].
Жизнь Ильи и он сам на меня произвели безотрадное впечатление: четверо прекрасных детей (особенно Миша хорош), и какие будут те идеалы, которые им ставит отец? Лошади, собаки? Как подвывали гончие? Гоняли ли Бархатного? А потом при всяком удобном случае выпивка бог знает с каким сбродом – и больше ничего. Если он не изменится, плохие вырастут дети. Соня, жена его, смутно это чувствует, и ее жалко. Она всячески выбивается из всего этого, много трудится – и он ей ни в чем не помощник, и она не справится одна с жизнью и с воспитанием детей.
В Никольском у Сережи – чудесная прогулка по живописным местам, гости, разговоры о теории музыки; он мне кое-что сообщил о своих знаниях и дал прочесть кое-какие музыкальные брошюры и учебники. Рада была провести день с Варей Нагорновой. Читала на железной дороге книгу ужасную – «Полудевы» Прево – и почувствовала и стыд, и какое-то недомогание, почти физическое, которое у меня бывает, когда я прочту грязную книгу. Как ужасно отсутствие чистоты в любви, а как и самая возвышенная любовь приходит к тому же, к желанию обладания и близости! Но во французской книге не падение женщин огажено, а этот полуразврат, то есть всё, только не самый последний шаг, и это хуже уж всего.
Вернувшись, застала Таню на Козловке; она ехала к Олсуфьевым, и я рада, что она хоть на время выйдет из своего тяжелого состояния, в которое попала под влиянием Сухотина, и хоть рассеется и увидит порядочных людей.
Дома застала Мишу в дизентерии очень сильной, и никто ему не помог ничем: Маша занята мужем молодым, Таня – отъездом, а отец… У моих детей давно нет отца. Сам же Лев Николаевич очень неприветлив, неприятен, и я очень огорчена тем, что увидала еще и еще, как спокойно равнодушен он ко мне и моей жизни, когда я сижу в семье и никого не вижу; и как для того чтоб замечать и ценить меня, ему нужно, чтоб была опасность потерять мою любовь или разделить ее, хотя самым чистым и невинным образом, но с другим человеком. Как будто то, что я никого не вижу, может уничтожить в душе привязанности к другим или усилить их к нему!
Изо всего дня только и было сегодня приятного – разговор с Туркиным. Говорили о воспитании и характерах детей, об «Эмиле» Руссо. Потом о путешествиях, о Крыме он мне рассказал. Я много шила, и как-то пуст был день. Дождь льет с утра, и ничто не веселит.
2 июля. Вчера не писала. Заболел Лев Николаевич желудочно-желчным припадком. Я сидела, переписывала его же статью, прибежал Миша испуганный, говорит: «Папа кричит и охает от боли». Прихожу вниз, он сидит согнувшись и охает, и пот с него так и льет, пришлось тотчас же рубашку сменить. Сейчас же мы с Машей и Мишей принялись хлопотать: припарки из льняного семени, сода, ревень. Ничего не помогало, и всякие внутренние средства вызывали рвоту, а от рвоты – нестерпимые боли. Всю ночь он не спал, боль продолжалась, и мне ночью страшно стало за его жизнь. Я почувствовала, как я вдруг стану страшно одинока без него; и хотя я часто страдаю от того, что он любит меня физически больше, чем морально, но если не будет его постоянного участия, мне и жить не будет хотеться. Сегодня я перевязываю ему компресс, он ласкает рукой мои волосы, и потом, когда я кончу, он целует мои руки и всё следит за мной глазами, когда я убираюсь или готовлю ему что-нибудь в комнате.









































