Читать книгу "Дневники 1862–1910"
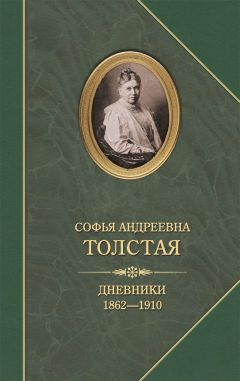
Автор книги: Софья Толстая
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
1887
3 марта. Встревожило известие о бомбах, найденных в Петербурге у четырех студентов, которые хотели их бросить государю проездом с панихиды по отцу[56]56
Имеется в виду покушение на Александра III, совершенное 1 марта 1887 года.
[Закрыть]. Так встревожило, что весь день не опомнюсь. Это зло породит целый ряд зол. А как мне теперь тревожно всякое зло! Левочка уныло и молчаливо принял это известие. У него это уже прежде переболело.
Успех драмы [ «Власть тьмы»] огромный, и мы оба с Левочкой спокойно относимся к нему. Писала дневник, когда она была начата, и потом так много пришлось переписывать, что дневник прекратила.
11 ноября умерла моя мать в Ялте (там и похоронена). 21-го я переехала с семьей в Москву. Левочка написал повесть из времен первых христиан[57]57
«Ходите в свете, пока есть свет. (Повесть из времен древних христиан)».
[Закрыть], теперь работает над статьей «О жизни и смерти»[58]58
Так первоначально назывался трактат Толстого «О жизни».
[Закрыть]. Он жалуется часто на боль под ложечкой.
Мы мирно и счастливо прожили зиму. Вышло новое дешевое издание. Интерес мой к этому делу совсем пропал. Деньги радости не дали никакой – да я это и знала. Поступила новая англичанка, miss Fewson, Маша больна. Я читала ей «Короля Лира» вслух. Люблю Шекспира, хотя он часто необуздан и границ не знает, например, в бесчисленных убийствах и смертях.
6 марта. Переписала «О жизни и смерти» и сейчас перечла внимательно. С напряжением искала новое, находила меткие выражения, красивые сравнения, но основная мысль для меня вечно несомненная – всё та же. То есть отречение от материальной, личной жизни для жизни духа. Одно для меня невозможно и несправедливо – это то, что отречение от личной жизни должно быть во имя любви всего мира, а я думаю, что есть обязанности несомненные, вложенные Богом, и от них отречься не вправе никто, и для жизни духа они не помеха, а даже помощь.
На душе уныло. Илья очень огорчает своей таинственной и нехорошей жизнью. Праздность, водка, часто ложь, дурное общество и главное – отсутствие всякой духовной жизни. Сережа уехал опять в Тулу, завтра заседание в их Крестьянском банке. Таня и Лева огорчительно играют в винт. С меньшими детьми я потеряла всякую способность воспитывать. Мне их всегда ужасно жаль, и я боюсь их избаловать. У меня старческий страх за них и старческая нежность к ним. Желание же и важность образования их остались всё так же сильны. Точки опоры в жизни у меня теперь нет никакой; но есть прекрасные минуты одинокого созерцания смерти и иногда ясное понимание раздвоения материального и духовного сознания, себя и несомненность вечной жизни того и другого.
Левочка иногда собирается в деревню, но опять остается. Я всегда молчу и не считаю себя вправе вмешивать свою волю в его действия. Он очень переменился; спокойно и добродушно смотрит на всё, принимает участие в игре в винт, садится опять за фортепьяно и не приходит в отчаяние от городской жизни.
Было письмо от Черткова. Не люблю я его: не умен, хитер, односторонен и недобр. Л. Н. пристрастен к нему за его поклонение. Дело же Черткова в народном чтении, начатое по внушению Л. Н., я очень уважаю и не могу не отдать ему в этом справедливости[59]59
Имеется в виду книгоиздательство «Посредник», основанное Толстым вместе с В.Г.Чертковым и П.И.Бирюковым в 1884 году, чтобы печатать художественную и научно-популярную литературу для народного чтения.
[Закрыть].
Фейнерман опять в Ясной. Он бросил где-то жену беременную с ребенком без средств и пришел жить к нам. Я за семейный принцип, и потому для меня он не человек и хуже животного. Как бы фанатичен он ни был, какие бы мысли и прекрасные слова он ни говорил – факт оставления им семьи и питанья на счет дающих ему остается несомненен и чудовищен.
9 марта. Левочка пишет новую статью «О жизни и смерти» для чтения в университете в Психологическом обществе. Вот уже неделя, как он опять вегетарианец, и это уже сказывается на его расположении духа. Он сегодня нарочно начинает с кем-нибудь при мне заговаривать о зле денег и состояния, намекая на мое желание сохранить его для детей. Я молчала, но потом вышла из терпения и сказала: «Я продаю 12 частей за 8 рублей, а ты одну “Войну и мир” продавал за 10». Он рассердился и замолчал. Так называемые друзья, новые христиане, страшно восстанавливают Л. Н. против меня и не всегда безуспешно.
Перечла я письмо Черткова о его счастье в духовном общении с женою и соболезнование, что Л. Н. не имеет этого счастья и как ему жаль, что он, столь достойный этого, лишен такого общения, – намекая на меня. Я прочла, и мне больно стало. Этот тупой, хитрый и неправдивый человек, лестью опутавший Л. Н., хочет (вероятно, это по-христиански) разрушить ту связь, которая скоро 25 лет нас так тесно связывала всячески! Когда Лев Николаевич был болен, эти два месяца мы жили по-старому. Я видела, как он отдохнул душой и как в нем проснулось это старое творчество. И он написал драму. Путы его притворно-слащавых новых христиан снова опутывают его, и он уже порывался в деревню, и я видела, как потухал этот огонь и как это действовало на его душу. Отношения с Чертковым надо прекратить. Там всё ложь и зло, а от этого подальше.
Сегодня гости – молодежь. Обедали, а потом винт. Какое грустное явление этот всемирный винт! Холодно, до 14° мороза по ночам.
14 марта. Москва. Сижу совсем одна, кругом тихо, и мне очень хорошо. Трое маленьких спят. Таня, Маша и Лева в гостях у Татищевых. Илья сидит три дня наказан в казармах за то, что опоздал на учение[60]60
Илья отбывал воинскую повинность вольноопределяющимся в Сумском драгунском полку, стоявшем в Хамовнических казармах.
[Закрыть].
А Лев Николаевич уехал с Ге (сыном) в университет, в Психологическое общество, будет читать свою новую статью «О жизни и смерти». Мы с Ге спешили ее переписывать, и я весь день сегодня писала.
Л.Н. нездоров, боли и нытье в желудке, расстройство пищеварения – и при этом самое бестолковое питание, то жирное, то вегетарианское, то ром с водой и проч. В духе он унылом, но добром. Был посланный из Петербурга господин за костюмами в Ясную Поляну для драмы нашей[61]61
В конце 1886 года актриса Александрийского театра Мария Гавриловна Савина обратилась к Толстому с просьбой разрешить поставить в ее бенефис драму «Власть тьмы». В феврале 1887 года в Александрийском театре началась подготовка к постановке пьесы.
[Закрыть]. Вчера получила письмо от Потехина, что не наверное еще пропустят ее на сцене. Но репетируют и всё готовят. Колеблюсь, ехать ли на генеральную репетицию. И хочется, и страшно дом оставить. Еще не решила. Как будет здоровье Левочки.
Была с детьми на коньках – не каталась. Все молодые радости отпадают понемногу. Левочка много работал над этой статьей, и она очень мне нравится. Он второй раз уже в университете – стал делать отступления от разных предвзятых правил: комнату часто убирает Григорий, пищу, когда нездоров, ест и мясную; когда мы играем в винт, присаживается и он. Пропало упорство, и пропало дурное расположение духа, стал веселее и добрее. За продажу книг тоже не сердится, рад, что 8 рублей издание.
30 марта. Здоровье Левочки всё нехорошо. Боль под ложечкой продолжается третий месяц. Я решилась пригласить Захарьина и написала ему. Но Л. Н. предупредил приезд Захарьина и вчера вечером пошел к нему. Захарьин нашел катар желчного пузыря и вот что предписал; записываю для памяти:
1) Ходить в теплом.
2) Фланель немытую на весь живот.
3) Масла совершенно избегать.
4) Кушать часто и понемногу.
5) Эмс Кренхен или Кесельбрунн свежего привоза по пол стакана три или четыре раза в день подогретый: 1) натощак, 2) часа спустя и час до завтрака и 3-й – за час до обеда. Три недели подряд. Потом перестать, позднее повторить, если нужно. Пить так тепло, как можно сразу, чтоб не обжечься, теплей парного молока.
6) Бороться со слабостью куренья.
18 июня. Меня упрекают многие, что я не пишу своего журнала и записок, так как судьба поставила меня в столкновение с таким знаменитым человеком, как Лев Николаевич. Но как трудно отрешиться от личного отношения к нему, как трудно быть беспристрастной и, наконец, как страшно занято всё мое время – и всю жизнь так. Думала, буду свободна это лето и займусь перепиской и разборкой рукописей Льва Николаевича. А вот больше месяца, что я тут, и Лев Николаевич всецело занял меня переписываньем для него статьи «О жизни и смерти», над которой он усиленно трудится уж так давно. Только что перепишешь всё – опять перемарает, и опять снова. Какое терпение и последовательность.
А нужно бы писать записки, хотя бы для того, чтоб многое непонятное в его жизни объяснять. Например, было написано письмо к Энгельгардту, оно ходит в рукописи. Лев Николаевич никогда не видал молодого Энгельгардта, который, как и многие другие, написал письмо Льву Николаевичу как известному писателю. Но Л. Н. был мрачно настроен. Проводя мысли свои в писании, он хотел и не мог провести их в жизни, он чувствовал себя одиноким и несчастным, и он излил, как бы в дневник, мысли свои в письме к незнакомому человеку.
Еще странны его отношения и переписка с людьми, которых репутация ужасна, которых просто считают бесчестными – как Озмидов, например. Я на днях, увидав на конверте адрес Озмидову, спросила Льва Николаевича, почему он продолжает свои отношения и переписку, зная, что это дурной человек. Он мне ответил: «Если он дурной, то я ему еще более, чем другим, могу быть нужен и полезен». Этим объясняются его сношения с многими нехорошими, неясными и часто совсем незнакомыми (темными) людьми, которые бывают у нас в огромном количестве.
Вчера еще приходил студент-медик 4-го курса, отчаянный революционер, которому Л. Н. внушал заблуждение революции. Убедил ли он его – не знаю. Этого я не видала.
Сегодня получено много писем из Америки, статья Кеннана в «Century» о посещении его Ясной Поляны и о разговорах Льва Николаевича и еще печатный отзыв о переведенных произведениях Л. Н. Всё очень лестное и симпатизирующее. Ужасно странно и приятно в такой дали находить такое верное понимание и сочувствие[62]62
Американский путешественник и писатель Джордж Кеннан посещал Толстого 17 июня 1886 года, рассказывал о жизни политических ссыльных в Сибири и беседовал с Толстым об учении непротивления злу насилием.
[Закрыть].
Левочка ушел в Ясенки пешком с двумя дочерьми и двумя кузминскими девочками. Идет дождь, я послала за ними катки и платья. Левочка без окружавших его апостолов, Черткова, Фейнермана и др., стал тем же милым, веселым семейным человеком, каким был прежде. На днях он с увлечением проиграл на фортепьяно весь вечер: Моцарта, Вебера, Гайдна, со скрипкой. Он видимо наслаждался. На скрипке играл юноша 18 лет, которого я взяла для Левы учителем игры на скрипке, по его желанию. Юноша этот, Ляссота, из Московской консерватории.
Приехавши из Москвы 11 мая, я настояла, чтоб Левочка пил воды по предписанию Захарьина, и он повиновался. Я подносила ему молча стакан подогретого Эмса, и он молча выпивал. Когда бывал не в духе, говорил: «Тебе скажут, что нужно вливать что-то, ты и веришь. Я это делаю, потому что вред будет небольшой». Но он пропил все три недели и к вегетарианству не возвратился. На мой взгляд, здоровье его очень поправилось; он много ходит, стал сильнее и только спит недостаточно, часов семь; я думаю, это от слишком усидчивой умственной работы.
Его радует его успех или, скорее, сочувствие к нему в Америке, но успех и слава вообще влияют на него мало. Вид у него теперь счастливый и бодрый, и он часто говорит: «Как хороша жизнь!»
Скучаю об Илюше и мучаюсь, что до сих пор его не навестила. Но он последний год этот показывал так мало потребности сношений с семьей, так далек был от всех нас, что не думается, что мы нужны ему. Бедный он, сбился как-то, нравственно опустился и оттого такой подавленный и жалкий. Поеду на этих днях к нему.
Ко мне приходит ежедневно пропасть больных. С помощью книги Флоринского [ «Домашняя медицина. Лечебник для народного употребления»] я лечу всех; но что за нравственное мучение – это бессилие иногда понять, узнать, в чем болезнь и как помочь! Иногда мне поэтому хочется бросить это дело, но выйдешь, видишь это трогательное доверие, эти больные умоляющие глаза, и станет жалко, и с упреком совести, что делаешь, может быть, совсем не то, даешь лекарства и стараешься не вспоминать об этих несчастных. А на днях у меня не было того средства, которое было нужно, и я дала записку в аптеку и деньги на лекарство. Больная вдруг заплакала, отдала деньги и говорит: «Я, видно, помру, а деньги возьмите, дайте кому победнее меня, спасибо, а мне не надо».
21 июня. Наконец жара, и купалась в первый раз. Вчера вечером приезжал познакомиться с Львом Николаевичем актер Андреев-Бурлак. Он рассказывал вроде рассказов Горбунова, из крестьянского быта. Все разошлись, остались мы с Львом Николаевичем и Левой и сидели до второго часа ночи. Рассказы были удивительно хороши, и Левочка так смеялся, что нам с Левой стало жутко. Сегодня он всё переправлял свою статью «О жизни и смерти» и после обеда косил в клинах, в саду.
Я читала Страхова книгу против спиритизма[63]63
Н.Страхов. «О вечных истинах (Мой спор о спиритизме)».
[Закрыть], тяжело читается и, увы, неубедительно – или я плохо понимаю. Днем, до купанья, собрала молодых своих и читала им «Герой нашего времени». Какие там есть замечательные и уже созревшие мысли! Очень люблю Лермонтова. Если, по преданию, он и был желчный и неприятный человек, то ведь он был так умен и так выше уровня людей! Его не понимали, а он видел всех и всё насквозь.
Чувствую себя слабой и физически, и нравственно. Подавлена наплывшими на меня воспоминаниями и сожалениями. Это хуже всего.
2 июля. Была в Москве, поехала к Илье и так рада была увидать его добродушное лицо! Он, видно было, обрадовался мне тоже. Живет он в избе, хозяева его любят, но живет как-то бестолково. Мне как матери, которая когда-то кормила его грудью, стало жаль, что он, платя долги деньгами, которые я ему даю, ест в долг закуски и сладости и никогда не обедает. Но он этим не тяготится. Весь интерес его жизни – это Соня Философова; он живет воспоминаниями, перепиской и будущим. Теперь он тут, был на охоте, убил трех бекасов и завтра уезжает. Мне очень грустно, но надо привыкать, что птенцы из гнезда улетели.
Страхов у нас; как умен, тих и приятен! Левочка занимается покосом и три часа в день пишет статью[64]64
«Трактат о жизни».
[Закрыть]. Дело к концу. На днях Сережа играл вальс, пришел Левочка вечером, говорит: «Пройдемся вальс». И мы протанцевали к общему восторгу молодежи. Он очень весел и оживлен, но стал слабее и устает более прежнего от покоса и прогулок. У него длинные разговоры со Страховым о науке, искусстве, музыке; сегодня о фотографии говорили, потому что я привезла и буду заниматься фотографией, снимать виды и всю семью нашу. Таня, дочь, в Пирогове.
3 июля. Сережа играет «Крейцеровскую сонату» Бетховена со скрипкой (Ляссоты); что за сила и выражение всех на свете чувств! На столе у меня розы и резеда, сейчас мы будем обедать чудесный обед, погода мягкая, теплая, после грозы, кругом дети милые – сейчас Андрюша старательно обивал свои стулья в детскую, потом придет ласковый и любимый Левочка – и вот моя жизнь, в которой я наслаждаюсь сознательно и за которую благодарю Бога. Во всем этом я нашла благо и счастие. И вот я переписываю статью Левочки «О жизни и смерти», и он указывает совсем на иное благо. Когда я была молода, очень молода, еще до замужества, я помню, что стремилась всей душой к тому благу – самоотречения полнейшего и жизни для других, стремилась даже к аскетизму. Но судьба мне послала семью – я жила для нее, и вдруг теперь я должна признаться, что это было что-то не то, что это не была жизнь. Додумаюсь ли я когда до этого?
Вчера уехал Страхов, сегодня Илья. Вчера делали с Сережей опыты с фотографией, которую я купила.
19 июля. Прошло несколько бестолковых дней. Сережа ездил в Самару и вернулся, не устроив там ничего. Был Голохвастов., крайне православный и славянофил; происходили у них с Львом Николаевичем разговоры о религии и церкви. Очень было неприятно. Голохвастов рассказывал с пафосом о прекрасном соборе в Новом Иерусалиме (Воскресенске), что там бывает до 10 тысяч человек богомольцев и о красоте постройки. Л. Н. слушал, слушал и сказал: «И все они приходят смеяться над Богом». Сказано это было с иронией и даже злобой. Я вступилась, говорила, что это гордость говорит, что 10 тысяч человек смеются, а он один прав, исповедуя свою веру, а что надо же допустить, что какой-нибудь более высокий мотив заставил этих людей собраться в храме.
После обеда Голохвастов заговорил о патриархе Никоне, как интересна его жизнь и личность. Лев Николаевич читал газету, а потом вдруг высказал опять тем же тоном: «Он был мужик, мордвин, и если ему было что сказать, то что же он не говорил». Тогда Голохвастов вспыхнул и сказал: «Или вы смеетесь надо мной, или – я привык уважать слова других – и тогда я, может быть, и задумался бы об этом вопросе». Вообще было тяжело.
Был Буткевич, бывший революционер, сидевший в первый раз в тюрьме по политическим делам и второй раз по подозрению. Молодой человек, сын тульского помещика, он писал Льву Николаевичу, что когда вышел из острога, одна его знакомая дама сделала вид на улице, что его не узнала, и ему это было больно. Прежде, когда он приходил ко Льву Николаевичу, я его не звала, и он сидел внизу; теперь же мне его стало жаль, я позвала его чай пить. Потом он жил тут два дня и очень мне не понравился. Упорно молчит, неподвижное лицо, очень черный брюнет, синие очки и кривой глаз. Из немногих слов ничего нельзя извлечь, никакого взгляда его на что бы то ни было. Теперь он один из толстоистов.
Как мало симпатичны все типы, приверженные учению Льва Николаевича! Ни одного нормального человека. Женщины тоже большей частью истерические. Вот сейчас уехала Мария Александровна Шмидт. В старину это была бы монахиня, теперь это восторженная поклонница идей Льва Николаевича. Она была классная дама Николаевского института, вышла, потому что отпала от церкви, и теперь живет в деревне, и только перепиской сочинений, запрещенных, Льва Николаевича. Когда она встречает или расстается с Л. Н., то истерически рыдает. Павел Иванович Бирюков тоже тут: он из лучших, смирный, умный и тоже исповедующий толстоизм.
Еще приехала Голохвастова с воспитанницей и племянник Андрюша с учителем. Очень шумно, тяжело и скучно. Хотелось бы семейного одиночества и больше серьезности жизни и досуга. Гости отняли и отнимают всё время. Был еще Абамелек[65]65
Имение князя Абамелек-Лазарева находилось неподалеку от Ясной Поляны.
[Закрыть], привозивший Хельбигов – мать с дочерью; она урожденная княжна Шаховская, замужем за профессором немецким; тоже приезжали смотреть русскую знаменитость – Толстого. Хотя они оказались очень приятные и очень хорошие музыкантши, но это тяжелая повинность – никогда не выбирать людей и друзей и принимать всех и вся.
Жара утром, свежесть ночью. Купаемся, изобилие плодов.
4 августа. Сегодня уехала графиня Александра Андреевна Толстая, гостила с 25 июля. У Левочки был сильный желчный пароксизм. Начался 16 июля, до сих пор не совсем здоров. Вчера вечером повез Бирюков статью «О жизни» в печать. Слова «и смерти» выкинул. Когда он кончил статью, то решил, что смерти нет.
Были дожди, теперь прояснилось немного.
19 августа. Был художник Репин, приехал 9-го, уехал 16-го в ночь. Он написал два портрета Льва Николаевича; первый начал в кабинете, внизу, остался им недоволен и начал другой наверху, в зале, на светлом фоне. Портрет удивительно хорош. Он пока у нас сохнет. Первый он кончил на скорую руку и подарил мне.
Начали печатать статью, но шрифт нехорош, будут перебирать набор. Здоровье Левочки удовлетворительно, но иногда жалуется на боль печени. Погода ясная, чудесная. Илья приезжал на 15-е и 16-е, здоров и весел бесконечно – и то хорошо. А то бывает, что плох человек да еще мрачен и болен. Меня мучает беременность и физически, и нравственно. Левочка здоровьем пошел под гору, а жизнь семейная усложняется; и своих сил нравственных всё меньше и меньше.
Приехал Степа, брат, с женой, вчера поехал в Петербург хлопотать о переводе его в Россию, а она тут. Не поймешь, какая она – очень сдержанна и старательна. У Левочки темные люди: Буткевич, Рахманов и студент киевский. Народ всё несимпатичный и чуждый, тяжелый в семейной жизни. И сколько их бывает! Повинность ради Левочкиной известности и новых его идей.
По вечерам читает нам всем вслух сам Левочка «Мертвые души» Гоголя. У меня невралгия.
25 августа. Весь день отбирала и разбирала рукописи Левочки, хочу свезти их в Румянцевский музей на хранение. Мучительно разбирать путаницу, которую наверное ни разобрать, ни наполнить нельзя. Хочу еще отвезти туда же письма, дневники, портреты и всё, что касается Льва Николаевича. Я поступаю благоразумно, но мне почему-то грустно это делать. Или я умру, что привожу всё в порядок?
У нас гостят Степа с женой и милый Страхов. Жара ужасная, у меня болит горло. Левочка слаб и начал 20-го опять пить Эмс. Приехала Верочка Толстая и Маша за деньгами для брата Сережи. Левочка всё сидит над статьей, но энергия его как будто упала для этой работы.
Принес этот цветок мне Левочка в октябре 1890 года, в Ясной Поляне[66]66
В дневнике приклеен засушенный цветок. Последняя фраза приписана позднее.
[Закрыть].
1890
20 ноября, Ясная Поляна. Переписываю дневники Левочки за всю его жизнь и решила, что буду опять писать свой дневник: тем более что никогда я не была более одинока в семье своей, как теперь. Сыновья все врозь: Сережа – в Никольском, Илья с семьей – в Гриневке, Лева – в Москве, и Таня туда уехала на время. Живу с маленькими и воспитываю их. С Машей никогда у нас связи настоящей не было, кто виноват – не знаю. Вероятно, я сама. А Левочка порвал со мной всякое общение. За что? Почему? Совсем не понимаю. Когда он нездоров, он принимает мой уход за ним как должное, но грубо, чуждо, ровно настолько, насколько нужны припарки и проч. Всеми силами старалась и так сильно желала я взойти, хотя немного, с ним в общение внутреннее, духовное. Я читала тихонько дневники его, и мне хотелось понять, узнать – как могу я внести в его жизнь и сама получить от него что-нибудь, что могло бы нас соединить опять. Но дневники его вносили в мою душу еще больше отчаяния; он узнал, верно, что я их читала, и стал теперь куда-то прятать, но мне ничего не сказал.
Бывало, я переписывала, что он писал, и мне это было радостно. Теперь он дает всё дочерям и от меня тщательно скрывает. Он убивает меня очень систематично и выживает из своей личной жизни, и это невыносимо больно. Бывает так, что в этой безучастной жизни на меня находит бешеное отчаяние. Мне хочется убить себя, бежать куда-нибудь, полюбить кого-нибудь – всё, только не жить с человеком, которого, несмотря ни на что, всю жизнь за что-то я любила, хотя теперь вижу, как я его идеализировала, как я долго не хотела понять, что в нем была одна чувственность. А мне теперь открылись глаза, и я вижу, что моя жизнь убита. С какой я завистью смотрю даже на Нагорновых каких-нибудь, что они вместе, что есть что-то, связывающее супругов, помимо связи физической. И многие так живут. А мы? Боже мой, что за тон – чуждый, брюзгливый, даже притворный! И это я-то, веселая, откровенная и так жаждущая ласкового общения!
Завтра еду в Москву по делам. Мне это всегда трудно и беспокойно, но на этот раз я рада. Как волны, подступают и опять отхлынивают эти тяжелые времена, когда я уясняю себе свое одиночество, и всё плакать хочется; надо отрезать как-нибудь, чтоб было легче. Взяла привычку всякий вечер долго молиться, и это очень хорошо – кончать так день. Учила сегодня музыке Андрюшу и Мишу и сердилась. Андрюша брюзгливо относится к моей горячности, а Миша всегда жалок. Я очень их люблю и воспитывать считаю отрадным долгом, который, верно, как всегда, исполняю неумело и дурно. У нас Вера Кузминская, и она мне стала родная по чувству, верно, оттого, что на Таню-сестру похожа.
Живу в деревне охотно, всегда радуюсь на тишину, природу и досуг. Только бы был кто-нибудь, кто относился бы ко мне поучастливее! Проходят дни, недели, месяцы – мы слова друг другу не скажем. По старой памяти я разбегусь со своими интересами, мыслями – о детях, о книге, о чем-нибудь – и вижу удивленный, суровый отпор, как будто он хочет сказать: «А ты еще надеешься и лезешь ко мне со своими глупостями?»
Возможна ли еще эта жизнь вместе душой между нами? Или всё убито? А кажется, так бы и взошла по-прежнему к нему, перебрала бы его бумаги, дневники, всё перечитала бы, обо всем пересудила бы, он бы мне помог жить; хотя бы только говорил не притворно, а вовсю, как прежде, и то бы хорошо. А теперь я, невинная, ничем его не оскорбившая в жизни, любящая его, боюсь его страшно, как преступница. Боюсь того отпора, который больнее всяких побоев и слов, молчаливого, безучастного, сурового и нелюбящего. Он не умел любить – не привык смолоду.
5 декабря. Продолжаю дневник. Была в Москве, видела много людей и много приветливости. И за то спасибо судьбе. Таня была там же, с ней всегда мне хорошо, и я дорожу ее близостью. Лева весь дергается нравственно, и как подойдешь к нему – подпадаешь под его толчки и больно бывает. Но он всегда чует, когда толкнул, и это хорошо. Как-то он выберется из своего тревожного и пессимистического состояния…
Вернулась 25-го утром. Левочка собирался в Крапивну с Машей, Верой Толстой и Верой Кузминской. Была метель и холод, но удержать их я была не в силах. Там был суд, и, благодаря влиянию Левочки, преступников-убийц приговорили к очень легким наказаниям: поселению вместо каторги. Вернулись поэтому все очень довольные[67]67
Толстой ездил на заседание Тульского окружного суда по делу четырех яснополянских крестьян, убивших в пьяном угаре своего односельчанина, конокрада Гавриила Балхина.
[Закрыть].
Болел Миша, пять дней горел, что-то желудочное. Пришлось за ним очень ухаживать, утомилась я, не отдохнувши от Москвы. Теперь гости: больной Русанов, Буланже, Буткевич, Петя Раевский. Кроме последнего, все люди чуждые, и скучно с ними. С Левочкой менее чуждо, но у него всё зависит от настроения. Играла сегодня одна Бетховена сонату (Fantasia) и «Аделаиду» и Шуберта разбирала. Вечером читала стихи Фета, вслух, чтоб гостей занять. Но и музыка, и стихи мне доставили удовольствие.
Таня и Маша провожали Веру Кузминскую и вернулись из Тулы к обеду. Вчера была и я в Туле: продажа дров, раздел со священником Овсянникова[68]68
Овсянниково – усадьба в пяти верстах от Ясной Поляны. Со священником села Овсянниково у С.А. была тяжба.
[Закрыть], деньги в банк, покупки. Истратив энергию на практические дела, мне делается тоскливо всегда и досадно. На лучшее могла бы тратиться эта энергия.
6 декабря. Праздник, рождение Андрюши – ему 13 лет. Ходили все на гору и на коньках кататься. Ребята, девки – все нарядные и веселые. Дети очень веселились. Я каталась на коньках вяло, и не веселит больше. Таня уехала в Тулу к Зиновьевым и Давыдовым – на именины. Гости те же: Русанов, Буланже, Буткевич и Петя Раевский, уехавший с Таней.
Чувствую свое физическое потухание, грудь болит, дыханье тяжко, женское состояние тоже тревожное и болезненное. Порадовало письмо Софьи Алексеевны Философовой о старших сыновьях. У матерей одно желанье – чтоб счастливы были дети. А у них там пока, по-видимому, всё счастливо. Левочка всё так же держит себя отчужденно и холодно ко всем, но мне это чувствительней других. Мало делала дела: писала немного дневники Льва Николаевича, гостей занимала, с детьми возилась. Ванечка много времени берет.
7 декабря. Писала весь день, нездоровится. Был Давыдов со следователем, проездом в Крапивну. Читала сказку Лескова «Один час божий»[69]69
Сказка «Час воли божией», впервые напечатанная в журнале «Русское обозрение».
[Закрыть]. Талантливо, но ненатурально. Не люблю ни в чем фальши. Левочка весел и как будто здоров.
8 декабря. Всё переписываю дневник Левочки. Отчего я его никогда прежде не переписывала и не читала? Он давно у меня в комоде. Я думаю, что тот ужас, который я испытала, читая дневники Левочки, когда была невестой, та резкая боль ревности, растерянности какой-то перед ужасом мужского разврата – никогда не зажила. Спаси Бог все молодые души от таких ран – они никогда не закроются.
Учила музыке Андрюшу и Мишу. Андрюша был так зло упрям, что терпенья не хватало. Но я решила быть сдержанной и не рассердилась, но вдруг разрыдалась. Он тоже заплакал, начал слабо обещать хорошо учиться и сейчас же справился. Мне было стыдно, но, может быть, к лучшему.
Читала глупую повесть в «Revue», и вечером Таня читала по указанию Левочки скучную повесть шведскую, в переводе. Хочется читать что-нибудь серьезное, мыслителя какого-нибудь, да не приберу что. Настроена я хорошо теперь, кротко, и думать всё хочется о хорошем. Но сны у меня грешные и спокойствия мало, особенно временами.
9 декабря. Опять с тяжелым чувством кончаю день. Всё – тревожно. Переписывала молодой дневник Левочки. Сегодня гуляла и думала – день удивительно красивый. Морозно, 14°, ясно; на деревьях, кустах, на всякой травке тяжело повис снег. Шла я мимо гумна, по дороге в посадку, налево солнце было уже низко, направо всходил месяц. Белые макушки дерев были освещены, и всё покрылось светло-розовым оттенком, а небо было сине, и дальше на полянке пушистый, белый, белый снег. Вот где чистота. Как она красива везде, во всем. Эта белизна и чистота в природе, в душе, в нравах, в совести, в жизни материальной – везде она прекрасна. И как я ее старалась блюсти и зачем? Не лучше ли бы были воспоминанья любви – хотя и преступной – теперешней пустоты и белизны совести?
Играла на фортепьяно сначала с Таней симфонию Моцарта, потом с Левочкой. Сначала с ним не пошло, и он брюзгливо и недовольный на меня напал; хотя это было коротко и почти незаметно, но у меня так наболел в душе этот его тон со мной, что всё удовольствие игры в четыре руки пропало и стало грустно, грустно – ужасно. Прервал нашу игру приход Бирюкова. Девочки взволновались – Таня за Машу, Маша за себя. Все стали ненатуральны, говорили много и тоже натянуто, вообще неприятно. Надеюсь, что он скоро уедет и Маша успокоится. Раз затеянная глупая история не скоро уляжется[70]70
Павел Иванович Бирюков собирался жениться на Маше, С.А. была против этого брака.
[Закрыть].
Читала роман в «Revue»; девушка в гостях у человека, которого она любит, и как ей радостно быть окруженной той обстановкой, теми вещами, среди которых он живет. Как это верно! Но если эти вещи – сапожные инструменты, сапоги, судно, грязь… Тогда как быть? Нет, никогда к этому не привыкну.
10 декабря. Тяжелое время пришлось переживать на старости лет. Левочка завел себе круг самых странных знакомых, которые называют себя его последователями. И вот утром сегодня приехал один из таких, Буткевич, бывший в Сибири за революционные идеи, в черных очках, сам черный и таинственный; привез с собой еврейку-любовницу, которую назвал своей женой только потому, что с ней живет. Так как тут Бирюков, то и Маша пошла вертеться там же, внизу, и любезничала с этой еврейкой. Меня взорвало, что порядочная девушка, моя дочь, водится со всякой дрянью и что отец этому как будто сочувствует, я рассердилась, раскричалась, ему зло сказала: «Ты привык всю жизнь водиться с подобной дрянью, но я не привыкла и не хочу, чтоб дочери мои водились с ними». Он, конечно, ахал, рассердился молча и ушел.
Присутствие Бирюкова тоже тяжело, жду не дождусь, чтоб он уехал. Вечером Маша осталась с ним в зале последняя, и мне показалось, что он целует ей руку. Я ей это сказала; она рассердилась и отрицала. Верно, она права, но кто разберет их в этой фальшивой, лживой и скрытной среде. Измучили они меня, и иногда мне хочется избавиться от Маши, и я думаю: «Что я ее держу, пусть идет за Бирюкова, тогда я займу свое место при Левочке, буду ему переписывать, приводить в порядок его дела и переписку и тихонько, понемногу отведу от него весь этот ненавистный мир темных».
Лева что-то не едет, здоров ли он. С Андрюшей и Мишей мечтали играть на святках пьесу, переделанную из японской сказки. Вязала Мише одеяло, переписывала, учила детей два часа Закону Божьему и теперь буду читать.









































