Читать книгу "Дневники 1862–1910"
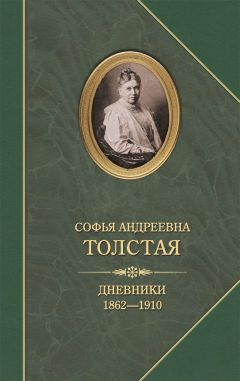
Автор книги: Софья Толстая
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Сережа весел, спокоен и хорош во всех отношениях. Я у него всё осмотрела, так хотелось внести что-нибудь в его жизнь, чтоб ему было еще лучше. Он занят службой земского начальника и теперь секретарем Красного Креста. У него чисто, уютно; привычки порядочного человека, хотя всё бедно и скромно. Дай бог ему силы подольше жить хорошо.
Лева вдруг загорелся ехать в Самару по случаю голода. Его беспокойство меня смущает; опять метаться, бросать университет и с пустыми руками лететь на неизвестность – как деятельность.
Мне дирекция петербургских театров отказала в выдаче поспектакльной платы за «Плоды просвещения». Я очень злилась и на дирекцию, и на Льва Николаевича, лишившего меня радости отдать эти деньги на голодающих. Вчера написала министру двора Воронцову, прося его о выдаче этой платы, не знаю, что из этого выйдет. Укладываемся, собираемся в Москву, скучно, нездоровится, во всем на свете и в семье чувствуется разлад. Народный голод лежит тяжелым гнетом на всем и на всех.
19 октября. Полная апатия. Не еду, не укладываюсь, весь день рисовала Ване книжку. Тут Петя Раевский, Попов (темный) и еще какой-то прохожий интеллигентный человек, идет от Сютаева; мрачный, недовольный, разочарованный и больной. Левочка странно эгоистично весел. Весел жизненно, телесно, а не духовно.
12 ноября. С 22 октября я в Москве с Андрюшей, Мишей, Сашей и Ваней. 26-го Левочка-муж уехал с дочерьми в Данковский уезд, к Иван Иванычу Раевскому в имение Бегичевка, а 25-го Лева-сын уехал в Самарскую губернию в село Патровку. У всех было одно на уме и на душе: помогать народному голоду. Долго мне не хотелось пускать их, долго мне страшно и тяжело было расставаться со всеми, но в душе я сама чувствовала, что это надо, и согласилась. Потом я им даже послала 500 рублей, прежде дав 250. Лева пока взял только 300, и в Красный Крест я дала 100 рублей. Всё это так мало в сравнении с тем, сколько нужно!
Приехав в Москву, я страшно затосковала. Нет слов выразить то страшное душевное состояние, которое я пережила. Здоровье расстроилось, я чувствовала себя близкой к самоубийству. Тут еще случалась смерть Дьякова. В нем мы потеряли лучшего и старейшего друга Льва Николаевича. Я была почти уже при его агонии и при похоронах. Потом у меня заболели инфлюэнцей все четверо детей.
Одну ночь я лежала и не спала и вдруг решила, что надо печатать воззвание к общественной благотворительности. Я вскочила утром, написала письмо в редакцию «Русских Ведомостей» и сейчас же свезла его. На другой день, в воскресенье, оно было напечатано. И вдруг мне стало веселее, легче, я почувствовала себя здоровой, и со всех сторон посыпались пожертвования.
Как сочувственно, как трогательно отозвалась публика к моему письму! Некоторые плачут, когда приносят деньги. С 3-го по 12-е число мне прибыло 9000 рублей денег. 1273 рубля я отослала Левочке, 3000 рублей вчера дала Писареву на закупку ржи и кукурузы; теперь жду от Сережи и Левы письма, что они скажут делать с деньгами. Всё утро я принимаю пожертвования, вписываю в книги, говорю с публикой, и это меня развлекает. Иногда вдруг руки опустятся и так хочется видеть и Левочку, и Таню, и даже Машу, хотя знаю, что Маше самой всегда веселей и радостней вне дома. Странно, когда мы вместе с Левочкой, его неласковость, отсутствие интереса к семье, всё это такой холодной водой меня обдает, что думаешь: «Чего же я хотела? Зачем он тут?» А когда врозь – только и мысли о нем. Это оттого, что я любила в нем лучшее и большее, чем он в состоянии был дать.
Сегодня опять не спала от статей «Московских Ведомостей». Статью Левочки «Страшный вопрос», напечатанную в «Русских Ведомостях» на этих днях, перетолковали по-своему. Объясняют ее с точки зрения «воспрянувшей вновь либеральной партии с политическими замыслами», чуть ли не обвиняют в революционных намерениях. Этот намек на возможность только мысли о каком-либо движении, кроме движения на помощь народу, есть уже само по себе революционное движение самих «Московских Ведомостей». Они намекают слабоумным революционерам, что те могут считать себя солидарными с Толстым и Соловьевым, и это, по-моему, есть та искра, которая бросается в их кружок и которая поможет им подняться духом.
Что за подлая, ужасная газета! И как всё, что есть живого, враждебно к ней относится! Я уж думала писать министру, государю о том вреде, который она приносит, думала поехать в редакцию и пригрозить им; но, не посоветовавшись ни с кем, не решаюсь ничего делать.
Андрюша и Миша учатся в Поливановской гимназии, и Миша идет плохо, а Андрюша средне. Мне их всегда жалко, хочется повеселить, рассеять, вообще у меня всегда стремление к баловству, и это дурно. Сегодня сели мы с детьми обедать; так эгоистична, жирна, сон-на наша буржуазная городская жизнь без столкновения с народом, без помощи и участия к кому бы то ни было! И я даже есть не могла, так тоскливо стало и за тех, кто сейчас умирает с голоду, и за себя с детьми, умирающими нравственно в этой обстановке, без всякой живой деятельности. А как быть?
От министра двора ответ получила. Ввиду моей благотворительной цели, он обещает проценты со спектакльного сбора «Плодов просвещения», и я уже писала об этом директору Всеволожскому.
1892
16 февраля. Еще прошло три месяца, и необыкновенно скоро они прошли. Я опять одна, в Москве с Андрюшей, Мишей, Сашей и Ванечкой. Левочка с Таней и Машей приезжали два раза: первый раз – с 30 ноября по 9 декабря, второй раз – с 30 декабря по 23 января. Бывало много гостей, мы все рады были быть вместе, но еще тяжелее было разлучаться. Тогда я решилась сама ехать с Левочкой и Машей в Бегичевку, а Таню оставила в Москве с детьми. В день нашего отъезда принесли нам статью «Московских Ведомостей» в № 22, в которой перефразировали статью Левочки «О голоде», написанную для журнала «Вопросы философии и психологии», и, сопоставив ее с прокламацией, объявили Льва Николаевича революционером. Мы с Левочкой написали опровержение, которое он меня заставил подписать, и уехали.
Приехав в Тулу, мы застали Елену Павловну Раевскую, у которой остановились, больную, со страшной болью в ноге и лихорадкой. Она, бедная, никак не может поправиться со смерти мужа. Иван Иванович скончался 20 ноября от инфлюэнцы в своем имении Бегичевке, во время пребывания наших там.
Из Тулы 24-го мы поехали по скучной Сызрано-Вяземской дороге на Клекотки. В вагоне у меня сделалось удушье и нервный припадок. Левочка всё выходил, был суетлив, беспечен и молчалив. Погода была отвратительная: таяло, шел дождь, серое небо тяжело свисло, ветер дул страшный. Мы поехали в двух санях: Маша, повар Раевских, старичок Федот, и Марья Кирилловна; а в других, маленьких – мы вдвоем с Левочкой. Было тесно, темно и жутко. Машу всю дорогу тошнило, а меня тревожило, что Левочка простудится от такого ветра.
Наконец доехали к ночи. Встретили нас в Бегичевке, в доме: Илья, Гастев, Персидская, Наташа Философова и Величкина. Илья был в странном, боязливом духе, всё боялся привидения Раевского. На другое утро он уехал, и мы остались с нашими помощницами.
Жили мы с Левочкой в одной комнате. Я взяла все письменные работы и уяснила что могла в их делах.
Потом я пошла смотреть столовые. Вошла в избу: в избе человек десять, при мне стали собираться еще до 48 человек. Все в лохмотьях, с худыми лицами, грустные. Войдут, перекрестятся, сядут. Два стола сдвинуты, длинные лавки. Чинно усаживаются. В решете нарезано множество кусков ржаного хлеба. Хозяйка обносит всех, все берут по куску. Потом она ставит большую чашку щей на стол. Щи без мяса, слегка приправлены постным маслом. К одной стороне сидели все мальчики. Эти были веселы, смеялись и радостно приступили к еде. После щей давали похлебку картофельную или же горох, пшенную кашу, овсяный кисель, свекольник. Обыкновенно по два блюда на обед и два на ужин.
Мы обошли и объехали несколько столовых. Сначала я была в недоумении, как относится народ. Но во второй столовой какая-то девушка, серо-бледная, взглянула на меня такими грустными глазами, что я чуть не разрыдалась. И ей, и старику, сидящему тут же, и многим, я думаю, нелегко ходить получать это подаяние. Не дай Бог взять, а дай Бог дать — это справедливая русская пословица. Потом я равнодушнее смотрела на эти столовые, без которых было бы хуже.
Самое трудное в деле, которое все наши взяли на себя, – это выбор беднейших. Это трудно и в выборе кому ходить в столовые, и в раздаче дров, и в одежде, которую тоже жертвовали, и во всем. Когда я сделала списки, последние дни было 86 столовых. Теперь открыли до ста.
Раз мы с Левочкой ездили вдвоем в чудный ясный день по деревням. Справлялись на мельнице о помоле; заезжали в другой склад провизии велеть выдавать пшена (из Орловки) и вообще узнать о выдаче; и наконец открыли столовую в Куликовке, где погорелые. Вошли к старосте, спросили о беднейших. Велели ему позвать на совет еще старцев и мужиков. Собрались мужики, сели на лавки. Стали их спрашивать, какие семьи беднейшие, и назначали по стольку-то человек из семьи ходить в столовую. Когда я всех переписала, Левочка велел приезжать за провизией во вторник и бабе, жене старосты, предложил иметь столовую у себя так, как прочие погорелые.
Возвращались мы сумерками: с одной стороны красно село солнце, с другой – поднялась луна. Ехали мы по Дону и степями. Местность плоская, скучная. Только по берегам Дона красиво расположены старые и новые усадьбы.
По утрам я кроила с портным поддевки из пожертвованного сукна, и мне их сшили 23 штуки; большую радость доставляли мальчикам эти поддевки и полушубки. Теплое и новое; это то, чего некоторые от рожденья не имели.
Прожила я в Бегичевке 10 дней. Были метели, раз помощницы наши разъехались и дома не ночевали; мы очень беспокоились. Обе эти барышни хорошие: одна, казачка Персидская, румяная, энергичная, лечила народ, и все ее звали «княгиней». Другая, болезненная, худенькая, дочь священника, старательная и сентиментальная; но дело делала, и делала хорошо. Их рассылали проведать или открыть столовые, раздавать платья, записывать нуждающихся в топливе, пище или одежде.
Когда я вернулась в Москву, то постепенно слышала всё большие и большие толки о том, что Левочка будто бы написал письма в Англию о русском голоде; что все негодуют. Наконец я стала получать письма из Петербурга о том, что надо мне спешить предпринять что-нибудь для нашего спасенья, что нас хотят сослать и т. д. Я долго ничего не предпринимала. Целую почти неделю я ездила к зубному врачу всё зубы чинить, но мало-помалу меня разобрало беспокойство. Я написала письма: министру внутренних дел Дурново, Шереметевой, товарищу министра Плеве, Александре Андреевне и Кузминским. Во всех письмах я объясняла истину и опровергала ложь «Московских Ведомостей». Опровержения в газеты печатать запретили, хотя и послала свое в «Правительственный Вестник».
Тогда я поехала к великому князю Сергею Александровичу, которого просила велеть напечатать мое опровержение. Он говорил, что не может, а пусть сам Лев Николаевич напишет в «Правительственный Вестник», и это вполне успокоит взволновавшиеся умы и удовлетворит государя. Тогда я написала Левочке, умоляя его это сделать. Сегодня я получила это письмо и уже послала его в «Правительственный Вестник» сегодня же. Очень жду нетерпеливо известия – напечатают ли его.
Левочка, Таня, Маша и Вера Кузминская опять в Бегичевке. Приехал и Лева из Самары. Жду его с нетерпением и не знаю, что он намерен делать дальше. Сама я притерпелась к своему положению и живу интересами своих четырех детей; начала писать повесть, собираю пожертвования, переписку веду огромную, плачу за купленный хлеб через банки, делаю всякие денежные операции. Кроме того, своих дел много. Порою грустно, а то и хорошие минуты бывают.
Завтра начало поста, хочу поститься.
1893
2 августа. Сейчас узнала от Черткова, что большая часть рукописей Льва Николаевича находится частью у него, а частью у полковника Трепова в Петербурге, о чем пусть знают наши дети. Впоследствии Чертков отбирал все рукописи Льва Николаевича и увозил их к себе в Англию, в Christchurch[89]89
Последняя фраза приписана позднее.
[Закрыть].
5 ноября. Москва. Я верю в добрых и злых духов. Злые духи овладели человеком, которого я люблю, но он не замечает этого. Влияние же его пагубно. И вот сын его гибнет, и дочери гибнут, и гибнут все, прикасающиеся к нему. А я день и ночь молюсь о детях, и это духовное усилие тяжело, и я худею, и я погибну физически, но духовно я спасена, потому что общение мое с Богом, связь эта не может оборваться, пока я не под влиянием тех, кого обуяла злая сила, кто слеп, холоден, кто забывает и не видит возложенных на него Богом обязанностей, кто горд и самонадеян. Я еще не молюсь о меньших, их еще нельзя погубить.
Тут в Москве Лева стал веселей и стал поправляться. Он вне всякого влияния, кроме моей молитвы. Бог внушил послать с ним хорошего человека. Только бы не ослабла во мне энергия молитвы, а то всё пропало. Господи, помилуй нас и избавь от всякого влияния, кроме Твоего.
1894
2 марта. Таня уехала в Париж, с Левой пожить. Ему стало хуже. Ужас давно уже в моем сердце, что он не жилец на земле. Слишком исключителен, хорош и неуравновешен. Живу со дня на день – без жизни. Беспокойство о Леве, отчасти теперь и о Тане – исключило всякие другие жизненные интересы. Сейчас же подломило и здоровье. Сегодня кровь шла горлом – и много; лихорадка по ночам, грудь болит, пот.
Лев Николаевич тоже приуныл, но жизнь его идет по-прежнему: встанет рано, уберет комнату, поест овсянку на воде, пойдет заниматься. Сегодня застала его делающим пасьянс. Завтракал он очень обильно, Дунаев громко рассказывал какие-то истории и не замечал, что они никому не интересны. Потом Лев Николаевич пошел спать, а теперь с удивительной жизнерадостностью, взглянув в окно на яркое солнце и взяв с окна фиников, отправился с Дунаевым на грибной рынок, чтоб бросить coup-d’oeil[90]90
Взгляд (франц.).
[Закрыть] на этот торгующий грибами, медом, клюквой и проч. народ.
Маша нервна, худа и жалка. Сережа очень приятен, и мне грустно, что он скоро уедет в Никольское.
4 августа. Захарьин нашел, что Лева плох. Мое сердце давно это знает. Но как пережить горе видеть погибающим этого молодого, любимого и такого хорошего сына! Сердце так надорвано, так постоянно ноюще болит, с таким усилием живешь обыденной жизнью, что чувствуешь, как вот-вот сил не хватит. А жить надо: надо для маленького Ванечки, для Миши, Саши, даже для Андрюши, у которого многое уже погибло, но светится огонек любви и нежности ко мне.
А всё стало тяжело. Давно гнетущая меня отчужденность мужа, бросившего на мои плечи всё, всё без исключения: детей, хозяйство, отношения к народу и делам, дом, книги, и за всё презирающего меня с эгоистическим и критическим равнодушием. А его жизнь? Он гуляет, ездит верхом, немного пишет, живет где и как хочет и ровно ничего для семьи не делает, пользуясь всем: услугами дочерей, комфортом жизни, лестью людей и моей покорностью и трудом. И слава, ненасытная слава, для которой он сделал всё, что мог, и продолжает делать. Только люди без сердца способны на такую жизнь.
Бедный Лева, как он мучился недобрым отношением отца к себе всё это последнее время. Вид больного сына мешал спокойно жить и сибаритствовать – вот это и сердило отца. Не могу вспомнить без боли эти черные, болезненные глаза Левы, с каким упреком и горем он смотрел на отца, когда тот упрекал ему его болезнь и не верил страданиям. Он никогда их не испытал сам, а когда болел, то бывал нетерпелив и капризен.
Таня тоже в Москве с Левой, и ее жаль и без нее грустно – уж никакого друга не осталось дома, хотя приверженцы Льва Николаевича и он сам и на ее веселую натуру – здравую и жизненную – наложили тяжелый гнет и отчуждили от меня. Сегодня уехал от нас Страхов. Дома жара, купанье с Сашей, сходка мужиков, беганье по неубранным полям в жару до одышки, чудная лунная ночь, теплая и красивая до страданья. Лев Николаевич уехал в Потемкино узнать о погорелых и помочь им благотворительными деньгами. Андрюша уехал в Овсянниково к Шмидт. Миша сидит со мной, Маша с Марьей Кирилловной – на Козловку.
23 ноября. Живем всей семьей в Москве. Центр всей моей жизни и всех моих интересов – больной Лева. Привыкнуть к такому несчастью нельзя. Каждую минуту жизни помнишь его жалкое болезненное состояние, и страх за него болезненно мучает постоянно. Видаю мало людей, мало выезжаю из дому.
Поступила новая англичанка, miss Spiers. Левочка, Таня и Маша уехали к Пастернаку слушать музыку. Играет его жена с Гржимали и Брандуковым. Андрюша после многих неприятностей, причиненных мне последнее время, смирился. Здоровье его плохо: было четырнадцать нарывов, желудок часто расстроен. Миша ясен и весел, но учится плохо.
Снегу нет, и санного пути еще не было. Ветер и 2 ° мороза. Печатаю XIII том, читаю «Marcella» [миссис Хамфри Уорд]. С Левочкой жили долго очень дружно, но последние дни было немного неприятно. Меня сердило его равнодушие к поступкам Андрюши и то, что он мне не помог с ним. Я виновата, главное, тем, что после 32 лет еще надеюсь, что Левочка может что-нибудь сделать для меня и для семьи. Надо радоваться и довольствоваться тем хорошим, что в нем было.
1895
1 и 2 января. Надо писать дневник, слишком жалко, что мало его писала в жизни. Вчера Левочка уехал с Таней к Олсуфьевым в Никольское. Когда я остаюсь без мужа, то чувствую себя вдруг свободной духом и одной перед Богом. Мне легче разобраться с самой собой и с той путаницей, в которой я живу.
События: Лева начал лечение электричеством, стал спокойнее, уехал к Шидловским.
Маша лежит, Саша и Ваня в гриппе, скучают, бегают с девочкой Верой и Колей (артельщика). Андрюша в деревне у Ильи, Миша со скрипкой ушел к Мартыновым. Была метель, 7° мороза.
Сегодня ночью в 4 часа разбудил меня звонок. Я испугалась, жду – опять звонок. Лакей отворил, оказался Хохлов, один из последователей Левочки, сошедший с ума. Он преследует Таню, предлагает на ней жениться! Бедной Тане теперь нельзя на улицу выйти. Этот ободранный, во вшах, темный везде за ней гоняется. Это люди, которых ввел теперь Лев Николаевич в свою интимную семейную жизнь, и мне приходится их выгонять.
И странно! Люди, почему-либо болезненно сбившиеся с пути обыденной жизни, люди слабые, глупые – те и бросаются на учение Льва Николаевича и уже погибают так или иначе – безвозвратно.
Боюсь, что когда начинаю писать дневник, я впадаю в осуждение Льва Николаевича. Но не могу не жаловаться, что всё то, что проповедуется для счастья людей, – всё так осложняет жизнь, что мне всё тяжелее и тяжелее жить. Вегетарианство внесло осложнение двойного обеда, лишних расходов и лишнего труда людям. Проповеди любви, добра внесли равнодушие к семье и вторжение всякого сброда в нашу семейную жизнь. Отречение (словесное) от благ земных вносит осуждение и критику. Когда очень уж обострятся все эти осложнения, тогда я горячусь, говорю резкие слова, делаюсь от этого несчастна и раскаиваюсь, но слишком поздно.
Была Елена Павловна Раевская; приходила посидеть со мной вечер, просила мою повесть. Я пересмотрела ее и вижу, как люблю ее[91]91
Неизданная повесть С.А. «Чья вина? (По поводу «Крейцеровой сонаты» Льва Толстого)».
[Закрыть]. Это дурно, но это так приятно!
К Маше чувствую нежность. Она нежная, легкая и симпатичная. Как мне хотелось бы ей помочь с Петей Раевским! Таню стала любить меньше прежнего; чувствую на ней грязь любви темных: Попова и Хохлова. Мне жаль ее, она потухла и постарела. Мне жаль ее молодости, красивой, веселой и обещающей. Жаль, что она не замужем. Вообще, как мало дала мне моя многочисленная, красивая семья. То есть как мало они все счастливы. А это матери самое больное.
Написала три письма: деловое в Прагу, ответ баронессе Менгден и С.А.Философовой. Ложусь в 3 часа ночи. Читала утром Саше и Ване вслух «80 тысяч верст под водою» Верна. Говорю им: «Это трудно, вы не понимаете». А Ваня мне говорит: «Ничего, мама, читай, ты увидишь, как мы от этого и от “Детей капитана Гранта” поумнеем».
Лева приехал от Шидловских унылый и очень жаловался.
3 января. Встала поздно. Пошла к Маше, Леве, побранила Мишу, что не играет на скрипке и не встает до 12 часов. Потом Лева уехал в клинику лечиться электричеством, оттуда к Колокольцевым. Я дурно досадовала, что он долго не посылал мне лошадь. Поехала с визитами к Мартыновой, Сухотиной, Зайковской и Юнге. Зайковские подняли воспоминания молодости. Но какое грустное, некрасивое впечатление стародевичьей жизни! Неужели мои дочери не выйдут замуж?
Вечером пришли дети играть, а я читала Леве вслух повесть Фонвизина «Сплетня». Пока не очень хорошо, не тонко, грубо. Послала свою повесть прочесть Раевской.
Хочется еще писать, но нет спокойствия, и нервы расстроены, и жаль всегда отнимать свое время у детей, которые так любят быть со мной. Снег засыпал все улицы, дворы, весь наш сад и балкон; 4° мороза.
5 января. Вчера не писала, читала вечером вслух Леве Фонвизина повесть, заинтересовало, но грубо. До третьего часа ночи возилась со счетами, и всё у меня запутано. Не умею. Сидела днем много с Ваней, читала ему, ходила с ним гулять к Толстым[92]92
Сергей Львович с семьей жил в то время в Москве.
[Закрыть]. Сегодня он с утра заболел. Я страшно пугаюсь теперь всего, а особенно нездоровья Ванечки; я прицепила так тесно свое существование к его, что это опасно и дурно. А он слабый, деликатный мальчик, и какой хороший!
Ездила вчера к Варе Нагорновой и Маше Колокольцевой. Везде мне уныло. У меня такая натура, которая требует или деятельности, или впечатлений, иначе я угасаю. А теперь мне приходится всё с больными детьми быть, а это уж хуже всего.
Без Левочки и Тани не скучаю. Приехал Илья и Андрюша. Дождь и 1 ° тепла. Саша все-таки уехала на каток с Мишей и miss Spiers.
8 января. Эти дни болел Ванечка, у него лихорадка и что-то желудочное. Он вдруг так побледнел и похудел, что не могу его видеть без боли сердечной. Вчера Андрюша, Миша и Саша были на детском вечере у Глебовых, а Ваня в жару весь вечер протомился у меня на коленах. Мне очень было грустно лишить его радости. Он хворал раньше гриппом и третью неделю не видит воздуха. Борьба со старшими мальчиками, чтоб приучить их к исполнению обязанностей, делается мне непосильна, и та боль, которую они мне причиняют постоянно этой борьбой, совершенно отталкивает меня сердцем от них. Всё это больно и больно, как больно видеть глупое и пошлое разорение Ильи, и безнравственную жизнь Сережи, и болезнь Левы, и безбрачие дочерей, и этот едва мерцающий огонек жизни в бедном миленьком Ванечке.
С утра дела: уплата прачке и другим, распоряжения артельщику, люди отпросились на свадьбу, принесли бумагу из полиции о деле яснополянской кражи, жалованья, просроченные паспорты и проч., и проч. Потом сидели втроем: Лева, Ванечка и я смотрели картинки в исторических книгах, я рассказывала о египтянах всё, что могла почерпнуть из дальних знаний, читала сказки Гримм.
Приехала Веселитская, пошла сидеть с Левой. Я мерила Ване температуру – 37 и 8. Обедали Нагорновы, Илья, Веселитская. После обеда – Маня Рачинская, умненькая и симпатичная. Дала Илье 500 рублей. Ему не поможешь ничем; чувства меры в моих детях нет, они все неуравновешенны и не понимают чувства долга. Это черта их отца, но он над ней работал всю жизнь, дети же с молодости распускаются – слабость современной молодежи.
Вечером часа два поправляла плохое изложение «Капитанской дочки» Миши. Сейчас к ужасу своему увидала, что он не переписал и половины, а конца совсем нет. Будет опять плохой балл, и опять пойдет на полугодие.
Позднее пришли дети Стороженко и он сам; потом пришел Митя Олсуфьев. Я много с ним болтала, он хорошо всё понимает, но от болтовни всегда остаются угрызения совести.
Событие с фотографией всё еще не улеглось. Приходил Поша[93]93
Павел Иванович Бирюков.
[Закрыть] и обвинял меня, а я – их всех. Обманом от нас, тихонько, уговорили Льва Николаевича сняться группой со всеми темными; девочки вознегодовали, все знакомые ужасались, Лева огорчился, я пришла в злое отчаяние. Снимаются группами гимназии, пикники, учреждения и проч. Стало быть, толстовцы – это учреждение. Публика подхватила бы это, и все старались бы купить Толстого с его учениками. Многие бы насмеялись. Но я не допустила, чтоб Льва Николаевича стащили с пьедестала в грязь. На другое же утро я поехала в фотографию, взяла все негативы к себе, и ни одного снимка еще не было сделано. Деликатный и умный немец-фотограф Мей тоже мне сочувствовал и охотно отдал мне негативы.
Как отнесся к моему поступку Лев Николаевич – я не знаю. Он был очень ласков со мной, но принципиально будет меня осуждать в своем дневнике, в котором теперь он никогда не бывает ни искренен, ни добр.
Маша сегодня не так приятна, как была те дни. Она всегда нехороша, когда должна быть чем-то при других. А сегодня надо быть при Веселитской тем, чем она ей кажется.
Англичанка нехороша. Сухая, несимпатичная, от детей запирается и занята только изучением русского языка и своими развлечениями.
Читаю плохой английский роман, который брошу. Хочу читать историю, чтоб рассказывать по картинкам детям. Ложусь поздно.
9 января. Миша Олсуфьев привез письмо от Льва Николаевича. Он мне пишет упрек, что я не радостна, а сам усложнил и испортил нашу жизнь. Но письмо доброе, и мне приятно, хотя насколько меньше я люблю его, чем прежде! Мне без него не только не скучно, но легче. Сколько раз бесплодно скучала я и горевала его отсутствием, просила побыть со мной, подождать или моего выздоровления, или еще чего. И сколько раз беспощадно били меня по моей привязанности. Если я не радостна, то только потому, что устала любить, устала всё улаживать, всем угождать, за всех страдать. Теперь меня трогают только двое, и оба болезненно: Лева своим состоянием и Ванечка. Я по нескольку раз в день ощупываю его ножки и ручки, как они худы, целую в бледную дряблую щечку и всё мучаюсь, и мне больно. За обедом он мало ест, и я не ем. Совсем на него исстрадалась.
Уехал Илья; с Веселитской спокойно-хорошо и тонко-умно разговаривали. Она мне рассказала всю историю своего развода с мужем. Досадно, что Олсуфьев не женится на Тане, хотя разлука с ней была бы горем.
Приходил Дунаев, была Маша Зубова утром; уехала Маня Рачинская. Провела день очень праздно и с гостями; устала, нервна и безжизненна. Погода хорошая, 3° мороза.
10 января. Если б меня спросили, что я теперь чувствую, я бы сказала, что перестала жить. Меня ничего не радует, а всё только огорчает и огорчает.
День прошел вяло: сидела с Лидией Ивановной (она сегодня уехала), читала Ване сказки Гримм, ходила в аптеку и на рынок Ване и Леве за зернистой икрой. Андрюша и Миша очень благонравны; Саша играла на своем органчике вальс, Миша ей аккомпанировал на скрипке, и всегда он поражает своим слухом и прекрасной манерой играть. Лева ездил к Шидловским; он спокойнее, но плох и худ по-старому. Слушая игру, Ванечка говорит: «Как я бы желал выучиться делать что-нибудь очень-очень хорошо! Учи меня, мама, скорей музыке».
Вечером была в бане, брала ванну. Пили чай с Машей вдвоем, говорили об Олсуфьевых и Тане. Дождь льет, 3° тепла и грязь.
Ночью била негативы с фотографий группы темных и своей бриллиантовой серьгой старалась из них прежде вырезать лицо Льва Николаевича, что плохо удавалось. Легла в 3 часа ночи.
11 января. С утра Ваня кашлял хриплым кашлем, сидела всё с ним, читала ему сказки Гримм; потом попробовала срисовать наш сад – без ученья ничего нельзя. Потом пошла, для здоровья больше, разметать снег на катке. В окно увидала, что Ваня вскочил и бегает неодетый. Вернувшись, рассердилась дурно на няню, она неистово кричала, а Ваня заплакал.
Обедали все дома. Миша именинник, я дала ему 10 рублей, и вечером они взяли деревенского кучера Ильи Абрамку в цирк и восхищались его наивной радости. Он прислан за купленной Ильей лошадью. Вечером пошла посидеть к Леве, нечаянно упомянула о его нервах, повторив слова доктора Белоголового, что всё дело в нервах. Лева неожиданно вскочил, начал страшно браниться: дура, злая, старая, вы все врете!.. Каково переживать такие вещи! Всё меньше и меньше делается его жалко, так он беспощаден и зол, хотя всё это от болезни, за болезнь все-таки его жаль.
Зато Андрюша, вернувшись из цирка, всё мне говорил, что они мало меня ценят, что я удивительно хорошая, что он меня любит больше всех на свете.
До трех часов ночи разбирала письма Льва Николаевича к сестре Тане и мои к ней, а потом перечитывала его письма к Валерии Арсеньевой, на которой когда-то он хотел жениться. Письма очень хорошие, но он никогда не любил ее.
Мороз 5°, ясно и красиво.
12 января. Встала раньше, дала Ване апоморфин от кашля, который усилился. Открыла форточку, 10° мороза, вымылась холодной водой, но всё не оживилась. Так что-то нерадостно. Сидела с Ваней, читала ему, принимала гостей. Были Чичерин, Лопатин, с которым говорили хорошо о смерти; между прочим, он говорил, что жизнь не была бы так интересна, если б не было этой вечной загадки впереди – смерти. Потом приехали Петровская и Цурикова. Цурикова осталась и обедать, и ночевать. Тип старинной барышни дворянской с гаданием в карты, огромным кругом знакомства и влюблением до 40 лет.
Вечером у Ванечки оказался опять жар, и я опять страшно встревожилась. Что-то во мне надломилось и болит внутри, и я собой совсем не владею. Взяла на себя, съездила на панихиду Лопухиной, заехала за Мишей к Глебовым и посидела еще часок у Толстых. Пришла оттуда пешком и немного боялась.
Лева опять кроток, Маша очень мила и старается помочь, и мальчики ласковы. Чичерин сегодня говорил о Левочке, что в нем два человека: гениальный литератор и плохой резонер, поражающий людей парадоксальными эффектами самых противоречивых мыслей. И он привел несколько примеров. Чичерин любит Льва Николаевича, но по старой памяти; он видит в нем того Льва Николаевича, которого он знал молодым и от которого хранит множество писем.
13 января. Разбирала письма голодных времен от жертвователей; рвала те, в которых только цифры и официальные фразы, откладывала те, в которых выражение мыслей или чувств. Ваня помогал очень мило. Бедный крошка, всякий день жар, и очень он опять побледнел и похудел.
14 января. Сидела с Ваней, читала ему. Вечером Бугаева, Зайковская, Литвинова. Глупо болтали. У Вани утром 37 и 8, вечером 38 и 5. Кашель мягче, насморк гуще.
Остановка жизни и души, и тела. Жду пробуждения.
15 января. Пробуждение не наступило, тоска усилилась; оттого ли, что утомляюсь, целые дни глядя на больного Ванечку и Леву, и это влияет на нервы и настроение.
Весь день напряженно и усиленно занимала Ванечку. Вечером был доктор, Филатов, не нашел ничего осложненного ни в легких, ни в горле, и селезенка не увеличена. Грипп – и больше ничего.









































